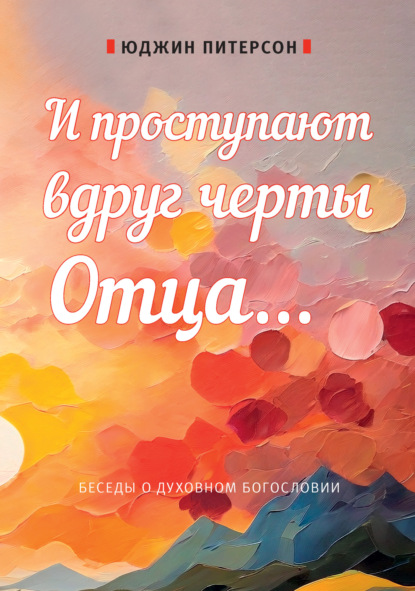
Полная версия:
И проступают вдруг черты Отца… Беседы о духовном богословии
Христос играет в творении. Мы живём в чрезвычайно сложной вселенной, рядом с миллионами других форм жизни, связанных с нами самым непосредственным образом. В мире происходит очень много всего, и нам не хочется ничего упускать. Сейчас, когда всё и вся рассматривается преимущественно с прагматической, функциональной точки зрения и ощущение сокровенности, сакральности всего живого и неживого неуклонно размывается, мы поговорим о том, что христианин должен принимать всё творение, радоваться ему и почитать его как сокровенный дар, исходящий от Бога и обретающий свою полноту в рождении Христа.
Христос играет в истории. Но жизнь – это не только дар творения. Все мы также погружены в историю, где не последнюю роль играют грех и смерть: нам не понаслышке известны страдания и боль, разочарования и потери, катастрофы и зло. В наш век стремительно нарастающего знания и блестящих технических достижений легко решить, что ещё немного знаний и технологий – и мы переломим ход событий, и мир наконец-то начнёт становиться лучше. Однако до сих пор ничего подобного не произошло. И не произойдёт. Неопровержимые исторические факты и документы из недавно закончившегося (двадцатого) столетия четко показывают, что оно было самым кровопролитным за всю историю[7]. Нам нужна помощь. Мы будем размышлять о том, как христианам войти в ту историю, которая обретает свой окончательный смысл в смерти Христа и в проистекающей из неё жизни спасения.
Христос играет в сообществе. Христианская жизнь – это жизнь рядом с другими и ради других. Мы ничего не можем делать в одиночку или исключительно для себя. В наш век крайнего индивидуализма легко подумать, что христианская жизнь – это прежде всего то, за что отвечаю я сам, лично. Однако в духовном богословии нет места ни эгоизму, ни философии типа «помоги себе сам». Мы подумаем о том, как выглядит наше место в сообществе, созидаемом Христовым Святым Духом, и как нам стать полноценными участниками всего, чем является и что делает воскресший Христос и как жить жизнью Его воскресения.
Расчищая игровое поле
«Придите ко Мне… научитесь от Меня; ибо Я кроток и смирен сердцем…»
Мф. 11:28–29Как только были написаны Евангелия, начались рассуждения, не подкреплённые личным опытом и заигрывающие с новыми фактами, исходящими из существования Церкви… Люди пытались представлять себе новую жизнь, не познав её лично в форме призыва, слушания, страсти или перемены сердца.
Ойген Розеншток-Хьюсси [8]Энергия духовности кипит повсюду, и это, в общем, хорошо. Однако в то же самое время духовность склонна к неточностям, которые засоряют игровое поле и затрудняют разговор. Особенно часто такие неточности возникают в следующих четырёх аспектах. Во-первых, духовность очень быстро, почти неизбежно, приобретает оттенок высокомерного элитизма, когда мы вдруг замечаем, как «бездуховны» многие из тех, кто работает рядом с нами и ходит в нашу церковь. Во-вторых, на волне энтузиазма, порождённого первым личным опытом, духовность незаметно отходит от своего основного текста, от Библии, и кидается в привлекательный мир книг по самопомощи. В-третьих, оказавшись наедине с современной культурой, которая с готовностью подсовывает ей свои термины и понятия, духовность размывается или полностью утрачивает своё отличительное евангельское содержание. Наконец, реагируя на якобы «мёртвое» богословие, духовность быстро впадает в богословскую амнезию, отрезая себя от осознания величественных и обширных горизонтов познания Бога, от тех поистине необъятных просторов, в которых мы призваны проживать свою христианскую жизнь.
Мне хотелось бы облечь эти современные, но расплывчатые энергии духовности в добротные библейские одежды и направить их навстречу Иисусу, чтобы потом, после должной подготовки, они могли по-настоящему «играть» в творении, истории и сообществе вместе с Христом. Чтобы расчистить поле для разговора и убрать завалы недопониманий и неточностей в этих четырёх сферах мне понадобятся две библейские истории, три текста, четыре термина и один танец. Две библейские истории помогут мне выровнять игровое поле, чтобы мы могли жить в смирении и без притворства (противодействуя элитизму); три текста заложат библейское основание для жизни в послушании (противодействуя философии «помоги себе сам»); четыре термина позволят нам сфокусироваться на Евангелии, чтобы жить точно и верно (противодействуя культурной расплывчатости), а танец выведет богословие вперёд, на поле действия, чтобы наше воображение расширилось и смогло вместить в себя подлинную жизнь (противодействуя убогим горизонтам чисто секулярного мира).
Две библейские истории
Рассказать человеку какую-то историю – самый естественный способ не только расширить и углубить его ощущение реальности, но и помочь ему войти в эту реальность. Истории открывают перед нами дверь в такие стороны жизни, о которых мы или не знали, или забыли из-за их привычности, или вообще не думали, потому что считали, что они не для нас. Но истории – это словесное выражение гостеприимства, и теперь, когда дверь открыта, они приглашают нас войти.
В начале своего Евангелия св. Иоанн записывает две истории, которые явно приглашают всех войти в христианскую жизнь.
В первой речь идёт о Никодиме, иудейском раввине (Ин. 3). Опасаясь за свою репутацию, он пришёл побеседовать с Иисусом под покровом ночи. Он лишился бы авторитета среди коллег-раввинов, если бы те узнали, что он ходил за советом к этому непонятному странствующему учителю, этому пророку-назарянину из галилейской тьмутаракани, от которого явно можно ожидать вообще чего угодно. Поэтому он пришёл к Иисусу ночью. На первый взгляд, никакой особой цели у него не было; он просто хотел познакомиться с Иисусом и начал разговор с комплимента: «Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3:2).
Но Иисус услышал стоящий за этими словами невысказанный вопрос: какая-то цель у Никодима всё-таки была. Он не стал тратить время на предварительные любезности и сразу перешёл к делу; Он прочитал, что было у Никодима на сердце, и заговорил сразу об этом: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (3:3). Так вот зачем пришёл к нему Никодим – спросить о том, как попасть в Божье Царство, как жить под Божьим правлением, как войти в Божью реальность. Очень странно.
А странно это потому, что как раз во всех этих вопросах Никодим должен был разбираться досконально. Так почему же он тайком от всех пробрался ночью поговорить об этом с Иисусом? Неужели он был таким смиренным человеком? Кстати, очень может быть. Лидеры, которые пользуются уважением, компетентно отвечают на вопросы и, судя по всему, действительно живут в соответствии с тем, что говорят, нередко испытывают острый внутренний разлад: «На самом деле я совсем не такой, каким считают меня люди. Чем лучше я проповедую, чем больше меня уважают, тем больше я чувствую себя лицемером. Я все прекрасно знаю – но живу совсем не так, как надо бы. И чем старше я становлюсь, чем больше знаю, тем шире становится пропасть между тем, что я знаю, и тем, как я живу. С каждым днём я становлюсь всё хуже…»
Так что да, может быть, Никодим действительно пришёл к Иисусу из чувства глубокого смирения. Он искал не богословскую информацию, а способ войти; не новое знание о Царстве, а друга или проводника, который мог бы подвести его к двери и помочь ему попасть внутрь. «Как мне войти?..»
Или, может быть, его привело к Иисусу любопытство. Чтобы удержать своё влияние, лидерам необходимо опережать конкурентов, следить за последними трендами и знать, что именно пользуется спросом. К Иисусу стекаются толпы народа – так чем же Он их привлекает? Как Он это делает? В чём Его секрет? Никодим был настоящим профессионалом, но прекрасно знал, что просто почивать на лаврах нельзя. К тому же мир вокруг стремительно менялся. В Израиле смешалось сразу множество культур: греческая мудрость, римские политические структуры и еврейские нравственные традиции, перемешанные с сектами гностиков, тайными культами, террористическими группировками и всевозможными авантюристами и фанатиками мессианского толка. Ситуация менялась чуть ли не еженедельно, и Никодиму надо было зорко следить за тем, куда дует ветер, если он хотел оставаться осведомлённым и удерживать власть в своих руках. Сейчас главной новостью дня был именно Иисус, и, возможно, Никодим пришёл к Нему, чтобы выведать что-нибудь полезное в плане стратегии или информации. Что ж, и это тоже вполне правдоподобно.
Но евангелист Иоанн совершенно не разделяет нашего с вами любопытства о том, что именно привело Никодима к Иисусу. Его не интересуют мотивы; он рассказывает нам не о Никодиме, а об Иисусе. Иисус не спрашивает Никодима, почему тот пришёл, и Иоанн тоже об этом не думает. После короткого гамбита Иисус перехватывает инициативу и предлагает гостю поразительную метафору, требующую отдельного внимания: «родиться свыше» или «родиться заново»: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (3:3). И сразу же, не давая Никодиму даже перевести дух, Иисус добавляет ещё один, ещё более странный образ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (3:5). В арамейском языке, на котором, судя по всему, говорил Иисус, как и в греческом, на котором писал св. Иоанн, «ветер», «дыхание» и «дух» передаются одним и тем же словом. Поскольку в этих языках одно и то же слово обозначает и движение воздуха в результате сокращения лёгких, и движение воздуха в результате перепадов атмосферного давления, и животворное движение живого Бога внутри нас, каждый раз, когда это слово употреблялось, слушателю необходимо было напрячь воображение и спросить себя, о чем идёт речь: о дыхании, о погоде или о Боге?
Не успели мы задать себе этот вопрос, как Иоанн проясняет ситуацию, употребляя это слово и в буквальном, и в переносном значении в одном предложении: «Ветер [пневма] дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа [пневма]» (3:8).
Никодим качает головой. Он ничего не понимает.
* * *Следом евангелист рассказывает ещё одну историю, на этот раз про женщину из Самарии (Ин. 4). Здесь действие происходит не ночью, как в случае с Никодимом, а среди бела дня, в Самарии, возле Иаковлева колодца. Когда самарянка приходит за водой, Иисус сидит у колодца один. Он начинает разговор с просьбы дать Ему напиться. Женщина удивляется, что с ней заговорил этот мужчина, этот еврей, ведь между евреями и самарянами уже не одно столетие продолжается религиозная вражда. Возможно, она не только удивилась, но и насторожилась. Прислушайтесь к её голосу, когда она спрашивает: «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, самарянки?» (4:9). Нет ли в нём нотки вызова, нотки недоверия к этому незнакомцу, сидящему у колодца? Надо сказать, что для недоверия у неё были все основания. Жизнь изрядно её потрепала. Чуть позже мы узнаем, что она уже пять раз была замужем и сейчас живёт с мужчиной, который ей не муж. Нетрудно представить себе, сколько чувства отвержения, сколько горьких неудач стоит за всем этим, сколько ран, обид и печалей накопилось за эти годы в её теле и душе. Для неё быть женщиной – значит быть жертвой. Быть рядом с мужчиной – значит быть в опасности. Никогда не знаешь, что дальше скажет и сделает этот чужак. Расслабляться нельзя ни на секунду.
Или всё как раз наоборот? Может быть, в её голосе вам слышится не настороженность, а призывное кокетство? Может быть, она пытается его соблазнить? Может быть, она безжалостно, одного за другим использовала своих пятерых мужей, а теперь пытается найти себе ещё одну, шестую жертву? Может быть, мужчины для неё – всего лишь средство, чтобы обеспечить себя комфортом, повысить социальный статус или получить доступ к власти, и когда очередной муж перестаёт удовлетворять её амбиции, похоть или гордыню, она просто его бросает? Вполне возможно, что при первом же взгляде на Иисуса она тут же начала измышлять, как Его соблазнить: «О, вот ещё один! А он ничего! Надо подумать, на что можно его раскрутить!»
Вообще, это всегда интересно – представлять, что там произошло на самом деле, заполнять пустоты, угадывать мотивы и чувства, стоящие за действиями и словами, и пытаться заглянуть в жизнь другого человека. Но, как и в случае с Никодимом, Иисус не выказывает ни малейшего интереса к этой игре, да и Иоанна тоже не интересуют мотивы самарянки. Он принимает женщину и её слова как есть, без вопросов. Мы понимаем, что, как и в эпизоде с Никодимом, главное действующее лицо здесь не женщина, а Иисус.
Теперь, когда разговор уже начался, Иисус вдруг начинает говорить загадками: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую» (4:10). Вскоре становится ясно, что Он использует слово «вода» в переносном смысле – точно так же, как «ветер» в беседе с Никодимом. Если вначале «вода» означала воду, которую можно достать из колодца ведром, то теперь имеется в виду нечто совершенно иное, нечто внутреннее: «источник воды, текущей в жизнь вечную» (4:14). А затем к ней добавляется метафора, которую мы уже слышали в разговоре с Никодимом: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (4:24).
Здесь в слове «дух» физическое ощущение дыхания и ветра снова соединяется с природой Бога и тем, как Он действует. Именно в тот момент, когда разговор, как кажется, вот-вот скатится к спору о том, где правильнее поклоняться Богу, слова Иисуса вдруг создают новую реальность, в центре которой оказывается Бог.
И женщина это понимает. Она проводит параллель между тем, что знает о Мессии, и тем, что говорит ей Иисус, кто Он для неё. И тут же начинает в Него верить.
* * *Важно отметить, что в обеих этих историях (которые св. Иоанн явно не случайно ставит рядом) в центре действия оказывается Божий Дух: жизнь и реальность Бога, созидающее Божье присутствие, Его дыхание, наполняющее нашу жизнь, как когда-то оно наполнило Адама, – то самое дыхание, дающее нам жизнь, которую не даст и не объяснит никакая биология.
Между этими эпизодами есть ещё одна параллель: они настоятельно подчёркивают доступность Божьего Духа для всех. К сожалению, современное употребление слова «духовность» нередко имеет оттенок некой элитарности, ощущение того, что она доступна лишь немногим избранным. Но в этих двух историях нет ни малейшего намёка на что-то подобное. Боговдохновенная жизнь предлагается всем и доступна самым разным людям. Бог зовёт нас в жизнь. Без каких-либо предварительных условий – и точка.
Всеобъемлющая щедрость этого приглашения-призыва видна, прежде всего, в самом выборе слов. Метафоры, которые использует Иисус, доступны абсолютно всем; они понятны без словаря и взяты из повседневной жизни. С Никодимом Он говорит о рождении, с самарянкой – о воде. Все мы непосредственно знакомы и с тем и с другим и без дополнительных пояснений прекрасно знаем, о чём идёт речь. Все мы знаем, что такое рождение: мы живы, а значит, когда-то родились на свет. Все мы знаем, что такое вода: мы несколько раз в день используем её для питья, для умывания и так далее. Общая для обеих историй метафора ветра/дыхания тоже всем понятна. Все мы знаем, что такое ветер/дыхание: подуйте на свою ладонь, сделайте глубокий вдох и посмотрите, как колышутся на ветру листья.
Но есть тут и кое-какие дополнительные моменты.
Первая история – о мужчине; вторая – о женщине. В христианской жизни нет места гендерному неравенству.
Первая история разворачивается в большом городе, центре светской культуры, науки и моды; вторая – на окраине провинциального городка. Так что география тоже никак не влияет ни на способность воспринять Божью истину и жизнь, ни на глубину этого восприятия.
Никодим является респектабельным членом строго ортодоксальной еврейской секты фарисеев; женщина принадлежит к числу презираемой секты еретиков-самарян, да ещё и сама обладает весьма сомнительной репутацией. Получается, что расовая и этническая принадлежность, религиозная практика и личная нравственность тоже не являются предопределяющими фактами в вопросах духовности.
Мужчину мы знаем по имени; женщина так и остаётся безымянной. Судя по всему, репутация и положение в обществе тоже не имеют особого значения.
И ещё одно: Никодим начинает разговор с Иисусом с религиозного утверждения: «Равви, мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога». Начиная разговор с женщиной, Иисус просит у неё воды; в Его словах нет ничего религиозного. Такое чувство, что в христианской жизни неважно, кто именно начинает разговор, мы или Иисус, и о чём идёт речь, о небесном или земном.
Кстати, в обеих историях на карту поставлена репутация: Никодим рискует своей репутацией, если Его увидят в обществе Иисуса; Иисус рискует Своей репутацией, если Его увидят в обществе самарянки. И тут и там есть ощущение, что с обеих сторон собеседники несколько пренебрегают общепринятыми устоями, переступают порог осторожности и внутренне готовы к риску, что их могут понять неправильно. Когда мы подступаем к самому главному, к самому важному, нет ни гарантированных результатов, ни привычных условностей поведения. Итак:
Мужчина и женщина.
Город и деревня.
Влиятельная личность и изгой.
Профессионал и дилетант.
Респектабельный мужчина и женщина с сомнительной репутацией.
Ортодоксальный верующий и еретичка.
Проявляющий инициативу и отвечающая на чужую инициативу.
Названный по имени и безымянная.
Человек, рискующий свой репутацией; Бог, рискующий Своей репутацией.
И вот ещё что: в обоих эпизодах ключевым словом является «дух». «Дух» связывает все различия и контрасты в обеих историях, соединяя их в одно повествование. В обоих разговорах «Дух» обозначает, главным образом, Бога и только косвенно отсылает нас к мужчине и женщине: в первом случае человек рождается от Духа («так бывает со всяким, рождённым от Духа»), и Дух является главным источником, основным действующим лицом, главной причиной того, что человек обретает способность «увидеть» Царство и «войти» в него (оба эти глагола используются в разговоре). Во втором эпизоде мы узнаём, что Бог есть Дух; соответственно, поклоняться Ему следует в духе и истине. Получается, что говорить о том, что нам делать, а чего не делать, в принципе можно только потому, что Бог есть Дух.
И наконец, последний момент: в обоих эпизодах главный герой – Иисус. Никодим и самарянка предоставляют Ему возможность что-то сказать, но содержанием разговор наполняет именно Он. Когда речь идёт о жизни – то есть о том широком контексте, в котором мы говорим все свои слова и делаем все свои дела, – в центре её всегда действует Иисус. Он куда активнее любого из нас, и именно Он придаёт энергию всему происходящему.
* * *Мы к этому не привыкли. Чаще всего мы используем слово «духовный» (образованное от деятельности Божьего Святого Духа) для описания собственных качеств, желаний, настроений или достижений. Как это ни печально, в результате его смысл оказывается безнадёжно искажённым. Но эти две истории помогают нам вернуться к первоначальной ясности: мы перестаём обращаться исключительно к собственному и чужому опыту, чувствам или достижениям, когда в Иисусе Христе пытаемся понять ходящего среди нас Бога, Божьи пути и то, как Он призывает нас вступить на эти пути. Эти истории помогут нам расчистить место для отправной точки. Мы уже убрали кое-какой мусор, когда установили, что:
– духовность – это не свод тайных знаний;
– духовность никак не связана с темпераментом и личными способностями;
– в духовности самое главное не вы и не я, не личная сила, власть или обогащение; самое главное здесь – Бог.
Но поскольку сейчас слова «духовный» и «духовность» так часто используются в полном отрыве от библейского откровения (а порой и наперекор ему), в этой книге мы будем часто (но не всегда) употреблять словосочетание «христианская жизнь» в качестве синонима слова «духовность».
* * *Подлинно библейская христианская церковь всегда открыто и радушно принимала «заблудших», людей, не отличавшихся высоким социальным статусом, образованностью или благочестием, а также тех, кого отвергали официальные религиозные институты. Однако нередко – и особенно в те времена, когда церковь становилась общепризнанной частью культуры и заметно разрасталась численно, – её решимость принимать изгоев явно ослабевала, так что людей, оказавшихся на обочине общества, не пускали и в церковь. Но в результате именно эти люди и их голоса помогали церкви вспомнить её изначальное предназначение и открыть двери для тех, кому не нашлось места в обществе.
Во всех вопросах духовности необходимо сохранять бдительность. Искушение впасть в элитизм всегда «лежит у порога» (Быт. 4:7): даже если Евангелие – это действительно для всех, «продвинутые» дела Царства вдруг оказываются доступны лишь избранным, и в социальном и культурном плане эти «избранные» почему-то всегда принадлежат к среднему или высшему классу, в то время как неимущим и необразованным особого внимания не уделяется. Однако «евангельское» христианство с одинаковой силой и радушием направлено как на своих, так и на чужих. Христианская духовность процветала и давала удивительные плоды и в маленьких городских общинах, арендующих помещения бывших магазинов, и в далёких степных поселениях, даже если верующие там говорят совсем не так, как принято говорить в столичных мегацерквях или уединённых ретритных центрах где-нибудь в горах.
Три библейских текста
Две рассказанные выше истории уже поставили в центр внимания слово «дух», приглашая всех и каждого войти в жизнь возрастающей близости с Господом. Слово «дух», обозначающее Божьего Духа или Святого Духа, занимает важное место в Писании и Предании, постоянно напоминая нам, что живое Божье присутствие неизменно находится и действует среди нас. Оценить масштаб этого созидательного действия Духа в мире нам помогут три текста: Быт. 1:1–3, Мк. 1:9–11 и Деян. 2:1–4. Каждый из них отмечает некое начало, и в каждом из них инициатором этого начала становится именно Дух.
Как писал однажды Г. К. Честертон, в мире есть два типа людей: когда деревья качаются на ветру, одни говорят, что это ветер колышет деревья, а другие – что это деревья производят ветер[9]. На протяжении большей части истории большинство людей придерживалось первой точки зрения, и только в последние годы, по словам Честертона, возникла новая порода людей, беззастенчиво утверждающих, что именно движение деревьев и порождает ветер. До сих пор все были согласны, что за видимым эффектом стоит невидимая сила, придающая ему энергию. Как журналист, пристально наблюдающий за людьми и событиями, Честертон с беспокойством отмечает, что былого консенсуса по этому вопросу уже нет, так как большая часть наших современников наивно предполагает, что основной реальностью является именно то, что мы видим, слышим и трогаем, и именно эта чисто физическая реальность порождает всё то, что невозможно проверить пятью человеческими чувствами. Люди считают, что всё невидимое объясняется видимым.
Утратив метафорическое происхождение слова «дух», в повседневной речи мы неизбежно сталкиваемся с серьёзным словарным дефицитом. Представьте себе, как изменилось бы наше восприятие реальности, если бы слово «дух» вообще пропало из языка и вместо него мы употребляли слова «ветер» и «дыхание». Для наших предков «дух» не был чем-то «духовным»; его можно было ощутить чувственно. Он был невидимым, но производил видимый эффект. Он был невидимым, но игнорировать его было нельзя. Воздух не менее материален, чем гранитный утёс; его можно ощущать, слышать и измерять; в нём содержатся молекулы, необходимые для дыхания всего живого, как животных, так и людей, которым воздух нужен уже для того, чтобы спать и просыпаться, – будь то лёгкий выдох, на котором мы произносим слова, весенний ветерок, ласкающий кожу, порывистый бриз, надувающий паруса, или дикий ураган, срывающий с амбаров крыши и с корнем вырывающий деревья.
Всё было бы куда понятнее, если бы можно было хотя бы на время убрать из языка слова «дух» и «духовный».
Но эти три текста, если прочитать их внимательно, помогут нам расчистить вязкую грязь словесной неточности. Они описывают три начала: начало творения, начало спасения и начало церкви: святое творение, святое спасение и святое сообщество.
Книга Бытие 1:1–3«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».
Всё начинает Бог. И начинает Он с того, что творит. С этого акта творения начинается всё существующее, видимое и невидимое, «небо и земля». В результате из всего не-творения или анти-творения – то есть из всего «безвидного и пустого» и не имеющего света (из «тьмы над бездною») получается нечто имеющее форму и содержание и наполненное светом. Не-творение или пред-творение уподоблены волнам океана, тёмного и глубокого, бесформенного, анархического, дикого, непредсказуемого, сеющего смерть.



