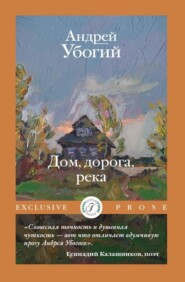скачать книгу бесплатно
А ты представлял себе те ночные снега и пространства, сквозь которые мчится вагон. Что отделяло всех вас, пассажиров, от стужи и тьмы? Только эта дощатая тонкая стенка – по сути, скорлупка, – так отчего же все спали так безмятежно и сладко? Неужели достаточно лишь эфемерной преграды меж нами и миром, чтоб этот чужой, равнодушный и даже враждебный мир был нам не страшен? В этом гудящем, дрожащем, качающемся вагоне, посреди ледяной темноты, каждый спал так, словно он был в своём доме, в привычной постели, в надёжном углу.
Вагон продолжал гудеть и качаться; по окнам порой пробегали короткие светлые блики – быть может, огни переездов? – и эти гуденье, качанье, мельканье – они усыпляли тебя, словно зыбка, в которой убаюкивают младенца. Глаза закрывались сами собой, рука сонно свешивалась в проход, а вагон, подвывая, дрожа и качаясь, летел и летел сквозь бездонную ночь…
Итак, ты просыпался на подмостях, разбуженный стуком железнодорожных колёс. Под щекой у тебя лежал ватник, потёртый, истрёпанный, что называется, видевший виды. Из прожженных дыр торчали клоки серой ваты, рукава залоснились, один накладной карман был наполовину оторван. Но всё равно ты свой ватник любил и старался с ним не расставаться. Если даже он не играл роль одежды, то служил тебе или подстилкой, или одеялом, или подушкой. Имея ватник, можно было заснуть не то, что на подмостях, но и на кирпичной куче: сквозь слой простёганной ваты углы кирпичей не так уж и сильно впивались в рёбра. Запах же ватника сохранял следы той работы, которой ты в нём занимался. Клал кирпичи – сырые рукава пахли цементным раствором; обрезал тёс на пилораме – от ватника, обсыпанного опилками, исходил смолистый запах сосны; крыл рубероидом крышу – на ватнике оставались пахучие липкие пятна гудрона; жёг костёр – ватник пах, естественно, дымом.
И ватник был больше, чем просто одеждой, он был, по сути, переносным жилищем, дарившим тепло и защиту. Когда ты замерзал зябким туманным утром или росистым – туманным же – вечером, то стоило только набросить на плечи ватник, как холод и сырость становились тебе нипочём. А если шёл дождь – нудный, холодный и затяжной, – то ватник опять был незаменим. Промокать-то он, разумеется, промокал, но наружный слой ваты, напитавшись водой, глубже внутрь эту воду не пропускал. И можно было целый день проходить в сыром ватнике под дождём, но не промокнуть до нитки и не особо замёрзнуть: даже волглая вата хранила тепло.
Правда, и просушить сырой ватник было непросто. Бывало, сгрудимся возле костра – а на стройке обычным топливом служили обломки лаково-чёрного битума – и только что не ложимся на алое чадное пламя, которое лижет промокшие наши фуфайки. От ватников валит пар, а вата, торчащая из многочисленных дыр и прорех, смуглеет, трещит, даже тлеет, когда её трогает пламя. Потому-то и были все наши ватники в дырах и смуглых разводах, что мы хотели быстрее их просушить и нещадно прожаривали на кострах.
По-настоящему, ватник достоин памятника. В чём воевали солдаты Великой войны? В тех же ватниках, перепоясанных солдатским ремнём, за который цеплялась граната, штык-нож да засовывалась сапёрная лопатка. В чём работали зэки на лесоповале в колымские сорокаградусные морозы? Что, матерясь, бросали шофёры на мёрзлую землю, когда залезали под неисправные ЗИСы или «полуторки»? В чём сельские бабы шли на поля и на фермы? В чём работали миллионы подростков у токарных станков в цехах эвакуированных заводов? Словом, без ватника было не выжить; зато в нём люди переносили невыносимые трудности.
Когда я размышляю о юности, как возрасте расставания с домом, на память приходит картина пожара в смоленской деревне Сяковка – пожара, которому я был не только свидетелем, но и невольной причиной.
Стояло сухое жаркое лето. Наш стройотряд возводил кирпичное здание котельной, и работали мы от темна до темна. От такой напряжённой работы даже в нас, загорелых и жилистых двадцатилетних студентах, накапливалась усталость, и, подняв стены до перекрытий, мы решили устроить банный день. Договорились с дояркой по имени Зинка, что воспользуемся её банькой – она, покосившаяся и ветхая, стояла как раз рядом со стройкой.
Меня, как большого любителя париться, назначили истопником. Опыта топить баню по-чёрному (да и по-белому тоже) у меня не было, иначе бы я, поглядев, до чего ветха эта банька, нипочём бы не стал распалять её печь до такой силы. Но молодость тем и опасна, что не знает границ. Печь грозно гудела; брёвна банного сруба, и так пересохшего от многодневной жары, тревожно потрескивали, а я продолжал подсовывать в печь, под самый свод каменки, мгновенно занимавшиеся берёзовые поленья. Плотный белый дым затянул баню; незадымлёнными оставались каких-то полметра над полом, и пробираться к печи приходилось на четвереньках, зажмуривая глаза от едкого дыма и нестерпимого жара. Очередное поленце я сунул в топку поспешно, почти вслепую; и где уж мне было заметить, что один из камней свода упал в полыхавшую печь – и клуб искр взметнулся к горячему потолку?
Задыхаясь и обливаясь потом, я выполз наружу – полуденный зной показался блаженной прохладой, – и какое-то время в ушах у меня раздавался только грозный гул банной печи. Но вдруг я расслышал протяжный и жалобный бабий крик. Он доносился от огородов за баней, и, хоть пока он был тих и далёк, я мало что в жизни слышал страшнее. В том нарастающем и приближавшемся вопле – кричала уже не одна баба, а несколько – было столько беды, боли, памяти, что у меня заболело сердце. Мгновенно похолодев, я повернул голову и увидел: истошно кричащие бабы бегут ко мне напрямик, огородами, топча картофельные ряды, а в бледное небо над баней, клубясь, поднимается дым…
Секунд пять я не мог двинуться с места: ужас этой картины – чёрный дым и бегущие с воплями бабы – меня парализовал. Затем, забежав за угол бани, я своими глазами увидел то, о чём уже догадался: задний угол пылал, как свеча. Тяга огня была столь велика, что она срывала с кровли листы рубероида, и они, крутясь, взлетали в столбе чёрно-алого дыма. Потом я ощутил, как жар опалил мне лицо и как затрещали волосы. Я заметался, ища ведро, нашёл, побежал с ним к водоразборной колонке, а когда возвращался, увидел, что к бане со стройки бегут все наши ребята.
Удивительно, до чего быстро и слаженно все включились в спасательные работы. Видимо, в нашей генной памяти сохранился не только бабий истошный вопль, но хранится и то, как надо вести себя в общей беде. Быстро выстроили цепочку, передавая вёдра с водой от колонки до полыхающей бани. Быстро сообразили, что баню уже не отстоять, и поливали стены и кровли ближайших сараев. Когда же вода в колонке закончилась, взялись за лопаты и забрасывали землёй те искры, что падали с дымного неба на крыши сараев, поленницы дров и сенные навесы.
Минут через десять всё было кончено. Пожарной машине, приехавшей через полчаса, осталось лишь полить водой пепелище, отчего повалил такой густой пар, что кто-то из нас, засмеявшись, предложил в нём и попариться. Что ж, уже можно было шутить, и громкий, нервический хохот то и дело взрывался в чумазой и потной толпе, окружавшей то место, где была Зинкина баня. Сама Зинка тоже оказалась здесь и даже немного повыла, но больше для вида, чтобы исполнить народный обряд под названием «плач погорельцев». Убытка она не понесла никакого: на следующий день мы собрали вскладчину двести рублей и отдали Зинке, при том, что сгоревшая баня не стоила и половины. А деревенские жители нас даже благодарили. «Слава Богу – говорили они, – что баня сгорела, когда вы были здесь и не дали огню пойти по деревне. Случись это в другое время – а оно б непременно случилось, – от всей нашей Сяковки остались бы одни головешки…»
А вот мы – те, кто видел пожар и пытался его потушить, – ощутили, что мир, казавшийся нам неизменным и вечным, на самом-то деле так хрупок, что достаточно сущего пустяка, чтоб, скажем, дом превратился в руины или пепелище. Построить дом трудно – мы, строители, хорошо это знали, – а разрушается или сгорает он так легко и так быстро, словно во всём, что построили люди, живёт некий дух разрушения, и ждёт только удобной минуты, чтоб показать свою силу и власть. Не могу отделаться от ощущения, что пожар, случившийся в Сяковке летом 1983 года, находится в некой таинственной связи со всем тем, что произошло и с общагой, и с нашей страной спустя несколько лет. Тогда, в день пожара, мир для меня как бы треснул – и эта трещина, разорвавшая прежний его монолит, с каждым днём расширялась и углублялась…
Когда мы возвратились в город и из строителей превратились снова в студентов, то оказалось, что наша общага – в которой мы жили так долго, с которой сроднились – закрылась на капитальный ремонт. Нас, старшекурсников, тоже привлекали к ремонтным работам, тем более что строительный опыт у большинства из нас был. Причём в старой общаге затеяли не просто ремонт, а перестройку с тем, чтобы в корне переменить назначение здания, чтоб изгнать из него тот дух общего существования, без которого мы, дети старой общаги, уже и не знали, как жить.
До сих пор не пойму, чем объяснить тот безумный азарт разрушения, с которым мы дружно кидались пробивать перегородки, обрушивать стены, с хрустом вздыбливать и ломать половицы, высаживать оконные рамы – словом, своими руками сокрушать тот самый мир, в котором мы выросли и который любили? Ведь это был наш, родной мир – эти стены, полы, коридоры и комнаты были, в каком-то смысле, нами самими, так отчего же столько радостной злости кипело в нас, когда мы размахивали кувалдами и вонзали острия монтировок меж досками пола и эти доски стонали от наших ударов, как люди?
Зачем мы своими руками сокрушали наш общий дом? Ведь в глубине души мы все чувствовали, что тот новый мир, куда нас увлекал и наш молодой, оголтело-бездумный азарт разрушения, и само, вдруг ожившее и стремглав побежавшее время, что новый мир ещё долго нам будет не мил, ибо тот, кто родился и вырос в общаге, в глубинах и недрах её райских сумерек, тот будет чужд иной жизни.
И всё-таки мы разрушали наш дом, не оттого ли, что юность – по сути своей, по своей изначальной природе – не может не разрушать, в том числе и дома? Недаром же все революции, что происходили и будут происходить, дело прежде всего молодых.
Что сталось с общагой? Нет, её не разрушили до основания, в ней, перестроенной до неузнаваемости, поместили администрацию и кафедры института. И это действительно стал иной мир – иной до того, что в нём зазвучала иноземная речь: фразы на хинди или английском в скором времени стали здесь совершенно обычны.
А вскоре после того, как мы сокрушали – и сокрушили-таки! – нашу общагу, слово «перестройка» зазвучало по всей стране и по миру, и за короткое время было нарушено равновесие целой планеты.
III
Мир стал другим. Очень быстро – сейчас кажется, что в одночасье – страна, в которой мы жили, превратилась из страны общежитий в страну особняков и бомжей.
Особняки 90-хгодов прошлого века – «лихих девяностых», как их потом окрестили, – местами росли так стремительно, что этим безудержным ростом напоминали какие-то опухоли. И возводились они на «нездоровые» – как правило, криминальные – деньги и нередко прижимали-теснили соседей именно так, как растущая опухоль давит соседние ткани. Правда, и «умирали» эти особняки тоже быстро, и чаще всего недостроенными: когда иссякали криминальные деньги, питавшие их – хозяин садился в тюрьму, уезжал из страны или вовсе ложился в могилу, – то рост стен останавливался, решётки на окнах ржавели, а бурьян поднимался выше заборов.
А наряду с быстро растущими особняками характерной приметой тогдашней страны стали бомжи – люди, оставшиеся без дома. По сути, одновременное появление особняков и бомжей было единым процессом. Чтобы в одной стране и в одно время во множестве появились дома-особняки, кто-то должен был свои дома потерять и превратиться в лицо «без определённого места жительства». Бомжи тогда были всюду, и их было множество. Я уж не говорю про рынки, вокзалы, церковные паперти или подземные переходы – места, где было удобнее просить милостыню или надеяться на случайный копеечный заработок, – но бомжи появлялись в любом месте города, стоило только остановиться где-либо с пивною бутылкой в руках. Казалось, они возникали от одного хлопка пивной пробки и, стоя поодаль, но при этом внимательно наблюдая за убылью пива, выжидали момент, когда можно будет завладеть опустевшей бутылкой. Иные вели себя деликатно, застенчиво осведомлялись: «Простите, а вы посуду сами сдавать будете?» – и, если ты отрицательно мотал головой, до поры куда-либо скрывались, чтобы не мозолить тебе глаза; другие, напротив, нагловато усаживались неподалёку и даже просили: «Командир, оставь пару глотков!»
Понятно, что на деньги, вырученные со сдачи пустых бутылок, бомжам было не купить квартиру и даже не получить крышу над головой хотя бы на одну ночь. «Бутылочные» деньги шли на дешёвую выпивку, которой тогда появилось разливанное море. На эту-то выпивку, в сущности, многие и променяли свои дома. Подпоив человека, и так-то любившего выпить, да ещё посулив ему быстрые деньги, было не так уж и трудно выманить у бедолаги жилище – и вот, всего через несколько месяцев и через несколько шагов по социальной лестнице вниз, многотысячная армия бомжей пополнялась очередным новобранцем. Бутылка дешёвого пойла в руках – вот что имел теперь человек вместо дома. И эта бутылка – точнее, её содержимое – на какое-то время и впрямь создавала иллюзию дома: захмелев, человек уж не чувствовал себя таким бесприютным в том мире, в котором ему довелось доживать свои дни. Жизнь вновь становилась бродяге мила – как и в прошлом, когда он имел и свой угол, и крышу над головой.
А уж когда хмельной бомж засыпал, так он и вовсе словно бы возвращался домой. Возможно, ему дом и снился тот самый, родительский, из которого он и отправился в этот неласковый мир. Вообще, сон есть приют и убежище – своего рода дом – для всех нас, кто пока ещё жив; как и смерть есть большой общий дом для всех тех, кто уже умер.
Где жили бомжи в ожидании последнего сна, который был должен их всех приютить под табличками номерных безымянных могил? Их домами служили подвалы и чердаки – тогда они ещё не запирались, – колодцы теплотрасс, где тёплые трубы могли обогреть даже в лютую стужу, шалаши, сгороженные из картонок и досок на городских свалках, или опустевшие на зиму дачи.
Да, опустевшие дачи… То, что происходило в те годы, было настоящей гражданской войной: когда армия обнищавших бездомных людей, пытаясь спасти и продлить свою жизнь, осаждала и грабила те укрепления, которые их сограждане воздвигали для спасения жизни собственной. И в этой гражданской войне, растянувшейся чуть ли не на десятилетие (да и сейчас не вполне стихшей), обе стороны были по-своему правы, что и делало эту войну общенародной трагедией.
Прав ли бомж, замерзающий и голодающий, когда он, в поисках пищи, тепла и хотя бы временного приюта, выставляет окно покинутой на зиму дачи, забирается внутрь и живёт там какое-то время, топя чем придётся печку-буржуйку и подъедая припасы, оставшиеся после хозяев? Замерзающий и голодающий прав; и никакой высший суд не осудит его за попытку спасения собственной жизни.
А прав ли в своём гневе хозяин дачи, когда он, приехав в очередной выходной, видит свой дом разорённым, загаженным и осквернённым, а то ещё, не дай Бог, видит на месте любимого домика лишь пепелище? Прав, конечно, и он. Тем более, дачники – чаще всего люди небогатые и работящие. Годами и по крупицам они создавали свой маленький рай, не разгибались над грядками, сажали кусты и цветы, обживали игрушечный домик – не для того же, чтоб вдруг увидеть, на месте своей воплощенной мечты, мерзость разорения? Кроме того, дачи были в прямом смысле слова кормилицами страны, а уж тем более они стали ими в те смутные годы, когда всё вокруг рушилось и надеяться можно было лишь на лопату в руках да на шесть дачных соток земли.
И вот на эту кормилицу, эту мечту и любовь, совершалось грубое и беззаконное нападение. Понятна и ярость хозяев, и те оборонные меры, что принимались дачниками страны против непрерывно наступающего и всё более многочисленного противника. Запоры, решётки, замки и заборы помогали конечно же мало. Вскладчину нанимались охранники, или сами же дачники организовывали дежурства на дачах; кое-кто устанавливал даже капканы, надеясь поймать нарушителей. Доходило и до стрельбы: в больницу, где я работаю, не раз привозили подстреленных и покалеченных обозленными дачниками бомжей.
И всё это было сражением за дом – за то, чтоб его сохранить или им овладеть.
Я дач, конечно, не грабил и не разорял, но всегда любил их рассматривать, проходя или проезжая на велосипеде улицами какого-нибудь пригородного дачного посёлка. В такие моменты казалось, что ты оказался в игрушечной жизни – конечно, похожей на настоящую, но лишённой её тяжеловесной серьёзности. Здесь, среди маленьких домиков ярких расцветок, среди клумб, цветников и дорожек, скамеек, кустов, я себя чувствовал словно ребёнком, который мечтал вот как раз о таких «пряничных» домиках, даже их рисовал неумелой детской рукой и неожиданно наяву очутился в живых декорациях сказки.
Воплотившийся детский рисунок – домик с трубой и крыльцом, с кругом солнца над крышей, с цветами на ярко-зелёной траве – вот чем была почти каждая дача. И люди, которые строили этот сказочный городок, а затем обживали его, стремились скорее не столько к практической выгоде – очень уж трудоёмким и неэффективным было дачное сельское хозяйство, – а к тому, чтоб исполнить мечту детских лет. И длинный, тернистый, порой занимавший чуть не целую жизнь путь от детских каракулей к этой чистенькой даче, сиявшей окошками в окружении мальв и пионов, был истинно творческий путь.
Творить в общепринятом смысле – сочинять симфонии или писать картины – дано немногим, но попытаться построить свой дачный маленький рай мог почти каждый: дачное творчество было одним из самых демократичных. А то, что на это общенародное творчество государством налагались жёсткие ограничения – это и скромные шесть соток участка, и определённая площадь, и даже толщина стен дачных домиков, – было, в сущности, только на пользу. Творчество невозможно без ограничений: хотя бы уже потому, что творцу необходимо иметь границы, которые он пытается преодолеть.
Вот и творили строители дач, кто как мог и умел. И хоть дачные домики часто бывали похожи, но среди них, как и среди человеческих лиц, найти близнецов было трудно. Домики строились из кирпича и из брёвен, из дощатых щитов и железнодорожных шпал, а порою роль дачного домика играл строительный вагончик или списанный контейнер для грузоперевозок. Но всё, даже контейнеры или вагончики, хозяева дач старались отделать по-своему, старались придать любимому детищу не общее выраженье лица.
Вообще, смысл жилища не сводится к чисто утилитарным вещам – к защите от недругов, холода или дождя. Нет, смысл дома глубже и шире: он в том, чтоб вернуться в утраченный рай. И всегда, когда люди мечтают о доме, они в глубине души хотят не просто удобства, тепла и покоя, но хотят оказаться в ином, лучшем мире, чем тот, где они обитают сегодня. Как-то, помнится, я прочитал фразу, принадлежащую одному английскому кинорежиссёру: «Рай – это постель в библиотеке с окнами в сад». И подумал: а ведь Гринуэй (так зовут режиссёра) имел в виду именно дом, стоящий в саду. И мне сразу стала понятней и ближе важнейшая из национальных черт англичан – обожествление ими домов.
Конечно, английская жизнь и история развивались иначе, чем русская: англичане много веков не знали такого повального истребления домов, какое происходило в России. Поэтому для англичанина дом вполне мог казаться чем-то несокрушимым – таким же, как камни, из которых он сложен. В России же, где едва ли не каждое поколение видело, как на месте селений чернеют, дымясь, пепелища, – в России трудней было видеть в доме незыблемую опору. Библейское выражение: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где тля тлит, и воры подкапывают и крадут» – в России вполне могло быть дополнено своим, выстраданным: «…и где дома обращаются в пепел…»
Но и в России мечта о доме не умирала. И вот как раз дачное движение, охватившее страну во второй половине 20-го века, тому яркий пример. Люди, которым суровое государство (всегда норовившее больше брать, чем давать) неожиданно выделило дармовые шесть соток, – люди как обезумели от привалившего на их долю счастья. И хоть земля этих дач формально оставалась за государством, всё равно миллионы людей, забывая про отдых и сон, кинулись воплощать ту мечту, что всегда жила в их сердцах. Кто помнит, во что превращались пригородные автобусы и электрички по выходным дням, думаю, согласится со мной: это было какое-то общенародное помешательство. Никакими соображениями практической выгоды нельзя было объяснить тот порыв, который заставлял людей, в большинстве своём немолодых, взваливать на спины мешки, рюкзаки и корзины, хватать лопаты и тяпки и штурмовать двери переполненного вагона, опасаясь, что очередной поезд в рай отправится – не дай Бог! – без них.
Посмотришь, бывало, на шумный, толкающийся и гомонящий перрон – на все эти вёдра, корзины, на зубья граблей и прутья аккуратно увязанных саженцев, на сапоги и фуфайки, косынки и кепки, на всё это озабоченно-нетерпеливое копошение дачников, – и подумаешь: это же эвакуация! Люди словно бегут из тех мест, где им было плохо и где они не могли быть самими собой, туда, где им, может быть, будет лучше, где они вспомнят и встретят самих же себя. Если верно, что жизнь – это бой (так считал, например, Марк Аврелий), то миллионы дачников, вооружаясь лопатами, можно сказать, с боями выходили из окружения, прорывались к родным райским местам. Недаром так часто можно было услышать, в разговорах на том же перроне: «Ну что ты! У меня на даче сущий рай…»
Вот к раю-то, к райскому дому они все и стремились. А когда возвращались последними воскресными электричками, то на их лицах, вместе с дачным загаром и двухсуточным изнеможением, читалась застенчиво-затаённая радость. Как будто и впрямь эти люди едут из мест, о которых словами не рассказать, но которые ждут нас и ныне и присно: от нас самих лишь зависит, когда и какими путями мы возвратимся туда…
Но, справедливости ради, надо взглянуть и с другой стороны. Нельзя не отметить и трудно оспорить тот факт, что многие из великих учителей человечества – людей, явивших нам образцы мудрости и добродетели, – были бездомны.
Принц Гаутама, который стал Буддой, как ушёл в юности из отцовского дома-дворца, так больше туда и не возвратился. Великий китайский мудрец Лао-цзы кончил жизнь настоящим бомжом: он ушёл за границу Китая, на север, и канул в безлюдных пространствах пустынь.
Апостолы, ученики Христа, тоже не имели домов. Точнее сказать, их дом был везде, ибо домом был Дух. А Франциск из Ассизи? Где жил этот святой, едва ль не полнее всех прочих Христовых учеников воплотивший живой образ Учителя? Он бродил по дорогам, проповедуя птицам небесным, называя всех братьями и даже смерть именуя сестрой.
А если даже мудрец имел дом, то это нередко бывало что-нибудь вроде Диогеновой бочки или пастушьей хижины Гераклита: нечто столь примитивное, жалкое, бедное, что назвать это домом как-то и не поворачивается язык.
Так что же, выходит, дом не относится к высшим и безусловным ценностям для человека и самые лучшие люди обходятся без домов? Разумеется, к высшим ценностям дом не относится; но – как бы это точнее выразить? – хоть дом и не есть сама Истина, но для многих из нас путь к ней лежит через дом. Бродяга, скитающийся по дорогам и не знающий, где преклонить голову, вряд ли открыт красоте и способен к добру: ему лишь бы выжить. Зато если дом защищает его от невзгод и напастей, если он согревает его, дарит отдых и сон – тогда человек, может быть, постарается сделаться лучше, чем есть: иными словами, он будет пытаться стать человеком.
Бездомные люди, как правило, не создавали ни книг, ни картин и не совершали научных открытий: хотя бы на время, но всякий из тех, кто творит, нуждается в доме. Да что говорить, если даже богам люди строят дома. И так ли уж детски наивны людские предположения о том, что вот-де божество самолично является в храме, возведённом в его честь, принимает там жертвы или молитвы, какое-то время там даже живёт – совсем как те люди, что строили храм по образу и подобию собственных, пусть и более скромных, жилищ? Но ведь богам никакой дом не нужен – они-то уж как-нибудь обойдутся без крыши над головой, – храм нужен людям, которые его возводили, затем, чтоб не чувствовать своего одиночества и бесприютности в мире. В жизни каждого бывают минуты, когда он ощущает себя потерянным, одиноким, бездомным, но, стоит ему войти в храм той религии, к которой он – пусть даже и не по собственной вере, но хотя бы культурной традиции – принадлежит, как человек, скорее всего, испытает блаженное чувство: наконец-то он дома!
У меня такой опыт связан, естественно, с церковью; и если бы мне не случалось зайти в православный храм где-нибудь на чужбине, думаю, что чувство дома, во всей его полноте и отрадности, так и осталось бы мне незнакомым. Только в храме, где курятся кадила и потрескивают свечи, где гудит бас диакона и мерцают оклады икон, где взлетают под купол распевы церковного хора, – только в храме и понимаешь (уже не рассудком, а всем существом), что истинный дом – это вовсе не стены, не кровля, не кухня с плитой и не спальня с кроватью; нет, дом – это чувство, что ты не потерян и не одинок в этом мире и всё, что с тобой происходит, имеет задачу и смысл. Дом – это чувство причастности к тайне, величию и глубине, или, выражаясь совсем уже коротко, истинный дом – это Дух, который конечно же, дышит, где хочет, но здесь, в стенах храма, дыханье Его ощутимей всего…
Вернусь к описанию собственной жизни и того, как тема дома продолжала звучать в ней. Дачи, которую в смутные годы нам пришлось бы оборонять от бомжей, у нашей семьи никогда не бывало, но у нас был дом, в котором мы жили и который тоже испытывал невзгоды и тяготы смутного времени. Этот дом цел доселе, и мы в нём доселе живём: в год, когда пишутся эти строки, исполняется сорок восемь лет нашего пребывания на Бушмановке, в доме номер двадцать четыре. Поэтому я просто обязан подробнее описать главный дом своей жизни. Как в семилетием возрасте я зашёл в этот подъезд, так до сих пор вхожу-выхожу из него. Мало того что сын с дочерью выросли здесь, так теперь вот и годовалую внучку Анюту случается подносить к окну, показывая ей зимний двор: «Вон, смотри, дерево… А вон птица…» А Анюта знай смотрит смышлёными карими глазками и задумчиво произносит: «Ага-а…»
Каков же наш дом? Он двухэтажный, кирпичный, с двускатною крышей, на восемь квартир. Его построили в 1964 году: мы с ним почти ровесники. Возводили его как жильё для сотрудников психиатрической больницы – на её территории дом и расположен, – но теперь в нём живут в основном пенсионеры.
Ещё в сравнительно недалёкое время – четверть века назад – это место считалось деревней Бушманов – ка. И хоть теперь нас приписали к Калуге, черты деревенской жизни сохранились и в доме, и в его окружении. По утрам слышно, как хрипло кричат петухи и как собаки из-за заборов облаивают прохожих; зелень садов окружает дома, а футбольное поле, расположенное рядом, чаще служит не для игры, а для выпаса коз и коней.
А птицы? Да один перечень птиц, прилетающих к нашему дому, кормящихся по окрестным садам и оглашающих их своим свистом и щебетом, занял бы много места и времени. Здесь, по сути, целый орнитологический парк: как-то, взявшись перечислять всех, кто к нам прилетает или хотя бы пролетает над нашим домом, я насчитал тридцать два вида птиц.
Есть и ещё особенность здешней жизни, до сих пор роднящая нас с деревней. Это многочисленные сараи и погреба, которые здесь нагородили жильцы больничных домов. Согласитесь, что обитатель современной городской многоэтажки вряд ли может позволить себе роскошь спуститься в собственный погреб, чтобы поднять оттуда ведро картошки или банку собственноручно засоленных огурцов.
И вот эта рубежность нашего дома, одновременно и городского, и деревенского, сыграла немалую роль в моей жизни. Ощущение себя одновременно и деревенским, и городским жителем позволяет воспринимать ту полноту существования, какую навряд ли способен почувствовать коренной горожанин или пожизненный обитатель села.
Но наш дом стоит ещё на одном рубеже. И если граница деревни и города лежит в плоскости социальных явлений, то граница, о которой я хочу теперь рассказать, лежит много глубже. Дело в том, что наш дом расположен на территории психиатрической больницы, для сотрудников которой его и построили более полувека назад, и поэтому он представляет собой как бы крепость, которую здравый смысл и рассудок возвели против безумия, вечного спутника человека. А то, что в просторечии психиатрическая больница именуется «сумасшедшим домом», и имя посёлка Бушмановка, где он расположен, для калужан давным-давно носит иносказательный смысл, это всё открывает для нас в теме «дом» новые грани.
Да, дом бывает и сумасшедшим. Начиная с Бедлама, лондонской тюрьмы для умалишённых (чьё имя также давно стало нарицательным), люди строили и особенные дома для безумцев, помещая туда тех несчастных, кого не удерживали рамки обыденной жизни.
Живописать дом безумия на этих страницах вряд ли уместно; хотя я, в качестве сначала студента, затем медбрата, а затем врача-консультанта, провёл немало времени в сумасшедших домах и не понаслышке знаю их жизнь. Скажу лишь одно: прожив на свете достаточно долго и волей-неволей из года в год сравнивая степень безумия внутри стен психиатрических отделений с безумием нашей обыденной жизни, я вижу, что это сравнение часто не в пользу последней. Порой начинает казаться, что как раз в сумасшедшем доме порядка и здравомыслия больше, чем в том обезумевшем мире, в котором мы с вами вынуждены существовать. Если так пойдёт дальше, то впору менять местами таблички, потому что мы все будем жить на большой, чуть ли не во весь земной шар, территории сумасшедшего дома.
И не оттого ли я так нежно люблю территорию нашей больницы, где я живу уже целых полвека, что это одно из последних здоровых, пригодных для человеческой жизни мест? Когда я возвращаюсь из города, из его суеты-толчеи, из его лихорадки, вот на эти аллеи, в ихчинный покой и порядок, неизменный вздох облегчения вырывается у меня из груди. Вот только что вокруг были шумные улицы, их бензиновый чад и угар, пестрота и назойливость разнообразных реклам, была масса соблазнов, от мелькающих женских коленей до сладкого запаха сдобы из двери кондитерской, был поток того шумного и возбуждающего, что тревожило чувства, рассудок и душу и никак не давало услышать себя самого. Тебя непрерывно куда-то тащило, звало, окликало, манило; казалось, весь мир задался одною-единственной целью – заморочить, сбить тебя с толку и не позволить остаться самим собой. И вдруг – слава Богу, что путь от шумного центра до тихой Бушмановки недалёк – весь этот морок и чад отступает, и ты с облегченьем вступаешь в иное пространство. Здесь тихо и зелено, чисто, здесь никто никуда не летит сломя голову, здесь лица прохожих осмысленны, взгляды спокойны. «Ну, наконец-то, – думаю я на дорожках больничного парка, – Наконец-то я оказался в нормальном мире!»
С каждым вдохом и выдохом чувствуешь, как чист здешний воздух – чист не только от городских газов, пыли и шума, но чист и от всякого рода психических отклонений. Ибо всё ненормальное и извращённое, всё искажённо-больное здесь названо собственным именем, отсортировано и обозначено, разделено по палатам и корпусам, внесено в формуляры, истории и картотеки: то есть сам воздух здесь словно бы отфильтрован от невидимых и вездесущих флюидов безумия.
Как же мне не любить это славное место? К тому же больничный парк чудесен и сам по себе: когда-то его разбивал и растил настоящий мастер садово-паркового искусства. Каких деревьев здесь только нет: берёзы и клёны, дубы и акации, лиственницы и тополя перемежаются рябинами, липами, вязами. Аллея лиственниц осенью светится таким нежным золотом хвои, что кажется, стройные эти деревья всегда, даже в пасмурный день, озарены солнцем. А таких пышных белых акаций, возможно, нет в самом Киеве, которому и посвящён знаменитый романс о цветущих акациях, «невозвратимых, как юность моя…».
И этот больничный парк легко и естественно переходит в сады, что разбиты у наших домов, в том числе и в семейный наш сад. Деревья здесь всё больше плодово-ягодные: груши, яблони, вишни и сливы. И здесь, среди юной поросли слив, стоит наша «Муза-русалка» – скульптура, которую как-то, в день моего тридцатилетия, притащили в подарок друзья-приятели. Вот представьте, девушка – нет, скорей даже девочка лет четырнадцати – с рыбьим хвостом и такой удивительною улыбкой, перед которой, на мой взгляд, меркнет даже улыбка Джоконды. В этой детской улыбке видишь доверие к миру и одновременно насмешку над ним, детскую радость и зрелую мудрость, видишь лукавство и простодушие – словом, видишь так много всего, что это русалочье улыбающееся лицо порой представляется чуть ли не ликом самой природы, тоже наивной и мудрой, доверчивой и насмешливой одновременно.
В смутные годы развала империи и перестройки всей прежней жизни под угрозою оказались и наши дом, двор и сад. Вопрос выживания вставал беспощадно и остро; бывали дни, когда я буквально не знал, чем кормить семью завтра.
Вовремя сообразив, что надеяться в трудные дни можно только на землю и на лопату в руках, мы с отцом раскопали пять соток целины в овраге неподалёку и в первый же год вырастили неплохой урожай картофеля: худо-бедно перезимовать было можно. Но возникла другая проблема: где эту картошку хранить? Первую осень мы ссыпали наш урожай прямо в подъезде, под лестницу; но там было слишком тепло, и картошка ещё до весны проросла. Потом отец вспомнил способ, который использовался на Курщине в послевоенные годы: хранить картофель в земляной яме. И мы выкопали яму в саду, и картофель отлично в ней долежал до весны. Неудобство было в одном: не будешь же ради ведёрка-другого картошки разрывать зимой снег и долбить мёрзлую землю?
Так что как ни крути, а без погреба нам, выживающим в трудные годы, было не обойтись. Выкопать погреб, чтобы в нём сохранить урожай, для нас было почти тем же самым, что для обороняющегося солдата отрыть окоп полного профиля, то есть найти и защиту, и помощь в той самой земле, на которой мы жили.
Итак, мы договорились с соседом Виталием, что выроем погреб сразу на две семьи, и в середине мая взялись за работу. Редко я трудился с таким наслаждением, как тогда, когда мы с отцом и Виталием копали котлован. Лучше всего было то, что эта работа не требовала ни навыка, ни размышлений – как говорится, бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Вечера стояли погожие, тёплые; вокруг всё цвело; мы работали под сопровождение сочно щёлкавших по садам соловьёв и под нежный гул майских жуков. Отстояв день за операционным столом, я с наслаждением разминал поясницу, сгибаясь и разгибаясь, выбрасывая землю из ямы. Нечасто я окунался в такой же блаженный покой, как тогда, день за днём погружаясь в землю: по колена, по пояс, по грудь. Мне даже мерещилось, что, когда я скроюсь в земле с головой, покой, которого я так ищу всю свою жизнь, станет полным и необратимым.
Лопат у каждого из нас было две, совковая и штыковая. Штыковой мы рубили плотную глину, крошили её на упругие ломти, то рыжеватые, то синеватые, а совковой выбрасывали грунт из ямы. И хорошо, что лопаты чередовались, потому что менялись наши движения и мышцы, которые мы напрягали. Конечно, сейчас я в четверть тех сил не сумел бы работать. Но тогда, когда мне было тридцать три года, казалось, что я, если нужно, докопаюсь до центра земли. До сих пор помню шарканье, с каким лопата скользит по дну ямы, собирая глиняные комки, и то, как эти комья взлетают на фоне цветущих яблонь и вишен…
Когда котлован оказался выкопан, мы трое были чуть ли не разочарованы тем, как быстро вынули грунт, и тем, что теперь предстоит уже не такая простая работа. Но мы справились и с бетонированием основания погреба, и с кладкой кирпичных стен. Тем более, уж с чем-чем, а с каменной кладкой я был знаком со студенчества. Мы как раз удачно купили машину красного кирпича – ещё тёплого, только что из печи, – и начали кладку. Руки мои быстро вспомнили, как нужно держать кирпич, мастерок и отвес. Опять, как когда-то, я чувствовал левой рукой шероховатые кирпичные грани, а правой ощущал, как мягкая клякса раствора расползается под языком мастерка. Стена росла быстро – мы клали её в полкирпича, – и теперь я не погружался в котлован погреба, а, напротив, всплывал: сначала из ямы показалась моя голова, затем плечи, спина – и вот уже я заканчивал кладку, стоя на краю котлована.
Интересной работой была гидроизоляция стен. Куски битума мы растапливали в ведре: огонь лизал закопчённое днище, а лаково-чёрные, клейкие ломти таяли и оплывали, и всё больше радужных нефтяных пузырей поднималось и лопалось в недрах ведра. Квач – ветошь на палке – наматывал на себя тягучую чёрную массу и пачкал ею красные кирпичи кладки. В потёках битума по кирпичам чудилось что-то зловещее; отчего-то и мысли об адских котлах приходили в голову при виде того, как чадит и бурлит наша битумная жаровня.
Обернув стены снаружи полосами рубероида и ещё раз промазав битумом швы, мы подсыпали и утрамбовали грунт вокруг стен, отчего котлован сразу уменьшился до размеров кирпичной коробки. Непривычно и странно было рассматривать эту прямоугольную нишу в толще земли – практически комнату, в которой, при крайней нужде, можно было и жить. Интересно, что ныне такие вот, углублённые в землю жилища – едва ли не тренд, то есть самая модная штука. Их называют «лисьими норами» и на просторах Всемирной сети на все лады расхваливают их оригинальность, удобство и экономичность. Не знаю уж, каковы на деле преимущества «лисьих нор», но в самом появлении их среди современных жилищ человека мне чудится некий возврат к первобытности, к тем землянкам, в которых наши далёкие предки обитали тысячи лет назад. И, пожалуй, не одно лишь стремление к оригинальности и дешевизне загоняет людей в «лисьи норы», но и нарастающий страх перед будущим, ожиданье последних времён, когда лишь в подземельях, возможно, спасутся последние из обитателей нашей планеты.
Но нам при строительстве погреба об Апокалипсисе думалось редко, уж очень дружно и весело двигалась наша работа. А главный опыт, который мы приобрели, был тот, что земля и лопата есть главная наша опора в тяжёлые дни. Пока руки держат лопату – для того ли, чтобы вскапывать целину для посадки картофеля, или для того, чтобы выкопать погреб, где этот же самый картофель будет храниться, – можно вытерпеть многое. Человек с лопатой в руках – он, как солдат с винтовкой наперевес, не побеждён до тех пор, пока не бросает оружие и стоит на земле, защищая свой дом.
Владимир Даль в своём собрании русских пословиц записал и такую: «Чердачная мышь погребной не сестра». И сейчас, после того как мы погружались в погреб, неплохо бы слазить и на чердак.
В детстве нас, пацанов, на чердаки влекло неудержимо. С верхней лестничной площадки нашего дома можно было вскарабкаться к люку, который с хрустом откидывался, осыпая на голову керамзит вперемешку с сухим голубиным помётом, но нам, детям, залезать на чердак запрещалось, и поэтому нас с особенной силой тянуло туда. Уже в момент открывания люка ты ощущал пыльный ветер, от которого часто моргали, слезились глаза, – ветер, тянувший сквозь откинутый люк наверх, в подкровельное пространство, и будто втягивавший тебя в манящие сумерки чердака.
Первое, что изумляло – то, как чердак был огромен. Глядя на нашу двускатную крышу снаружи, никак нельзя было предположить, что под листами старого, уже мхом покрытого шифера скрывается так много гулкого, ветреного пространства. То ли причиной тому было наше детское восприятие – мы были малы, мир вокруг был велик, – то ли и впрямь на чердаке отменялись привычные соотношения длин и объёмов. Иначе как объяснить, что из конца в конец чердака ты мог пробираться – и пробирался – чуть ли не час, тогда как внизу, вдоль стены дома, ты такое же расстояние пробегал за стремительные секунды?
И как мог чердак вместить столько предметов, которые поочерёдно встречались тебе, пробиравшемуся на осторожных ногах или даже на четвереньках по хрустящим окатышам керамзита? Битый шифер, шершавый и колкий, обрывки верёвок и ржавые гвозди, бухты скрученной проволоки, рукава телогреек, подмётки, пустые бутылки и голенища сапог, кирпичи в голубином помёте – всё это словно всплывало перед тобою, пока ты пробирался между подпорок стропил, а потом вновь тонуло в холодных и дышащих пылью потёмках. Порою ты видел, как сквозь щели и дыры волнистого шифера кровли пробиваются иглы солнца; они будто мохнатые от той пыли, что медленно движется в них. Но так было лишь в ясные дни; в непогоду дневной свет проникал под кровлю через два слуховые окна, служивших входом не только для света, но и для многочисленных, облюбовавших чердак голубей. Бывало, над твоей головой заполошно захлопают крылья – и тебя обдаст волной мягкого пыльного взрыва! Пара птиц, шумно взбив воздух, затмит на мгновение свет слухового окна и канет наружу. Да, голуби-сизари всегда жили здесь – чердак представлял собой, можно сказать, голубятню, – их воркованье, и хлопанье крыльев, и цоканье лапок по шиферной кровле были едва ли не главными здешними звуками. Сизари и рождались здесь, и умирали: на шуршащем сухом керамзите нам нередко встречались большеглазые и голенастые голубиные мумии. Так что чердак служил своего рода кладбищем птиц, и лёгкий, почти неощутимый на сквозняках, дух голубиного тления присутствовал здесь постоянно.
Припоминаются и зимние посещения чердака. Когда там, наверху, что-то случалось с водопроводными трубами и хмельные сантехники, вызванные из жилищной конторы, оставляли люки открытыми настежь, мы, пацаны, словно этого только и ждали. Залезешь наверх – и вдруг поразишься тому, до чего ж, по сравнению с летом, чердак зимой мал: словно он, как и любой предмет, съёживается от мороза. То, что летом представлялось огромным и сумрачно-гулким, почти безграничным, теперь, в холода, кажется жалким, маленьким и сиротливым. Или причиной тому были глыбы зеленовато-серого льда, нараставшие над кирпичными трубами вентиляции, и такие же, зеленоватого цвета сосульки, свисавшие с ригелей кровли? Из дыр вентиляции непрерывно тянул влажный пар – он-то и создавал ледяные наплывы, – а кровля сочилась капелью; и всё это вместе, лёд, пар и капель, вызывало в душе чувство острой тоски. Жизнь всего дома казалась хрупкой и ненадёжной – под воем метели снаружи, под этими глыбами зеленоватого льда и под чмоканье непрерывной чердачной капели…
Возле наших жилых двухэтажных домов стоит ряд деревянных сараев – типичного для России «самозастроя». В русской провинции всюду, где только возможно, рядом с жилыми домами возникают сараи, сарайчики, будки, погребки, курятники и голубятни – строения-спутники, сопровождающие многоквартирные городские дома. Порой кажется, эти сараи не могут отстать, отвязаться от человека (корнями, как правило, сельского жителя) и сопровождают его, как какая-нибудь собачонка, которая не может бросить хозяина, оставившего свой старый дом и пустившегося на поиски лучшей доли. Так они, эти будки-сараи, и бредут за людьми, довольствуясь самыми негодными и бросовыми местами, притыкаясь там-сям, зарастая травой и ветшая, но сберегая в себе что-то важное и необходимое человеку.
Да и сами обитатели городских домов чувствуют, что их жизнь не вмещается в типовые квартиры и нуждается в чём-то своём, сугубо индивидуальном, пусть это «своё» и выразится всего лишь в щелястом, с дырявою толевой кровлей сарае, в котором хранится всякая рухлядь, от сломанных лыж до покорёженных детских колясок.
И понятно, что наши сараи, по сути, дома нищеты. Лишь бедность и ожидание худших времён не позволяют нам выбросить отслужившую, старую вещь. А вдруг она снова понадобится? Или, по крайней мере, можно будет использовать те детали, из которых она состоит – разные там доски-рейки, пластины и гвозди, шурупы или провода? И поэтому часто сарай – своего рода преддверие свалки: генетически-цепкая память революций, пожаров и войн и порождённого ими глада и мора не позволяет нам сразу избавиться от обветшалого хлама, а создаёт некий буфер между жилищем и мусорным баком.
Вот и наш сарай, что стоит в ряду деревянных собратьев через дорогу от дома, в непростые для всех девяностые годы прошлого века был, по сути, домашнею свалкой. Мы не просто сносили туда всё негодное, что оказывалось в доме, но, случалось, ещё и притаскивали в сарай что-нибудь, найденное на улице. Это могли быть моток проволоки или крепкая обрезная доска, столешница или табурет, топор без топорища или черенок от лопаты. Неудивительно, что при таком отношении к сараю – вполне типичном для русского человека – он превратился в помесь мусорной свалки с музеем старинного быта.
Что пылилось в углах и на полках сарая? Какое-то время, к примеру, здесь обитала старинная прялка. Резные балясины-столбики и большое колесо с деревянными спицами были настолько легки и изящны, что, увидев ту прялку возле мусорных баков, я не мог не притащить в сарай это рукотворное чудо. Много перебывало в сарае и лыж, от деревянных, ещё с ременными креплениями (а палки к ним были, кто помнит, из суставчатого лакированного бамбука) до современных пластиковых. И часто те лыжи бывали непарными: поломав одну где-нибудь на бушмановской горке, я не решался выбросить вместе с ней и другую и оставлял овдовевшую лыжу пылиться в сарае. Правда, сколько я помню, ни одна из непарных лыж так и не дождалась себе такого же одинокого друга и не составила с ним новой пары.
О разных коробках и старых ботинках, о поломанных детских игрушках, об исписанных школьных тетрадях, остатках обоев, банках с олифой и старою краской, пакетах шпатлёвки, граблях и лопатах я много распространяться не буду: такого добра хватает в сарае у каждого. Но вот о чём надо сказать обязательно, это о байдарках и велосипедах.
Да, они тоже хранятся в сарае, и с них начинается новая тема, ведущая нас прочь из дома, в ту даль, о которой напоминают нам эти шины и спицы, педали и сёдла – и эти брезентовые тюки, в которых, когда их случайно заденешь, позвякивают шпангоуты, вёсла и стрингеры. Благодаря велосипедам и лодкам наш старый сарай – ещё и хранилище странствий, как прежних, уже совершённых, так и тех, что ещё, может быть, предстоят. Дом без возможности странствий – не вполне дом, а что-то вроде тюрьмы, равно как и путешествие без того места, откуда ты вышел и куда надеешься возвратиться, превращается просто в скитание, в наказание и проклятие для человека.
Вот и мы, оттолкнувшись от стен старого и уже накренившегося сарая, пожалуй, отправимся в странствие.
IV
Тема странствий, блужданий, походов – одна из важных тем моей жизни. Я даже нашёл ей генетическое обоснование. Отец моего отца, Василий Афанасьевич Убогий, командовавший стрелковой ротой и погибший под Ленинградом в декабре 1941 года, был кубанский казак. Стало быть, в моих жилах, помимо крови курских крестьян (с Курщины большинство моих предков), четверть крови – казачья. А казаки, как известно, народ вольный, и больше привязанный к бурке, коню и седлу, чем к жене или хате. В прошлом некоторых казаков называли «бродниками» – людьми, не имевшими дома и свободно бродившими по белу свету.
Вот и я – как я сам себя ощущаю и сознаю – примерно на три четверти человек оседлый, привязанный к дому, укладу, порядку, семье, а на четверть бродяга и странник. В каком-то воображаемом идеале собственной жизни я и хотел бы примерно три четверти года жить дома, а четверть – проводить в путешествиях. Конечно, в реальности странствия занимали куда меньше времени, но, не будь их совсем, я ощущал бы свою жизнь неполноценной.
Всякий, кому довелось путешествовать, знает: для странника дом – ценность едва ли не большая, чем для оседло живущего человека. Тот, кто изо дня в день и из года в год живёт в доме, может совсем перестать его замечать и ценить – так рыбы не замечают воды, в которой они обитают, а большинство людей не замечают воздуха, которым дышат. Но, стоит рыбе оказаться выброшенной на берег, а человеку испытать приступ удушья, как им сразу становится ясно, где и в чём заключается жизнь. Что-то подобное – обновление, освежение и углубление чувства дома – происходит и с тем, кто с домом расстался. Где, как не во время похода – холодной ли ночью, или под проливными дождями, или в палящий зной, загребая ногами дорожную пыль, – так мечтаешь о доме?
Даже расставаясь с домами и уходя из них, чтобы странствовать, люди порою берут дом с собой. Речь о палатках, этих походных жилищах, которые, с одной стороны, создают лишь иллюзию дома; но, с другой стороны, важнейшие признаки дома всё же присутствуют в них, и человек, в чьём рюкзаке лежит свёрнутая палатка, является домовладельцем. Во-первых, в палатке он будет укрыт от дождя и от ветра, этих главных врагов путешественника (и ещё защищён от мошки, гнуса, слепней, комаров – ото всей той летающей нечисти, что способна превратить поход в сущий ад); и, во-вторых, палатка создаёт тот эффект «внутреннего пространства», который и есть отличительный признак жилища. Попробуйте всего лишь обнести верёвкой участок лесной поляны или приречного луга – и вы сразу поймёте, о чём идёт речь: «внутри» всё сразу станет иным, чем «снаружи». А уж если вас отгораживает от внешнего мира не просто верёвка, а стены палатки, то внутреннее пространство будет обозначено ещё чётче. Чем-то этот эффект сродни тому детскому залезанию под одеяло, с которого я и начал писать о домах.
Я впервые узнал, что такое палатка, когда мне было семь лет и родители взяли меня с собой на Угру. Та палатка, в которой мы жили, была из брезента – теперь таких не найдёшь, – она была тяжела и не очень удобна, но для меня она так и осталась незабвенной и идеальной – палаткой, как таковой. Все детали её – скаты, верёвки-оттяжки и колышки, кармашки и сетчатые оконца (их было два), шнуровка на входе, – всё помнится даже не просто отчётливо-зримо, но с чувством комка, подкатившего к горлу. Палатка было словно дверью в иной, сказочный мир, где горели костры и восходы-закаты, где были купания и земляника на солнечных склонах, был запах хвои, сосновой смолы и брезента, нагретого солнцем, – мир, который доселе, спустя пятьдесят без малого лет, вспоминается как едва ли не лучшее из того, чем судьба одарила меня.
Памятен ежевечерний обряд выкуривания комаров. Сначала на углях костра разжигались сосновые шишки. Их сухие, невзрачные серые шарики преображались, когда их напитывал огненный жар: лепестки раскалившихся шишек становились розово-полупрозрачны, и вся шишка напоминала светящийся нежный цветок.
С десяток таких вот светящихся шишек зачерпывались жестяною консервною банкой из-под тушёнки – белый дым начинал вытекать из неё, – и с этим «дымарём» моя мама залезала в палатку. Всё пространство под пологом тотчас оказывалось наполнено густым дымом, который валил и из входа, и из затянутых сеткой окошек и даже просачивался сквозь брезент. Уже секунд через десять мама, жмурясь и задыхаясь, выбиралась наружу. На неё было жалко смотреть – лицо было красным, из глаз текли слёзы, – но на что не пойдёшь ради сына и мужа? Пока она приходила в себя, отец, торопясь, зашнуровывал вход. Это было не так-то и просто: приходилось вдевать деревянные шпеньки в непослушные петли, всё это путалось в пальцах, отец злился, палатка закрывалась медленно, и выкуренные комары преспокойнейшим образом успевали в неё возвратиться.
Но что комары, когда молодой сон в палатке, после бесконечного дня, проведённого в летнем раю среди сосен, на берегу прекрасной реки, был так крепок, что я как-то умудрился проспать даже грозу, бушевавшую ночью над нашей палаткой. По рассказам родителей, да и по опыту гроз, которые мне довелось пережить после, я хорошо представляю, как скаты дрожали и прогибались от струй низвергавшейся с неба воды, как гремел гром и как внутренность нашей палатки озарялась нервическим светом сверкающих молний. А мама – сама ни жива ни мертва – прикрывала меня, крепко спавшего, от летающих над палаткой молний своими ладонями! И ведь прикрыла: я с той поры прожил полвека, но и сейчас вспоминаю то лето, когда руки матери оказались самой надёжной и несокрушимою кровлей на свете.
Конечно, после той «брезентухи» бывали в моей жизни и другие палатки, каждая из которых была по-своему хороша. Были военные шатровые палатки, стоявшие на дощатых помостах, в которых мы, молодые легкоатлеты, жили на летних тренировочных сборах. Проснёшься, бывало, в ней утром, под трель свистка тренера, и, успев натянуть только спортивные трусы, ещё сонный, босиком выбегаешь на утреннюю разминку, а это четырёхкилометровый кросс по песчаной тропе среди сосен, в смолистом воздухе летнего бора… и в том ощущении неистощимости собственных сил, какое бывает лишь у пятнадцатилетнего юноши.
Был жёлтый чум под названием «Лотос», который однажды взлетел над обрывом при сильном порыве внезапного ветра, и мы с другом Виталием едва успели схватить его, прежде чем он упал в весеннюю мутную Жиздру.
Потом была польская трёхместная «Вертикаль», в которой всё наше семейство – я, жена, сын и дочь – размещались во время семейных байдарочных сплавов, а наш пёс Луи (седой и лохматый, задумчивый шнауцер) с кряхтеньем укладывался в «предбаннике». Луи, даже спящий, знал своё дело сторожевого пса – охранять дом – и сквозь дрёму сонно порыкивал на те шорохи, что раздавались в ночи возле нашей палатки.
Но, как бы ни были хороши все эти палатки – и лёгкие, и удобные, и современные, – сердце навеки отдано первой любви. Только в ней, в «брезентухе» далёкого детства, возникало домашнее чувство уюта и защищённости. И тем удивительней, что оно возникало под какой-то всего лишь брезентовой тряпкой, подпёртой двумя жердями и растянутой на восьми верёвках. Значит, в палатке мы обретали не столько сам дом, сколько его, дома, идею. Мы создавали и ощущали границу меж нами и миром, и это нам помогало почувствовать реальность собственного существования. К Декартовой формуле «cogito ergo sum» можно добавить: я существую ещё и тогда, когда между мною и миром есть граница, преграда, когда я живу пусть даже в тряпичном, но всё же в доме.
Возможно, вы спросите: ну, а как же бродяги, у которых дома нет вообще, они что же, не существуют? Но у любого бродяги есть хотя бы одежда, прикрывающая его наготу – она и играет роль примитивного дома, – и есть, в конце концов, тело, а уж с этим-то домом души одна только смерть может нас разлучить.
Вспоминая палатки собственной жизни, не могу не припомнить и первых походных ночёвок детей. Ведь для них это был тоже важный опыт общения с домом. Заночевать первый раз в жизни вне дома, в палатке, означало, с одной стороны, пережить со своим родным домом разлуку. Но, с другой стороны, первая «палаточная» ночёвка была и опытом обретения дома – именно в том смысле, о котором мы только что рассуждали.
Ко времени первых походных ночёвок и Диме, и Даше исполнялось как раз по пять лет, и прошли эти ночёвки там, где сливаются речки Городенка и Калужка. Здесь хорошо различимы следы древнего городища вятичей, и это место слияния двух небольших, милых речек доныне радует глаз своей живописностью. Над приречной долиной ровной террасою из соснового леса выступает то самое городище, на котором мы и разбивали наш лагерь.
Димке, помню, досталась холодная ночь. Туман затянул луговину, по траве было трудно ступить от обильной росы, а по небу, розовеющему на закате, бесшумно носились летучие мыши. И Димка, укутанный нами во что только можно, перед тем как залезть в палатку, заметил мышиные промельки в небе и радостно крикнул: