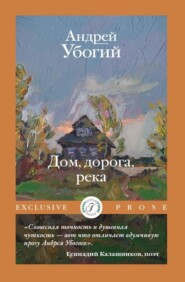скачать книгу бесплатно
2017 г.
Дом
I
Первый дом? Уж не этот ли: мне года три, я в постели – и, согнув ноги углом, натягиваю одеяло между коленями и головой? И тотчас внутри, под шатром одеяла, возникает особенный мир: таинственный, сумрачный, тёплый, уютный. Всё непонятное, даже враждебное – всё осталось снаружи; здесь же, в уюте и сумраке – только ты сам и твоя сокровенная жизнь…
Не в этом ли и состоит смысл жилища: отгородиться от внешнего мира, столь часто чуждого и равнодушного, и создать собственный мир – тот, в котором ты сможешь не просто согреться или отдохнуть, но сможешь стать самим собой? Поэтому, строя дом – создавая границу меж внешним и внутренним, – каждый, в сущности, строит себя.
Но вернёмся под одеяло, в тот первый дом, который был в жизни каждого. Замечаете, как в нём тепло? А ведь единственной печкой, которая обогревает нас, служим мы сами: наши сердце и лёгкие, наша горячая кровь согревают пространство нашего первожилища. И если, бывает, рука иль нога нечаянно выпросталась наружу, мы спешим скорей спрятать её, да ещё поплотней подоткнуть одеяло, чтоб холод наружного мира не похищал драгоценное внутреннее тепло. И чем холоднее снаружи, тем лучше, уютней бывало внутри. Помните, в том полумраке под складками, что провисали меж лбом и коленями и порой осторожно касались лица, там даже пространство и время были иными? Точнее сказать, их – пространства и времени – не было вовсе: они словно ещё не возникли и не отделились одно от другого. Наверное, нечто подобное было в материнской утробе: и сонный покой защищённости, и отсутствие времени и пространства, и бесконечное чувство доверия тому тёплому сумраку, что нас окружал и хранил. По-настоящему это и был наш первый дом; а все те дома, что нам суждено будет строить и обживать в течение будущей жизни, окажутся лишь его несовершенными и приблизительными подобиями. Но кто помнит свою внутриутробную жизнь? А вот гнёздышко под шатром одеяла памятно и знакомо любому; если же кто-то и подзабыл, как в нём уютно жилось, так ведь нетрудно и снова построить его.
Вот только, скорее всего, долго вы в этом жилище не пролежите: какая-то дрожь беспокойства вас будет выталкивать в мир. И сложно понять, где источник тоски и тревоги, что понуждает нас выбираться из-под одеяла? То ли это томится сама наша жизнь, чей избыток не помещается в тесном и сумрачном коконе? То ли смутная эта тоска и стремленье вовне есть звучащий в душе отголосок приказа, который услышал наш предок Адам, когда он, со своей непутёвой подругой, был изгнан из рая? Или безотчётная эта тревога, порой почти страх, что нас заставляет, отбросив покров одеяла, открыть себя миру, вернуться в него, есть предчувствие будущей с этим миром разлуки? И шатёр одеяла, который, с одной стороны, напоминает о самом первом жилище – о материнской утробе, – он же пророчит и о жилище последнем: о домовине?
Дом из песка, наверное, тоже был в жизни у каждого: уж если не в собственном детстве, так в той песочнице, где увлечённо возились дети иль внуки, или на морском берегу, где мы наблюдали за играми детворы, возводящей песчаные замки.
Солнце было раскалено добела, море лениво накатывало и отступало от берега, пляжный гомон был сонно-однообразен, его нарушали лишь резкие крики разносчиков пива и пахлавы, и ты всегда удивлялся азарту и живости тех загорелых детей, которые невзирая на пекло трудились на узкой полоске меж морем и сушей. Да что дети, если порою и взрослые, неожиданно для самих себя впавшие в детство, могли к ним присоединиться – и ползать на четвереньках, и загребать песок, и лепить башенки, ровики, стены, а потом вдруг хватать ведёрко и бежать с ним к воде, чтоб скорей увлажнить быстро сохнущий замок. Но всё же дети в тех играх обычно играли заглавную роль: они указывали родителям, где копать ров, где ставить башню и где проделывать замковые ворота. Словно именно дети, которые ближе нас к раю и сказке, лучше помнят и знают, какими должны быть сказочные дома.
Но дома из песка – всего лишь дома из песка. Хорошо, если ты ушёл с пляжа раньше строителей замка, если же нет – тебе, скорее всего, предстоит стать свидетелем его гибели. И вовсе не солнце, не ветер, не море разрушат его; нет, всё будет куда прозаичнее и беспощадней. Откуда-нибудь возникает ватага безумных подростков. Поразительно, но они возникают всегда и везде, где есть что-то хрупкое и беззащитное, словно эти подростки и существуют лишь для того, чтоб нести разрушение. Индусы сказали бы: это слуги Шивы, беспощадного и смертоносного божества.
И вот эти подростки, как смерч, проносятся берегом моря, визжа и кривляясь и, конечно, не только не обегая хрупких башенок, стен и мостов, но как раз норовя на них наступить. И в мгновение ока всё кончено: не успеваешь ни крикнуть, ни двинуть рукой, как замок, которым ты только что любовался, сровняли с песком…
Смерч из подростков, всё так же визжа и кривляясь, уносится дальше, искать новых целей для разрушения, а ты остаёшься сидеть у песчаных руин с таким чувством горя в душе, как будто вот только что, у тебя на глазах, не просто разрушили то, что разрушилось бы и само по себе, под воздействием солнца и ветра, но надругались над чем-то священным. В сущности, ты увидел сейчас, в сжатом виде, сюжет всей истории человечества: то, как в ней разрушение торжествует над созиданием. Сначала строители с усердием и прилежанием созидают что-либо, а потом с диким визгом проносятся варвары и оставляют после себя руины. Вся человеческая история и говорит в основном о бунтах и войнах, восстаниях и революциях, то есть о разрушении домов.
Ещё удивительно, что люди продолжают строить дома, что печальный финал, неизбежный для каждого дома (не придут варвары – вместо них поработают время и силы природы), не останавливает кропотливой работы строителей.
Первый дом, который я осознал как именно дом, была хата моего прадеда, Дениса Максимовича Попова. Он стоял на нижнем планте (так, по-местному, называлась улица) деревни Выгорное, что на Курщине.
Главное отличие южнорусских хат от северных изб было в том, что строительного леса на Юге всегда не хватало и дома собирались из тонких, коротких бревешек, которые приходилось снаружи обмазывать глиной или кизяком, получался гибрид деревянной избы и глинобитной хижины, отражавший ту сложную смесь Юга, Севера, Запада и Востока, какой и являлась вся русская жизнь.
В хате прадеда было всё, чему полагалось быть в классической русской избе. Были холодные сени с чуланом и собственно хата, где главной была, разумеется, печь. Располагалась она против двери, и «женская» половина, со всеми ухватами и чугунками, была именно там, у печи. «Мужской» же угол был справа от входа, ближе к окну. По-настоящему в этом – красном – углу полагалось стоять иконам, но безбожное время их не терпело. Впрочем, по материнским рассказам я знаю, что Богородичная икона в хате всё же имелась, она была поднята на чердак, где и пережидала тяжёлое время гонений на веру.
Что запомнилось мне из того недолгого времени, что я прожил в хате прадеда? Воспоминаний не так уж и много, но зато это самые первые воспоминания, и на них, как на фундамент, легли все позднейшие впечатления жизни. Вот глухая зима, я на лавке возле окна – даже маленький, я понимаю, что окно тоже маленькое, – и вижу сугроб во дворе, по которому топчутся куры. И есть в этом зрелище – двор, сугроб, куры – что-то уютное, но и вместе с тем очень тоскливое. Суетно-мелкое копошение кур словно показывает мне, какой может быть жизнь, целиком погружённая в мелкие бытовые заботы, и тоскливо мне именно оттого, что я не желаю себе такой вот куриной и мелочной жизни…
Ещё помню матицу на потолке, она потемневшая, чуть прогнувшаяся, со вбитым крюком, на котором когда-то висела детская люлька. Точно не знаю, качались ли в той люльке моя матушка и её сёстры, Галя и Света, но потолочную матицу сёстры Поповы видели точно. И, наверное, тоже испытывали от её созерцания такое же чувство покоя и защищённости, что потом, много после, испытывал я, когда тянул к этой матице руку и не верил, что стану настолько большим, что смогу до неё дотянуться.
Вспоминается ножка кровати, за которую я ухватился, когда испугался фотографа. Может, я испугался его, как незнакомого человека, а может, опасался процесса фотографирования, как такового. Дети, как и животные, чувствуют больше, чем могут выразить; вот и мой давний испуг перед круглым, упорно следящим за мной, немигающим глазом фотообъектива выражал неосознанный детский протест против того, чтоб отторгнуть, отнять у меня мой собственный облик. Как будто фотограф вторгался в то сокровенное, чего он касаться не должен, как будто в тот самый миг, как мой взгляд и лицо останутся в недрах фотографического аппарата, я потеряю какую-то часть самого же себя. Нет, всё же недаром в исламе, иудаизме и в некоторых первобытных культурах существует запрет на изображение человека, ведь образ, отделённый от первоисточника, может стать двойником – и кто знает, в каких непростых отношениях эта копия будет находиться с оригиналом?
Разумеется, в три младенческих года, когда в меня целился глаз объектива, я об этом не думал, но фотографа всё равно опасался. Я стоял, ухватившись за кроватную ножку, и даже думал, не ускользнуть ли мне под кровать – уж очень заманчив был сумрак, где никакой бы фотограф меня не достал, – но всё же сдержался и выстоял до конца съёмок. Когда же фотограф ушёл, я залез на кровать и начал отвинчивать металлические шарики с её спинки – те блестящие шарики, в которых смешно отражалось моё приплюснутое и расплывающееся лицо.
Хотя, с другой стороны, что я так уж накинулся на фотографию? Даёт она нам много больше, чем отнимает, а всевозможные искажения, приблизительность и неполнота присущи любому виду искусства. В конце концов, на этих страницах, где я пробую воскресить свои воспоминания о доме прадеда в Выгорном, неточностей и огрехов куда больше, чем в том фотоснимке у ножки кровати. Так что спасибо тебе, деревенский фотограф, за то, что ты честно хотел покрасивее снять того мальчика, который спустя пятьдесят один год будет описывать то, как он, ухватившись за ножку кровати, испуганно и напряжённо смотрел в объектив.
Дом Дениса Максимовича был хоть и хатой, нохатой просторной и, в целом, не бедной. И крыт он был шифером, и полы были в нём набраны из широченных досок, и крыльцо было высоким, как бы парящим и над двором, и над проходившею рядом дорогой.
А всего через два дома по нижнему планту стояла хата Нинки, нашей дальней родственницы, жившей одиноко и трудно. И вот это была уже настоящая мазанка, жилище почти первобытное по затрапезности, бедности и тесноте. Ведь мазанка – это плетень из лозы, обмазанный глиной с навозом. Покрыта она была соломой, самым дешёвым строительным материалом тех мест. Помню, издалека Нинкин дом походил на этакий гриб под округлой соломенной шляпкой – гриб, на облезлой от времени ножке которого имелось оконце и низкая дверь. Эта дверь, утеплённая чем только можно – одеялом и старой фуфайкой, драной клеёнкой, полосками войлока, – была ещё для надёжности перехвачена крест-накрест прибитыми брезентовыми вожжами, иначе всё то, что висело на двери, непременно осыпалось бы с неё. Глянешь мельком на эту дверь – а такие, обитые разнообразным тряпьём двери были у многих, – и она вдруг покажется спиной ветхой, согбенной старушки, которая сунулась в хату, да ненароком застряла в дверном проёме.
Дверь открывалась с кряхтеньем и жалобным скрипом. В полутёмных сенях стояли вёдра с водою – колодец на низах огородов у речки, из которого их наполняли, так и назывался «Нинкин». А затем раздавался скрип ещё одной двери, которая вела в саму хату. В жаркий полдень – а я заходил туда только летом – было очень приятно ступать босыми ногами по земляному прохладному полу.
Что было в той хате? Печь, лавка, стол, ворох тряпья на кровати в углу да окошко размером в четыре ладони. Вездесущий картофельный запах исходил и от чугунка, что стоял на загнётке печи, и от ведра возле входа, в котором всё та же картошка, но только помельче, ждала, когда её потолкут курам или поросёнку. И хоть мебели в этом жилище почти не имелось, но было так тесно, что не повернёшься. И это ещё на дворе было лето; а что же творилось зимой, когда всё свободное место возле печи бывало завалено мёрзлой соломой? Ведь больше в тех курских краях топить было нечем – дрова или уголь раздобыть было трудно, – и только солома спасала людей в холода. Топка печи набивалась её золотистым, шуршащим, ломавшимся ворохом; потом подносился огонь, и этот соломенный ворох сначала наполнялся молочным дымом, потом в дыму промелькивал алый, трепещущий проблеск, а потом вдруг и печь, и вся хата озарялись враз вспыхнувшим пламенем! Какое-то время докрасна раскалённые стержни соломы ещё сохраняли свою хрупкую архитектуру, но скоро рушились, и в топке печи оставался лишь слой невесомого серого пепла.
Не берусь даже сказать, сколько охапок заиндевелой соломы приходилось Нинке затаскивать в хату, а после заталкивать в печь, чтобы хоть сколько-нибудь протопить своё занесённое снегом жилище. Но хорошо представляю себе, как гудел жаркий огонь, бросавший алые блики на гору соломы, лежавшую возле печи, как искры летели в трубу, а хозяйка, отворачиваясь от жара, заметала в совок те дымные красные брызги, что вылетали из топки и падали на пол. Ещё хорошо, что полы в той хате были земляными, а стены глиняными, а то бы Нинкина хатка не пережила при топке соломой и одну зиму.
На чём только держалась тогдашняя деревенская жизнь! На каких-то курушках-гнилушках, верёвочках, щепочках, на соломе и на коровьем навозе, на ивовой лозе и на глине, на полусопревшем тряпье – на чём-то таком, что уже и само было почти прахом. И сколько было таких вот, как Нинкина, хат – с земляными полами и кровлями из соломы, с дверьми, утеплёнными всяким случайным тряпьём, и с одинокими бабами, что коротали в них долгие зимы…
Пожить в хате прадеда довелось недолго. Мне ещё не исполнилось пяти лет, как я вместе с родителями переселился в другие места, и вместо привычных стен хаты жизнь продолжилась в стенах кирпичного дома. Я бы, может, и вовсе не вспомнил об этом переселении – мало ли где, кто, когда и как жил? – если бы ныне, полвека спустя, не увидел, насколько всеобщим, охватившим не только страну, но и всю нашу планету было подобное перемещение. Повсеместный исход в города и разрыв с традиционными формами жизни стал всечеловеческим и глубоко драматичным событием. Всюду, на всех континентах, люди оставляли дома, в которых она появились на свет и в которых жили их предки, чтобы в новых домах и на новых местах искать себе лучшую долю.
Ну, а в нашей стране в середине 20-го века – стране, только-только пришедшей в себя после великой войны, – для молодёжи села, казалось, и вовсе немыслимым: как это можно остаться жить там, где жили их деды и прадеды? Конечно же надо как можно скорей уезжать – на комсомольские стройки и на освоенье целинных земель, в далёкие и манящие города – туда, где начнётся иная и непременно счастливая жизнь. Вот и мои мать с отцом – к тому времени уже молодые врачи – и думать не думали, чтоб остаться жить там, где они выросли.
И не успел я толком обжиться в хате прадеда в Выгорном, как вместо стен, обмазанных глиной, вместо печи и лавки в красном углу, вместо тёмных прохладных сеней, вместо кур, копошащихся под окном во дворе, вместо гудения пчёл, вместо крыльца и дороги, чьи колеи тянулись по-над огородами и исчезали у речки, в кустах ивняка, – вместо всего этого я оказался в непривычной мне обстановке «городской» квартиры.
Я взял «городская» в кавычки, потому что наш новый дом стоял тоже в селе, но он был новым, построенным для докторов той больницы, куда приняли на работу моих родителей. Обстановки той тесной квартирки, где мы прожили около года, я не запомнил, но думаю, что она была точь-в-точь такой, как и обстановка следующей квартиры, куда мы переехали вскоре, тоже двухкомнатной, в панельном и тоже недавно построенном, доме, но располагавшейся уже в ближнем пригороде Калуги.
Вообще, шестидесятые годы прошлого века (когда и происходили все переезды нашей семьи) питали стойкую неприязнь к укоренённому, основательно-прочному быту. Бескорневая, скользящая жизнь «на колёсах» считалась единственно правильной, поэтому и обстановка жилищ в идеале должна была быть такой, с которою можно расстаться без сожаления и в любую минуту. Старые вещи, те, что сейчас помещают в музеи – буфеты, трюмо и старинные зеркала, комоды и стулья с гнутыми ножками, – решительно выбрасывались на свалки, а их место занимал яркий пластик, тогда только что появившийся в обиходе и пришедшийся очень по вкусу эпохе. Журнальные скользкие столики, торшеры и кресла-кровати – да, и ещё чемодан и непременная раскладушка в углу, – то есть вещи, необходимые для полукочевой жизни, – вот из чего в основном состояли интерьеры шестидесятых годов. Да и сами хрущёвки – дома из бетонных панелей, возводившиеся так же быстро, как быстро сменяли друг друга жильцы в одинаковых и неуютных квартирах, – казались какими-то одноразовыми: трудно было представить, что в этих безликих серых коробках могло вырастать поколение за поколением и наполнять стены хрущоб полноценной, весомой и самодостаточной жизнью.
Но нет худа без добра. Не окажись я вдруг, ещё в раннем детстве, в пустынно-невыразительной обстановке городских квартир, разве смог бы я с такой остротою почувствовать всю красоту и богатство природы, которая окружала новые наши жилища? А природа, и в старинном селе Ахлебинино, где мы поселились сначала, и в той пригородной деревне Бушмановка, куда переехали после и где живём по сей день, – природа воистину удивительна. Ахлебинино – это былинный простор окской долины, блеск широкой реки меж крутых берегов, это ветер над соснами около дома, это булыжник старинного тульского тракта, который спускался к Оке, пересекал речку Ужередь и тонул в летних травах и медовых запахах поймы; возможно, что и во всей Центральной России найдётся немного мест, сравнимых по красоте и приволью с этим участком поймы Оки, который называется «Калужско-Алексинский каньон».
У природы Бушмановки тональность иная. Здесь всё камерней, мягче, интимней; но мне, прожившему здесь полвека, созвучней вот именно эта интимность. На восточной калужской окраине город почти незаметно переходит в деревню, а та – в долину бушмановского ручья. И вот эта долина – мы, дети Бушмановки, называли её «овраг» – была совершенно чудесна своей живописностью, обилием укромно-таинственных мест, чистотою журчащего на перекатах ручья, причём в нём водились пескари, вьюны и карасики, – словом, овраг был для детворы, живущей на его берегу, подобием рая. В нём было собрано едва ли не всё то прекрасное, что есть в среднерусской природе: земляника на солнечных склонах, песчаный обрыв над ручьём, тень старой берёзы, которая в ясный ветреный день пятнает траву зыбкой рябью, трясогузка на мокрых камнях переката, гудение пчёл над соцветьями луга, таинственность влажной ольховой урёмы, – и всё это было доступным и близким для нас…
И вот именно там, в райских кущах оврага, я приобрёл первый строительный опыт: мы, вместе с Юркой Марушкиным, начали строить шалаш. Нам было тогда лет по десять; ни знаний, ни навыка у нас, разумеется, не было; но уверенность в том, что шалаш нам необходим и что мы сможем построить его, была в нас несокрушима.
Ведь именно с шалашей, укрытий из веток и листьев, как бы растворённых в природе, сливавшихся с ней, и начиналась строительная история человечества. Конечно, построить шалаш куда легче, чем вырыть землянку или обжить пещеру, недаром доныне народы, оставшиеся на первобытной стадии существования, живут в шалашах. И в детстве, пожалуй, у любого из нас был свой шалаш – своего рода напоминание о детстве всего человечества.
Природа – она порой благоволит своим детям – сама помогала нам строить. Одна из берёзок, надломившись у самой земли, упала вершиной в развилку соседнего деревца – так, что несущая балка кровли уже была нам готова. Оставалось лишь обломать или отогнуть лишние сучья снизу, а поверх упавшей берёзки, наоборот, набросать веток с листьями. Этим мы с Юркой и занимались весь летний день – день, полный шелеста, треска ломаемых веток, гудения мух и шмелей, вспышек солнца в прорехах берёзовых крон, и полный чудесного, чуть горьковатого запаха вянущих листьев.
Шалаш на глазах становился пышнее, а лаз, который вёл внутрь, делался всё таинственней и привлекательней. Туда, в этот лиственный сумрак, мы натаскали травы и наломанных веток, так что скоро мы с Юркой и сами едва могли втиснуться в щель меж подстилкой и кровлей. Но тесно там было, пока мы не умяли подстилку, зато после, когда она была смята локтями, коленями, спинами, внутри получилось что-то вроде гнезда. Залезая в пахучую и шелестящую гущу листвы, мы оказывались внутри природы в самом буквальном смысле: вокруг нас шуршала, гудела, дышала и ползала сама жизнь. В летнем её изобилии было намешано столько всего, что твоих юных чувств не хватало, чтоб уловить и заметить все эти оттенки, детали и мелочи слитно гудящей вокруг тебя жизни; но хорошо помню то состояние восхищённого изумления, которое переполняло мою десятилетнюю душу. Ни до, и ни после я не оказывался настолько в природе и не бывал с ней настолько един, как тогда, в шалаше, когда даже моё дыхание передавалось веткам и листьям, и порой чудилось: шалаш дышит вместе со мной, поэтому весь этот пышный лиственный ворох, пронизанный иглами солнца, есть продолженье меня самого.
Выражение «рай в шалаше» стало с тех пор мне понятно в самом прямом его смысле: именно в том, что в шалаше – рай. И этот рай оказался нам явлен на излёте ангельских лет: мы стояли уже на пороге подросткового, сумрачно-беспокойного возраста. Совсем уже скоро гормональные бури должны были затмить безмятежное небо детства, чтобы надолго, чуть ли не на всю жизнь, погрузить нас в мир смутных желаний.
Но в то чудесное лето мы были ещё детьми. Затаившись, мы тихо лежали в укромном своём шалаше и даже разговаривали, помнится, шёпотом, чтобы не нарушать равновесия мира. Порой я задрёмывал – или, точнее сказать, погружался в то зыбкое состояние между явью и сном, когда не можешь понять: реальности или сонному вымыслу принадлежит то, что тебя окружает? Мир терял разделённость и чёткость и превращался в смутную смесь, в которой ты сам находился везде – и нигде, потому что ты сам был нечёток, размыт и непрерывно перетекал из себя самого в окружающий мир и обратно.
Вдруг в ту блаженную дрёму – возможно, она была чем-то сродни индуистской нирване – врывались грубые и чужеродные звуки. Ты слышал глухой приближавшийся топот и треск – он отчётливо передавался подрагивавшей земле, – слышал тяжкие, как бы страдавшие, вздохи, а следом мычание. И ты, даже сквозь сон, понимал: приближается стадо. Не то чтобы мы боялись коров – нам, жителям деревенской окраины, они были хорошо знакомы, – но нас пугала та неотвратимая мощь, с которою через трепещущий березняк тяжко двигалось стадо. Душа понимала: так грозно и неотвратимо может двигаться только что-то огромное, превосходящее все наши силы – например, время или судьба, – поэтому мы лежали оторопев, ни живы ни мертвы, и надеялись только на то, что коровы, быть может, обойдут шалаш стороной.
Но стадо накатывало на нас как лавина. Земля дрожала от топота; березняк, сквозь который ломились коровы, трещал; а гул оводов, непременных спутников летнего стада, нарастал до злобного воя. И вот – как сейчас, помню эту секунду – шалаш затрещал, накренился – и сквозь стену из веток и листьев к нам просунулась шумно сопящая и слюнявая морда! Не помня себя, мы выскочили из шалаша прямо сквозь его противоположную стену и понеслись без оглядки, не разбирая дороги и не чувствуя веток, хлеставших по лицам.
А ныне, вспоминая тот детский шалаш, так быстро павший под натиском деревенского стада, я думаю: а ведь это и было нашим изгнаньем из рая – изгнаньем в тот мир, где нам никогда уж не будет так безмятежно и так хорошо…
II
Была у меня, как у многих, еще и бездомная юность. Закончив школу, я уехал в Смоленск, поступил там в медицинский институт и шесть лет прожил в общежитии.
Различного рода «общаг» тогда было множество: можно сказать, вся страна представляла собою громадных размеров «общагу». Всюду кипела густая и слитная общая жизнь, раствориться в которой было и страшно, и в то же время желанно. Даже если не брать в расчёт общежития как таковые, ещё были и коммуналки, и гостиницы с шестиместными номерами («…где койка у окна, – как пел поэт, – всего лишь по рублю…»), и пионерские лагеря, где молодёжи страны с малых лет прививали навыки «коммунистического общежития», и воинские казармы, разом вскидывавшиеся по команде: «Р-рота, подъём!», и лагеря за колючей проволокой, где едва ли не главным испытанием для заключённых была невозможность хотя бы недолго побыть одному.
А поезда, особенно те, что назывались рабочими? Сколько раз, вытянувшись на третьей багажной полке, я из-под крыши вагона наблюдал коловращение лиц, затылков, шапок, рюкзаков, сумок, корзин той порою, как медленный поезд, запинаясь на каждом столбе, вёз людей в утренний город – на службу, учёбу и на работу в заводские цеха. По проходам и по отсекам вагона кипела неразделимая общая жизнь; да и сам утренний поезд казался единым живым существом, по сочлененьям которого туго двигалась слитная масса людей.
А автобусы или троллейбусы в час пик, когда втиснуться в их двери представляло почти акробатическую задачу? Внутри, между взмокших от давки и духоты спин и грудей, ты не мог ни свободно вздохнуть, ни подвинуться: ты был уж не ты, а частица огромной, кряхтящей и трудно вздыхающей массы, которую тряс, трамбовал и куда-то тащил завывающий от натуги автобус. И если бы ты сейчас поджал ноги, тебе не дала бы упасть та людская толпа, частью которой и ты сам являлся на время общего, так сплотившего всех путешествия.
Но вернёмся в общагу. Та, где ты жил первые годы учёбы, была огромна и сумрачна, и её хорошо знал весь город. Она возвышалась над его восточной окраиной, словно крепость, хранившая общую жизнь. По сути, общага сама была целым городом; порою даже мерещилось, что она превосходит своей глубиною и сложностью тот город, на краю которого она высилась своей сумрачной пятиэтажной громадой. В ней было всё, что необходимо для жизни: не просто комнаты с койками, но ещё и столовая, библиотеки и кухни, читальные и спортивные залы, переговорные телефонные пункты, в подвале был даже стрелковый тир – так, что можно было бы, в принципе, целые годы прожить, не выходя из общаги наружу.
Но вот если сейчас я спрошу самого же себя: а была ли общага по-настоящему домом? – мне будет сложно ответить на этот вопрос. Конечно, с одной стороны, это был дом, да ещё какой дом: он служил многолетним приютом для сотен, если не тысяч людей, он был громаден, могуч и, казалось, несокрушим.
А с другой стороны, нет, это был всё же не дом. Потому что понятие дома, которое мной было впитано с детства – ещё с хаты прадеда, с Нинкиной мазанки, с шалаша и с походных палаток, – включало прежде всего ощущение дома как места, где ты можешь быть самим собой: можешь молчать или думать, читать или спать, предаваться радости или печали, не беспокоясь о том, что твоя частная жизнь происходит на чьих-либо глазах и в чьём-либо присутствии и тебе ежеминутно приходится делать поправку на эту назойливую публичность. Уж какая там частная жизнь, когда, может быть, главной целью общаги и было её подавление, а главным желанием было превратить и смешать всё разнообразное множество частных жизней и судеб в едином котле, в нераздельном единстве безликого общего существования?
Да, это было мучительной, неразрешимой проблемой: решить наконец, что же это такое – «общага» и как нужно к ней относиться? Она «дом» – или всё же не «дом»? Благо – или опасность? И кому нужно верить: общаге – или себе самому?
И вот этой мучительной двойственностью отношений с общагой была полна вся моя юность. С одной стороны, я боролся с общагой, как только мог, боролся за право на одиночество и независимость, за право оставаться собой, а с другой стороны, я любил в ней всё то, чего мне самому так недоставало: любил её мощь, её сумрак, её глубину…
Сейчас, с расстояния в жизнь, я вижу, что в нашей общаге даже пространство и время были особыми. Глубокие сумерки, что обычно царили в общаге, они словно превосходили собою объём, который занимало это пятиэтажное здание, и добавляли к трём привычным пространственным координатам ещё и свои, необычные и необъяснимые. Входя внутрь общаги, я нередко испытывал некий озноб погруженья в иное пространство, не имеющее ни чётких границ, ни определений, – пространство, постоянно творящее само же себя и само себя превосходящее. Находясь внутри этих сумерек, я не мог точно сказать, где же именно кончается наша общага, но догадывался, что она продолжается чуть ли не бесконечно. Прожив в ней несколько лет, исходив её вдоль-поперёк, я не только не побывал во всех её комнатах и закоулках, укромных углах, но я чувствовал, что по мере погруженья в общагу и изучения её сумрачных недр область неизведанного и непостижимого лишь расширяется.
Кроме загадок пространства общага хранила и тайны времени. Если снаружи время двигалось, большей частью, линейно – из прошлого в будущее, вскользь касаясь неуловимого настоящего, – то внутри общаги время двигалось скорее по кругу. Дни, недели и даже годы здесь повторяли друг друга, и в этом циклическом круговороте был такой монотонно-дремотный уют, что само время, казалось, засыпало от собственного коловращения и больше не видело разницы меж настоящим, прошлым иль будущим.
Условным началом суток общаги можно было считать шесть утра – время, когда во всех комнатах начинал звучать государственный гимн. Интересно, что радиоточку нельзя было выключить полностью: даже при повёрнутом до упора регуляторе громкости какой-то остаточный звук всё равно был слышен – и зов гимна пускай и негромкий, но раздавался во всех, без исключения, комнатах. И этому зову было трудно противиться: тяга могучего гимна словно выдёргивала из тишины всю сонно вздыхающую общагу. Ещё не смолкали последние такты – «…нас к торжеству коммунизма ведёт!», – как гимн заглушался пробуждающимися голосами и скрипом кроватей, стуком дверей, гудением кранов на кухнях и в общих сортирах и топаньем или шарканьем множества ног в гулких утренних коридорах. Всё громадное тело общаги, кряхтя, потягиваясь и зевая, пробуждалось к очередному дню.
Всего оживлённее было на кухнях, где шумела вода, выли трубы и звучала всё нараставшая разноголосица. В сумерках кухонь – а там всегда было сумрачно, даже при тлеющих под потолком тусклых лампах, – синими газовыми цветами мерцали горелки, на которых стояли кастрюли и чайники. И там, на утренних кухнях, где были одни только плиты, обитые цинком столы да синие стены в облупившейся масляной краске, – там ощущался какой-то особый уют неуюта. Да, здесь было зябко и голо, здесь некуда было присесть – разве что на подоконник, или холодный цинковый стол, – но здесь царил совершенно особенный и необъяснимый покой. И если б не нужно было зубрить анатомию, ожидая зачёт по какой-нибудь ненавидимой всеми студентами, височной кости, я бы так и оставался на кухне, наблюдая, как сонные (и оттого ещё более милые) девушки снуют здесь меж плит и кастрюль…
После утреннего оживления общага надолго стихала: её обитатели разбегались по клиникам, кафедрам и лабораториям. Лишь к вечеру комнаты и коридоры опять наполнялись студентами, на кухнях опять зажигались горелки, свистели чайники и кипели кастрюли – и жизнь возвращалась в огромный и сумрачный дом. Большинство студентов вечера проводило в читалке, то есть в читальном зале институтской библиотеки, располагавшейся в той же самой общаге. В гулком зале с колоннами столы были расставлены так просторно, что даже негромкие разговоры почти не мешали соседям, и читалка поэтому становилась местом встреч и знакомств, перераставших порою в студенческие романы. Как было не поинтересоваться у хорошенькой девушки, читающей «Анатомию» под редакцией академика Привеса, о сдаче ею очередного зачёта или о том, что она собирается делать в субботу?
Впрочем, воспоминания о девушках могут нас завести далеко, поэтому лучше вернёмся к тому, как текли сутки общаги. Вечер был здесь главным временем: именно по вечерам всё громадное здание оживало вполне. Студенты сновали из комнаты в комнату, взрывы хохота раздавались то там, то тут, в торцах коридоров скучивались компании и порою звучала гитара, а на многочисленных лестницах – их было восемь – обнимались и целовались влюблённые парочки. Тогда, вечерами, общага почти забывала о том, как она стара, потому что её коридоры и комнаты, кухни и лестницы наполняла юная жизнь. И этой томящейся жизни не хотелось ни сна, ни покоя; даже государственный гимн, что ровно в полночь гудел по всем комнатам из радиоточек, не мог её угомонить, и по ночным коридорам и лестницам ещё долго звучали шаги, голоса и гитары…
Существовали в жизни общаги и недельные циклы, апофеозом которых были субботние танцы. Тогда читальный зал преображался: столы и стулья сдвигались к стенам, в углу устанавливался магнитофон с колонками, и в тёмных окнах читалки отражались уже не затылки и спины зубрящих студентов, а содрогающаяся в общем танце толпа. В зал тогда трудно было войти – из-за тесноты, духоты и ещё из-за того, что ритмичная громкая музыка непрерывно утрамбовывала и так уже плотно сгустившееся пространство. А протиснувшись внутрь, невозможно было не двигаться вместе со всеми, не разделять с толпой её исступлённых конвульсий. В оглушительном грохоте и темноте, озаряемой вспышками беглых огней, больше не существовало отдельных людей, была только слитная плазма толпы, которая сокращалась, дышала и двигалась в собственном ритме, и ни смысл, ни конечная цель этих судорожных движений не интересовали никого из танцующих. Ни одно из событий, происходивших в общаге, так не сближало, не сплачивало и не уравнивало людей, как эти субботние танцы, в которых мистерия коллективного существования достигала предельной, оргазменной точки. По сути, в том завывании, рёве и грохоте, в той темноте, прерываемой вспышками, в той духоте, от которой по стёклам чернеющих окон струилась вода, происходило грандиозное совокупленье общаги с самою собой; и толпа в этой оргии общего танца была и жертвою, и насильником одновременно.
И ничего, что старые стены общаги дрожали от топота ног и от грохота музыки, угрожающей вышибить стёкла; всё, что происходило сейчас в её недрах, служило лишь к укреплению духа общаги – того, что невидимо жил среди этих сумрачных стен, перекрытий и лестниц и что наполнял не одни только комнаты и коридоры, но и юные души питомцев громадного дома. Даже потом, уже за полночь, когда музыка затихала, разогретые танцами парни и девушки никак не могли разойтись – слишком тесно и долго они танцевали, и уже не хотели вернуться в знобящую пустоту одинокого существования. Из читалки расходились всё больше парами, взявшись за руки или в обнимку, пошатываясь от духоты, от вина, от усталости, и ещё от предчувствий того, что их ожидало. Молодёжь разбредалась по комнатам, по укромным углам, по площадкам ночных чёрных лестниц, и там отдавалась тому, что желал – через их молодые тела и души – невидимый дух общаги…
Как вершиной недельного цикла общаги были субботние танцы, так вершиной годичного круга служило «ношение покойника», совершавшееся ежегодно, в ночь на четырнадцатое января.
Сейчас даже трудно поверить, что это действительно было, а не привиделось в снах. Как, каким образом в недрах огромного здания, погружённого в недра советской эпохи, разворачивалось настоящее карнавальное действо, чьи традиции восходили чуть ли не к карнавалам Средних веков? Может, какую-то роль здесь играла латынь? Ведь язык студиозусов средневековой Европы почти непрерывно звучал в этих стенах: студенты зубрили учёные фразы и термины, и это усердное их бормотание, напоминавшее заклинание на колдовском языке, словно переносило общагу на много столетий назад.
Задолго до полуночи в коридорах, на лестницах, в комнатах общежития уже ощущалась дрожь нетерпения. «А покойника будут сегодня носить?» – случалось, спрашивал неопытный первокурсник, ещё только вживавшийся в мир общаги; «А как же? – отвечал ему кто-нибудь из старожилов. – Вот погоди, сам всё увидишь…»
Устраивал карнавал выпускной шестой курс, передавая преемникам эстафету традиции, чьё зарожденье терялось во мгле прошлого. Ближе к полуночи то нетерпение, что томило питомцев общаги и наполняло их почти электрическим напряжением, оно превращалось в глухой и невнятный, но с каждой минутою нарастающий гул. Этот гул расширялся и рос, заполнял собой целый этаж, где и разливалось карнавальное действо.
Полуголый «покойник» – студент в простыне, со свечою в руке – плыл над головами, лёжа навзничь на двери, которую сняли с петель; а за ним голосила, кривлялась, плясала толпа бесновавшихся ряженых. Там был «доктор» в халате, надетом на голое тело; был толстый «священник» в рясе из одеяла, с самодельным «кадилом» в руке; было пять-шесть «русалок» в купальниках, извивавшихся соблазнительно и откровенно; была даже «смерть» – на костлявой груди углём нарисованы рёбра, лицо с помощью краски превращено в подобие черепа, и этот полускелет-получеловек едва ли не живей всех отплясывал посреди лихорадочной и исступлённой толпы…
Карнавал, распаляясь всё более, перетекал с этажа на этаж. «Покойника» уже пару раз уронили, но вновь уложили на дверь. Вязкая масса толпы протискивалась по лестницам и коридорам, затекала в те комнаты, что оказывались открыты, и переворачивала в них всё кверху дном; потные лица участников карнавала становились всё более ошеломлённо-безумны, движения – всё более взвинченны и непристойны. Время от времени в коридорах гас свет, и тогда только редкие свечи озаряли путь карнавала, бросая на стены громадные зыбкие тени и превращая всё действо вподобие то ли кошмарного сна, то ли грёз воспалённого воображения. Что это было? Чего так исступлённо желало и куда двигалось всё это множество возбуждённых студентов, от криков которых и топота ног содрогались стены старого здания? Как будто те скрытые силы общаги, которые целый год в ней дремали по тайным углам, сейчас, в эту полубезумную ночь карнавала, выходили наружу, вселяясь в людей. И все те, кто впускал в свою душу сакральные силы общаги, становились причастны чему-то настолько глубинному, древнему и первобытно-могучему, что отдельная, частная жизнь человека уже не имела значения перед этой клубящейся общею жизнью. В карнавальную ночь люди переставали быть сами собой – они одевали личины и растворялись в безумии и одержимости общего существования…
Но, что важно, такое могло происходить лишь внутри дома, под защитой его крепких стен. Как, кстати, и карнавалы средневековой Европы: лишь теснота городов, защищённых стенами, позволяла их жителям так распускаться, безумствовать и расставаться на дни карнавала с самими собой и привычною жизнью, потому что, по сути, всё это было лишь детской игрой внутри крепких стен дома. Свобода – в том числе, и карнавальная – рождается лишь изнутри несвободы: чтоб нарушить запрет и границу, прежде всего нужно эти запрет и границу иметь.
Вот и студенческий тот карнавал мог происходить только в здании старой общаги, в её герметически замкнутом мире.
На время экзаменов в общежитии наступало затишье, только шёпот усердной зубрёжки слышался в комнатах и между колоннами читального зала. А в пору летних каникул общага и вовсе пустела: лишь те бедолаги, что не сумели сдать сессию и ожидали переэкзаменовки, неприкаянно и одиноко бродили по коридорам.
Основная же масса студентов летом разъезжалась по стройотрядам. В самых дальних углах Смоленщины тогда появлялись парни и девушки в куртках защитного цвета, с нашивками на рукавах в виде факела или чаши со змеёй; и в пустующих избах или сельских школах на два летних месяца возникали как бы филиалы общаги. Молодёжь пока была бледной после сессионной зубрёжки, но уже очень скоро лица, плечи и спины студентов покрывались здоровым рабочим загаром, а учёная медицинская заумь выветривалась из опустевших голов.
Наш стройотрядовский быт, сколько помню, всегда был предельно простым: ничего, кроме койки да сортира надворного типа, эти летние мини-общаги нам не предлагали. Да и до быта ли нам тогда было, если мы вечерами падали на кровати без чувств, как убитые? После двенадцати – четырнадцати часов, проведенных на стройке, стоило только закрыть глаза, как чуть ли не тут же раздавался трезвон будильника, поднимавший нас к новому трудовому дню. И первое, что я ощущал в миг пробуждения, это набрякшие кисти собственных рук: словно и ночью, во сне, моя левая рука держала кирпич, а правая нажимала на мастерок. Всё-таки переход от студенческой авторучки к серьёзному инструменту был слишком резок, и руки не сразу к нему привыкали: поутру даже просто сжать пальцы в кулак и то было больно и трудно.
Что мы строили там, в стройотрядах? В основном это были дома, иногда для людей, иногда для коров и телят. Так что от дома мне было никуда не уйти, даже в дни полубездомной юности. И теперь я к познанию дома приближался так близко, как только возможно, ибо я сам теперь строил дома. Я узнавал, как они создаются и чем они держатся – не одним лишь умом, но и всеми чувствами, даже всем телом: руками, ногами, спиною и кожей, всё более смуглой от летнего солнца, палившего наши затылки и плечи.
Песок в кладочный раствор должен был идти самый чистый, ведь из-за малейшего камешка в нём кирпич ляжет в стену неровно. Поэтому кладка стены начиналась с того, что мы устанавливали рядом с кучей речного песка, завезённого старым «зилком»-самосвалом, наклонённую панцирную сетку кровати и совковой лопатой бросали песок на неё. Песок с шорохом осыпался по сетке и проваливался сквозь ячеи, а камушки с костяным пощёлкиванием отскакивали от упругого панцирного полотна. Эта работа была бездумной и лёгкой – знай, набрасывай на сетку песок, – и было жаль её прерывать, когда конус просеянного песка поднимался до сетки кровати. Этот конус напоминал в увеличенном виде конус песочных часов, и тебя посещали не то чтобы мысли о времени – молодость редко задумывается о нём, – но ощущение времени как вещества, вот такого же рыхлого, мягкого, неудержимо сыпучего и прибавляющегося стремительно и незаметно, как этот песок. А если присесть на корточки к жёлтой куче песка и погрузить в неё руки, горячие от лопатного черенка, тебя вдруг прохватывал краткий озноб: твои кисти тонули в прохладе прошедшего времени…
Когда просеянного песка набиралось достаточно, мы брали молочную сорокалитровую флягу и отправлялись к водоразборной колонке. Это хожденье к колонке – туда с пустой, громыхающей, гулкою флягой, а оттуда с тяжёлою, мокрою и ледяной – тоже осталось в душе как одно из важнейших событий, как будто раствором, замешанном нами в огромном железном корыте, скреплялась не только кирпичная кладка, но и вся наша юная жизнь.
Столб чугунной колонки стоял, накренясь, а трава вокруг была много свежее и зеленее, чем в прочих местах. Установив пустую гулкую флягу на два мокрых, замшелых кирпича, ты нажимал рычаг – и откуда-то из-под земли доносилось гуденье и дрожь. Эти гул и вибрация передавались колонке, её рычагу и твоей руке, нажимающей на него, так, что и сквозь твоё тело проходила дрожь подземелья. А затем в дно бидона ударялась струя напряжённой воды. Её напор был так силён, что фляга шаталась, звенела, но с каждой секундою звук понижался, и кирпичи, подпиравшие потяжелевшую флягу, ещё глубже тонули во влажной земле.
Если же вам с напарником хотелось напиться, то приходилось, оттащив флягу в сторону, буквально откусывать воду от жилистой и перевитой в тугой жгут струи. А когда ты решал освежиться и бросался под колонку ничком, то меж напряжённых горячих лопаток словно вонзался ледяной кол.
Потом мы замешивали раствор. Сначала вёдрами насыпали в бадью песок и цемент, в пропорции где-то один к четырём, затем перелопачивали эту пыльную смесь, а уж потом подливали воды. Песчано-цементная смесь моментально темнела и тяжелела, и если бы не штыковые лопаты, она так и лежала б на дне, как пласт вязкого серого ила. Но лопаты, на черенки которых мы налегали всем телом, двигались непрерывно, вздымая тяжёлую серую массу. И в том, как лопатные лопасти то всплывали из чавкавшей жижи, то опять погружались в неё, в том, как покачивалась бадья и как стёршийся черенок лопаты ритмично поскрипывал, опираясь о её край, – в этом всём было что-то настолько простое и изначальное, что казалось: ритм этой работы неотделим ни от ритма дыхания, ни от того, как неспешно и благостно движется день…
Но всё это – и просеивание песка, и замешивание раствора, и ещё множество действий, происходивших на стройплощадке, – было приготовлением к главному – кладке стены.
Если сложить все мои стройотряды, то получается, что я отработал строителем целый год, отстояв его большую часть именно на каменной кладке. Конечно, тогда я и думать не думал, что когда-то, уже в следующем веке, из молодого худого студента сделавшись лысым, грузным врачом, я начну сочинять книгу «Дом», и как раз впечатления стройотрядовской юности позволят мне писать её со знанием дела, будучи не понаслышке знакомым с ремеслом каменщика. Но всё-таки что-то мерещилось даже тогда, когда я стоял на подмостях с кирпичом в левой руке и с мастерком – в правой: брезжило смутное предположенье о том, что любое конкретное дело – скажем, кладка стены – нуждается в дополнении и оправдании словом. И недаром я часто бормотал про себя, ведя кладку, строки шекспировского сонета:
Пускай повалит статуи война,
Мятеж разрушит каменщика труд,
Но врезанные в память письмена
Грядущие столетья не сотрут…
Но и помимо глубокого смысла, заключённого в них, эти строки Шекспира помогали работать самим своим ритмом и тягой. Словно бы в ритме строфы твой мастерок нырял в ведро с раствором, зачерпывал вязкую серую массу, швырял её на стену и разравнивал быстрым волнистым движением, а потом левой рукой ты хватал верхний кирпич из заранее приготовленной стопки и опускал его на податливо расползающийся раствор. И обязательно выполнялись ещё два движения, придававших работе каменщика некую щеголеватость: во-первых, торцом мастерка надо было постукать кирпич, подгоняя его поточнее, а во-вторых, широким шаркающим движением подхватить «сопли» раствора с наружной версты и точно швырнуть их в торец кирпича.
Пальцы левой руки до сих пор помнят то, как шершав и горяч на ощупь кирпич и с каким шелестением он выскальзывает из твоей загрубелой ладони. А мозоль на указательном пальце правой руки, образовавшаяся от постоянного трения кельмы-мастерка, начинала казаться частью строительного инструмента – тем, что принадлежит уж не столько тебе самому, сколько вот этому мастерку, кирпичам, о которые он ударяет, и всей этой стене, медленно прибавляющей один ряд за другим.
Монотонно-ритмичная кладка порой так увлекала, что было важно вовремя притормозить, чтобы не «завалить» углы или «маяки», а точно выставить их по горизонтали и вертикали. Отвесом обычно служила половина кирпича, привязанная к пеньковой верёвке; и вот таким простейшим, но точным прибором мы выверяли положение наших стен и углов по отношению ни много ни мало к центру земли. Поднимешь, бывало, отвес – и, прищуривая глаз, смотришь, приближая его к углу кладки то с одной, то с другой стороны: а совпадает ли грань кирпича с крутящейся и всегда чуть взлохмаченной вертикалью пеньковой верёвки? Но кроме сближающихся кирпича и отвеса заметишь ещё много всего: и жёлтую кучу песка, из которой торчат лопаты, и перевёрнутые носилки с присевшей на них трясогузкой, и деревенские крыши, и зубчатую линию дальнего леса, и кипельно-белые облака в синем небе. И покажется вдруг, что своим отвесом ты выверяешь не только положение кирпичей в стене, а проверяешь весь летний солнечный мир. И тебя радует то, что всё в мире правильно, что он ни малейшей чертою и гранью не выпал из этой единственной и состоявшейся правоты.
А для определения горизонталей нам служил уровень, в длинной коробке которого бегал туда-сюда пузырёк воздуха и никак не хотел успокоиться возле центральной черты. Но этот прибор мы использовали только на стадии цоколя, а выше ровняли ряды по шнуру. Он натягивался на гвоздях, вдавленных в ещё влажный раствор «маяков»; и было прямо-таки наслаждением видеть, как верхняя грань кирпича после двух-трёх ударов кельмы с точностью до миллиметра совпадает с чертою шнура. Казалось, не только ты сам, но и весь мир стал устойчивей в этот момент, потому что в нём стало больше порядка.
Стена росла и росла. И это её упорное стремление вверх – против силы тяжести, основного закона природы, – роднило стену с живыми существами, которые тоже растут вопреки тому, что им диктует закон всемирного тяготения. И ещё рост стены напоминал о движении времени: он был незаметен – и неудержим. На первый взгляд могло показаться, что никакого движения вовсе и нет, что всё увязло в каких-то второстепенных, подготовительных действиях: поднять, скажем, подмости, перебросать на них несколько сотен штук кирпича, передвинуть бадью для раствора или затереть швы наружной версты. И если следить за стеной неотрывно и пристально – она будет казаться такой же недвижной, как и часовая стрелка на циферблате. Но стоит чем-то отвлечься или день-два вообще не появляться на стройке, то с изумлением видишь, насколько же выросла ваша стена. Так и время: недвижное с виду, оно незаметно и исподволь совершает громадные и леденящие душу скачки…
Стена уже так высока, что с подмостей, как ни тянись, не достать до наружной версты: хочешь не хочешь, приходится «перемащиваться», поднимать настил подмостей выше. Но зато вот такая, выросшая стена отчётливо разделяет пространство на внутреннее и внешнее. И это тоже роднит стену с живым существом, ведь самое первое, с чего начинается жизнь в большинстве её форм, это создание клеточной стенки. И то, что внутри, начинает жить собственной жизнью, иною, чем жизнь снаружи. Внутри – хоть живой клетки, хоть дома – всегда больше порядка; всемирный закон нарастания энтропии даёт сбой внутри ограждающих что-либо стен.
Но едва ль не важней, чем сама стена, со всей её метафизикой, было то, что происходило с тобой, каменщиком, той порою, как ты день за днём поднимал эту стену. Да, это было порою и трудно, и скучно, и часто хотелось, побросав инструменты, пойти искупаться на пруд или лечь подремать в холодке, в тени подмостей, но ты терпел и работал, и чувствовал, как вместе с ростом стены что-то меняется и в тебе самом. Порядка и смысла прибавлялось не только в пространстве внутри поднимавшихся стен; но и в твоей душе, ещё такой зыбкой, такой неуверенной и молодой, что-то росло, укреплялось и зрело. В тебе появлялась опора, и этой опорой служил твой внутренний выбор, сделанный в пользу стены – и работы. Работать едва ли не более необходимо, чем жить: вот та формула, тот символ веры, который ты медленно, но неуклонно выкладывал сам в себе в то время, как твои руки прилаживали кирпич к кирпичу.
Можно сказать, в те знойные дни, когда пот с твоего лица падал на кладку вперемешку с раствором, ты превращался из незрелого юноши в зрелого человека. Это было настоящей инициацией, становлением тебя как мужчины не просто в биологическом смысле (это дело нехитрое и доступное многим), а в том, что ты выбирал мужской образ жизни, который придётся нести до скончания дней. Там, на каменной кладке, ты расставался с юностью, как возрастом разрушения и мятежа, и переходил в возраст творчества и созидания.
Здесь самое время отметить, что главные из работ, которыми я занимался в течение жизни – стоя у операционного стола или сидя у стола письменного, – тоже напоминают терпеливый труд каменщика. Хирург, разделяющий ткани, а затем вновь их сводящий, кропотливо завязывающий узлы лигатур, он даже сутулится над столом почти так же, как каменщик, что кладёт ряд за рядом. Только светит хирургу не солнце, а многоглазая лампа; но пот часто льётся с его лица так же обильно, как если бы он жарким полднем стоял на строительных подмостях.
А сочинение текста? В этой работе есть и длительная подготовка – своего рода возведение лесов, без которых не поднять стену, – обдумывание и составление плана, многочисленные предварительные наброски и черновики; есть тягостные задержки в работе, когда текст не движется, как и стена, остановившаяся в дни затяжного ненастья. И есть в сочинительстве тот же странный «эффект часовой стрелки», когда текст прибавляется совершенно, казалось бы, ничтожными и незаметными порциями, но вдруг человек, что усердно и долго писал строку за строкой, с изумлением видит: работа близка к завершению…
Где-то к полудню, когда солнце палило нещадней всего, подходило время обеда. Нет нужды говорить, что аппетит у нас, двадцатилетних, да ещё после тяжёлой, азартной работы, был волчий. Помнится, как неудобно было держать почти невесомую ложку огрубевшими пальцами, так привыкшими к мастерку и строительному молотку, и как приходилось подавлять желание припасть к миске ртом, чтобы отхлёбывать суп прямо через её жестяной край.
Навернув пару тарелок густого варева, да ещё с полбуханкою свежего хлеба, ты бывал так оглушён навалившейся сытостью, что боялся заснуть прямо с ложкой в руке. Но спать после обеда нам не полагалось – режим был по-армейски жёсткий, – и мы все, осоловевшие и отупевшие, поднимались из-за столов и брели снова на стройку. Наверное, со стороны это выглядело забавно: как полтора десятка сомнамбул в строительных робах бредут по обочине деревенской дороги, загребая горячую серую пыль грубыми башмаками, а у деревенских собак, валяющихся под заборами с высунутыми языками, нет даже сил, чтоб их облаять.
Единственною поблажкой, что мы себе позволяли, вернувшись на стройку после обеда, было полежать минут двадцать в тенёчке – где-нибудь под стеной, или на подмостях, меж кирпичей и носилок с раствором, – потому что вставать сразу на кладку было выше человеческих сил. И вот эти пятнадцать – двадцать минут послеобеденной дрёмы на подмостях превращались в целое странствие, в которое отправлялась твоя молодая душа, той порою, как тело – ничком или навзничь – лежало на грубых досках. Порою ты вздрагивал: в момент погружения в сон мерещилось, что доски настила кренятся, и ты с них вот-вот соскользнёшь. Но, на миг пробудившись, ощутив и щекой, и рукой их надёжную твёрдость, ты вновь, успокоенный, погружался в дремоту. Ты словно скользил мимо вёдер, носилок, корыт из-под раствора, мимо трапов, вагончиков и трансформаторных будок, мимо коровника с провалившейся крышей, в прорехи которой ты видел худые пегие спины коров, мимо ржавого остова трактора, почти незаметного в зарослях непролазной крапивы, мимо крыш и заборов деревни, по-над липами старого парка – их кроны гудели от вьющихся пчёл – скользил дальше и дальше, туда, где пространство и время, реальность и сон нераздельно сливались…
Что же тебя пробуждало от сладкого сна на скрипучих, раствором забрызганных подмостях? Иногда это был крик бригадира: «Кончай дрыхнуть, кирпич привезли!», а иногда гудок поезда, раздававшийся из-за недалёкого перелеска. Сверху звуки железной дороги были слышны хорошо, и перестук приближавшихся, а затем затихавших вдали составов нередко врывался в твой сон.
А ведь поезда – это тоже дома, только не находящие себе места. В них есть всё, что должно быть в доме: крыша и стены, столы и постели, – в них топятся печи, в титанах бурлит кипяток, в них едят, отдыхают, спят люди, но в них нет прочной связи с землёй, и поэтому эти дома на колёсах – бездомны.
Как грустно, что в мире есть столько бездомных домов… Ведь главная из составляющих счастья – покой; а какой же покой может быть на трясущейся полке вагона, летящего в ночь под двойной перестук беспокойных колёс? Но, с другой стороны, лишь в поездах к тебе, молодому, и приходило успокоение. Пока ты жил на одном месте – в той же, скажем, общаге, – тебя не оставляло тревожное чувство, что самое главное в жизни свершается где-то помимо тебя, что лучшие годы проходят напрасно: что хорошо, словом, там, где нас нет. Но стоило только сесть в поезд, а потом ощутить ногами дрожь застучавшего на рельсовых стыках вагона, стоило только увидеть, как за окном вверх-вниз скользят провода и мелькают столбы, как тревога стихала. Словно именно к той, так манившей тебя неизвестной дали и мчался сейчас ваш плацкартный вагон: каждый рельсовый стык, каждый столб, промелькнувший в окне, и эта, скользнувшая мимо, будка обходчика тебя к ней приближали…
Вот поэтому ты и любил поезда. Когда стоял ещё на перроне и чувствовал, как он дрожит от приближающихся вагонов, а лобовой прожектор тепловоза из маленькой звёздочки превращается в слепящее солнце, которое с гулом проносится над головами, тогда и в тебе начинал нетерпеливо подрагивать каждый сустав. Скрипя, отдуваясь и лязгая, поезд замедлялся, потом останавливался, и ты порой видел, как из его сочленений на шпалы капает влага – этот словно бы пот разгорячённого и хорошо потрудившегося состава. Распахивалась вагонная дверь, затем откидывалась площадка, закрывающая ступени, и ты торопливо вскакивал в тамбур, навстречу капроновым круглым коленям посторонившейся проводницы. В проходе вагона первое, что встречало тебя, был горячий титан с кипятком и ведёрко угля на полу рядом с ним. Горький запах угля был, конечно, тревожен, но эту тревогу быстро смирял уют дремлющего вагона, углы простынь, свисавших в проход с верхних полок, и сонные вздохи полуочнувшихся пассажиров, их вопросы спросонья: «Какая станция? Сколько стоим?» – и остатки их трапез на столиках – словом, всё то родное, до боли знакомое, что называлось: «плацкартный вагон в три часа ночи».
Конечно, тебе в это время тоже хотелось спать; но мир ночного вагона был так интересен и так тобою любим, что ты нарочно оттягивал миг засыпания, зная, что сон от тебя, молодого, всё равно не уйдёт, и, растянувшись на верхней полке, всеми чувствами впитывал то, что тебя окружало. Ты слышал, как под полом вагона что-то зазвякало, а потом зажурчало – наверное, там проверяли тормозные колодки и наполняли баки водой, – а потом слышал, как стукнули сцепки, и вагон мягко подался сначала в одну сторону, но, спохватившись, качнулся и поплыл в противоположную. Колёса внизу застучали чаще и чаще; полосы света быстрей и быстрей замелькали в проходе – и вдруг погасли: поезд словно сорвался с лучей станционных огней в глухую и тёмную ночь. Скорости хода почти не ощущалось, но ты всем телом чувствовал, как вагон напряжённо дрожит, словно он так, застоявшись, озяб, что теперь не мог справиться с этим ознобом. От окна в самом деле тянуло январскою стужей, и ты, как мог, подушкой и краем матраца отгораживался от ледяного стекла. Ещё хорошо, что в вагоне щедро топили, и десяткам дремавших людей стужа ночи была нипочём.