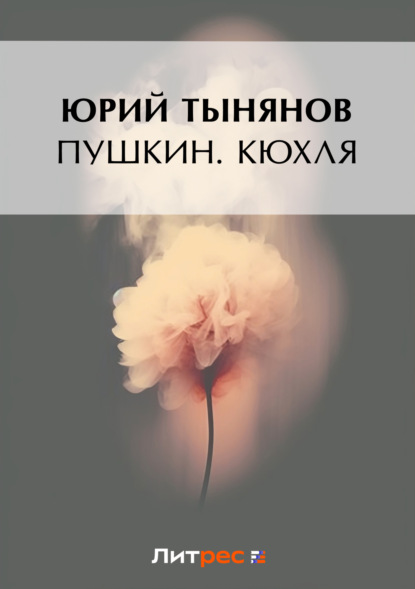 Полная версия
Полная версияПушкин. Кюхля
Они не были более баловнями, школярами, студентами, не были даже отшельниками, монахами, как они любили себя воображать в своих «кельях», они попросту были придворные певчие.
Встреча с ополченцами их утешила: все были теперь серые; это была походная форма. Такова была война. Кормить их стали скудно. Ранее, когда эконом кормил их пустыми щами и выдавал жидкий чай, они искали его по всему лицею, а он от них прятался. Теперь он не прятался от них, а, напротив, охотно появлялся. Когда они говорили, что щи пустые, он разводил руками и важно говорил:
– Приказ.
Рыжие бакенбарды его были расчесаны.
Во всем соблюдалась скупость почти походная.
Изменилось, казалось, и Царское Село, о котором Малиновский при открытии говорил как о мирной обители; они не замечали ранее, что все наполнено здесь свирепою памятью войн и побед: Турецкий киоск, Кагульский мрамор и Чесменская колонна, Орловские ворота с надписями. Дворец был пуст и глух. Павильоны, всегда необитаемые, казались теперь брошенными, искусственные развалины – настоящими. Камни, из которых была составлена греческая беседка, оказались настоящими древними камнями, которые были увезены от турок. Дафна, Хлоя, Филиса – давно уже мелькали в стихах; только старик Державин называл дев так, как их звали, – Парашею и Натальей, по-домашнему. Ныне греческие и римские имена стали воинской славой: Багратион был Эпаминонд; Кульнев – Деций; Раевский и Коновницын – совместники древней Спарты.
В обращении к войскам было сказано, что Неман станет для французов другим Стиксом – подземною адскою рекою, которую переходят только раз.
Глава седьмая
1
Война началась в ночь с 22 на 23 июня: Наполеон с четырьмястами тысяч войска перешел невдалеке от Ковна Неман. Войска его вступали в Россию. Половина войск его были французы, половина – немцы, невольники и данники Наполеоновы. Шли пруссаки, саксонцы, баварцы, вюртембержцы, баденцы, гессенцы, вестфальцы, мекленбуржцы. Шли австрийцы, поляки, испанцы, итальянцы. Шли голландцы, бельгийцы с берегов Рейна, пьемонтцы, швейцарцы, генуэзцы, тосканцы, бременцы, гамбуржцы. Они скакали день и ночь, давая лишь краткую передышку лошадям. Они нашли путь открытым; война, которой еще ни разу не вел Наполеон: с покинутыми селениями, пустыми городами, без жителей и фуража, с мнимыми победами, началась, вызывая сильное негодование полководца, ждавшего войны обыкновенной – открытых и громких битв с врагом, затем генерального сражения, занятия столицы и быстрого мира, им диктуемого. Старики московские также негодовали на отсутствие громких сражений.
Враг шел стремительно, в больших силах направляясь не то к Петербургу, не то к Москве. Неизвестность была полная.
2
Директор Малиновский заперся с Куницыным в кабинете. Свечи были зажжены, окна в сад открыты. Кругом было тихо, зеленые листья свежи, пламя свечи клонил легкий ветер – все как в мирное время. Насупротив, в лицее, уже спали.
– Горько мне, – сказал директор, хрустя пальцами и поламывая руки, – в такую ночь средь стольких красот думать о наших обстоятельствах.
Он был уныл, и Куницын, сожалевший о его слабости и сердившийся на почти постоянный упадок духа, ждал с неудовольствием жалоб и приготовился к возражениям. Падать духом в такое время было едва ли не преступление. Стоит Малиновскому пасть духом, и в лицее воцарится хаос. Все сразу же опять это почувствуют, как было уже при Пилецком и как всегда в таких случаях бывает; все – от воспитанников до служителей, не говоря уже о врагах: Гауеншилде. Куницын решил покинуть лицей, это хрупкое и подверженное всем колебаниям училище; впрочем, он собирался идти на войну ратником; он успел полюбить свои обязанности, некоторых воспитанников – и не столько даже их, сколько их любознание, постепенное их изменение – к совершенству, привык даже к самому зданию. Ему не хотелось, чтоб лицеем завладел Гауеншилд, как некогда Пилецкий. Но смятение умов было кругом общее и такое, что можно легко впасть в слабость и всех кругом заразить. Более всего не любил он бледные лица, растерянность в глазах, нестройность мыслей – все, чем сказывается страх или ужас. Он верил в разум и законы его, а страх был отпадением от разума, чисто животным. Будущность, к которой он так деятельно готовился и которая ныне стала невозможной, вновь была для него ясна. Он готовился теперь к войне. Отчизна, любовь к ней, долг гражданский – все понятия, о которых он важно толковал лицейским, стали теперь страстями, и он подчинился им, не раздумывая.
– Навалились, – сказал Малиновский и побледнел, – все навалились – слышно, идут уже без остановок. Если так далее пойдет – через месяц нам нужно будет отсюда уходить; место – Ревель. Об этом никто не знает и знать не должен. Вам нужно приготовиться.
Он сказал, что не хочет везти весь лицей в Ревель; кой-кто не захочет, и слава Богу. Гауеншилду, например, нельзя из Петербурга отлучиться; тем лучше. Он предвидит, что добрая часть профессоров не поедет. Тогда Куницын принаймет профессоров, а главная надежда на него самого. Вообще в его руки, и только в его, передает он это училище, которому так не повезло счастье с первых же шагов. По словам Малиновского выходило, что сам он не собирается ехать.
– Я не поеду, – подтвердил Малиновский, – не желаю, мне поздно, я устал.
– Без вас они от рук отобьются в изгнании, а я с ними не слажу.
Малиновский походил по комнате.
– От брата есть ли вести, что Тургенева намерения? – спросил он.
Брат Куницына уже с месяц как выступил в поход и не слал вестей; Николай Тургенев, геттингенец, зимою еще прибывший в Москву, теперь жил в Петербурге и был в тоске: попеременно то ужасался, то опять обращался к надежде и не знал, что с собою делать. Куницын с ним ежедневно виделся. Он плакался, что лица, на которых печать рабства, грубости и пьянства, непросвещение высшего сословия, суровая зима, сменившаяся жарким летом, делают невозможной жизнь в отечестве, но как выбраться – не знал. В последнее время он сильно приободрился, и надежду внушали ему действия Витгенштейна.
Малиновский усмехнулся.
– В Ревель или в Або, куда случится, поедут с вами все дядьки наши, – сказал Малиновский. – Питомцы наши вместе с ними начинали здесь бытие свое, вместе с ними и продолжат. Сергей Гавриловичу, – сказал он о Чирикове, – я уж дал наказ – все грубости со служителями заносить в журнал поведения. Намедни Данзас ругал Матвея и гнался за экономом – трепать его. Я прошу обращать на это сугубое внимание. Заносчивость, запальчивость, а купно и низкость с раболепствием – все от воспитания, житья и обхождения с рабами. Готовые жертвы гнева, и сами к тому привыкли. Подчиненному иностранцу никогда не посмеют того сказать, что своему, потому что свой – раб. А брат его или земляк – секретарь. Так гибнет везде достоинство русское. Я не для того с вами говорю об этом, что вы этого не видели или не знаете, напротив; но скоро это вам придется исправлять на деле, как нынче мне.
Подверженный всем слабостям, директор говорил на сей раз твердо.
– Вы пожарища не видали, – спросил он Куницына, – военного, ветром распространенного? Когда города пожигаются? А я видел. Поле, поле довременное – и на нем почернелые трубы – вот дом, вот семья, родня. И теперь уж трубы российские торчат! И чтоб не лишить малых сих в изгнании, как сказали вы, самой мысли о доме, нужно будет вам опекать все затеи их – журналы, песни, даже самые куплеты, безделицы, для того что не годится в этом возрасте терять свой дом.
Куницын впервые видел его в таком расположении.
– Я на них между делом посматривал, – сказал Малиновский, – некрепки дома у них, а теперь и этот валится.
И они поглядели на лицей с темными окнами, который казался бы в этот час нежилым, если бы не фонарик, светивший желтым светом.
Вдруг Куницын сказал ему решительно:
– Без вас ехать нельзя, а вам оставаться негде.
– Силы мои уже не те и даром ушли, – сказал директор тихонько, – мне самому утешение нужно. Нет его. Разом открылись все прикровенные язвы – казнокрадство, мародерство – точно во вражеском лагере. Все на поток и разграбление. Смолянин, мой знакомец, пишет мне: барон Аш, губернатор, принимает возами, и возы запрудили площадь. Ни пройти, ни проехать. На две стороны кто может воевать? Государь неспособен. Обдержание вельмож, прелюбодеяние затмили его.
Ночь была черная, словно за директорским садиком – тут же, сразу началась пустыня. Он похрустел пальцами и посмотрел на Куницына, вопрошая.
– Паче всего опасаются рекрут, – сказал он, разводя руками, – не хотят верить в достоинство россиянина и думают, что страх – главное его побуждение.
Куницын, бледнея, молчал, и директор вдруг остановился.
– Я верю, – сказал он вдруг с каким-то негодованием, – и не только в Витгенштейна, который точно превосходный генерал, а и в земледельца, в казака, в поревнование его и удальство. Мы-то черты сего духа знаем, и самое раболепствование, все искажающее, его не уничтожило. Враг не знает.
Он перевел дух.
– Все может случиться, – сказал он, стихая, – но россиянин докажет свое достоинство, и ему наконец поверят и враги и свои. Иначе жизнь была бы мне в тягость. Поверят – и рабство отменится, отпадет, как короста. Вы тогда в три года русской земли не узнаете. Дело мое – земледелие, мануфактура, а не профессорство собственно, не директорство.
И он усмехнулся.
– Все это, правда, одно смешное мечтание, когда враг уже около Смоленска. Но расстаться с надеждою – значит расстаться и с жизнью. Я из гордости сохраняю всю силу рассуждения. Беда с Разумовским: распоряжение его о переводе преждевременно, боюсь, как бы не разгласилось. Я уж с ним приустал.
И они расстались.
– Решительного ответа сейчас не прошу, – сказал он Куницыну, – но прошу вас пока не оставить малых сих и понемногу приучиться заменять меня. Главное – надлежит нам стараться, чтоб воспитанники и не догадывались, что все нарушено.
3
На карте, которая была приколочена гвоздиками в зале, Калинич красным карандашом медленно и верно обозначил рукою каллиграфа движение войск – и толстая красная черта поползла со скоростью вверх; он долго стоял перед картою.
Грузный, неподвижный, без всякого выражения на лице, он каждый день отмечал на ней движение войск и на этот раз был поражен ее видом. Он внимательно смотрел на нее – и оглядел всю. Пущин, Малиновский, Пушкин подошли.
Он шепотом читал названия городов и, очнувшись, произнес:
– Как ножом.
Они стояли перед красною чертою, проведенною Калиничем, и ни слова не говорили. Малиновский посмотрел на того и другого и тихонько сказал:
– Теперь к Аристарху в классы.
И, обнявшись, ни слова не говоря, они побрели медленно, не торопясь, в класс Кошанского, забыв о шалостях.
Малиновский умел молчать, как никто, молчание его было чисто казачье. Они понимали друг друга.
Назавтра карту убрали.
Дорогу от Москвы до Петербурга Александр запомнил навсегда: низкие станционные домики, посеревшие от дождей, с надтреснутыми и облупившимися деревянными колоннами, воробьи, нахохлившиеся под застрехой; старик смотритель, избегавший смотреть прямо в глаза, а дорогой – ямщик, который тянул бесконечную песню, мерно позвякивавшие колокольцы; встречные обозы со скрипом колес и запахом дегтя. Теперь по этим дорогам скакала чужая конница, станционные домики были заняты неприятелем, несущимся беспрепятственно во весь опор. Мысль, что по этой дороге, которая, вероятно, ничем не отличалась от той, по которой он ехал с дядей Васильем Львовичем, скакали чужие лошади, чужие всадники, тяготила его. Они узнавали теперь географию по этому движению. Россия оказалась полной городов, сел и деревень, названия которых они с удивлением читали в реляциях. Враг был уже около Смоленска.
4
Лицейские журналисты наперебой писали теперь, подражая во всем Ростопчину. Герой прозы Миши Яковлева был ныне нижегородский помещик, служивший капитаном при Суворове, Сила Силович Усердов. Суворовские отрывистые разговоры были теперь законом вкуса. Миша Яковлев усердно подражал Ростопчину. «Французы, – писал он, – заповеди топчут ногами; ерошат лишь голову, скалят зубы, а путного нет ничего, бормочут о вздоре, да как еще вытянутся: так и соколик. Всех бы их батожьем!»
Александр прочел и ничего не сказал. Ничто не напоминало здесь стремительности врагов, тайных и быстрых движений, падения одних, возвышения других, разлучения, смерти, пожара городов, станционных домиков, на которые налетали теперь неприятельские разъезды. Остроты были грузны и не остры, площадной язык вял и раздут, как бормотанье старика. Миша Яковлев обиделся: Пушкин кичился своим вкусом. Тотчас он стал изображать Пушкина гордецом. Всего больше, как истый художник, он любил наблюдать именно за Пушкиным. Это был один из самых трудных его нумеров. Быть вертлявым, быстрым и плавным было не легко. Этот нумер требовал особого вдохновения; перед тем как изображать Пушкина, он долго прыгал через стулья, вертел головой и раздувал ноздри. Он не мог изобразить его так, как других, сидя на месте, без репетиций. Этот нумер требовал разгона, вдохновения. Александр наслаждался его игрою. Паяс совершенно его понимал. Он иногда вдруг узнавал в его отрывистых движениях не себя, а отца, Сергея Львовича. Миша Яковлев только не любил и не понимал, когда тот сочинял: угрюмо и в каком-то самозабвении, «как полоумный». Он сам тоже был поэт и хорошо знал, что сочинять легко. Он напевал и насвистывал, когда сочинял, и строка шла за строкою.
Героем Вальховского был Суворов, которому он стремился подражать: ел черствые сухари, спал на голых досках, каждый вечер снимая матрас с кровати. Он был стоик, ставил себе цели, о которых говорил только другу своему Малиновскому, добивался их, строго осуждал шалости.
Героем Горчакова был император: он во всем стремился подражать ему – завивал перед зеркалом кудри, наворачивая их на гребень, ходил развинченной походкой и щурился. День открытия лицея ему запомнился.
5
Героем Малиновского был ныне атаман донских казаков Платов. Платов объявил, что отдаст свою дочь и в приданое пятьдесят тысяч червонцев казаку, который доставит ему Наполеона живого или мертвого. О Платове, его удивительной простоте и храбрости рассказывал сыну директор Малиновский.
Героем Кюхли был Барклай, главнокомандующий. Он доводился ему родней. Кюхельбекер прибил гвоздиком его портрет к своей конторке у себя в комнате; голый лоб, голое лицо, глаза без блеска – таковы были черты героя. У одноглазого Кутузова был крепкий, как орлиный клюв, нос, и сам он был похож на сильную, старую птицу, у которой в воздушной драке выклевали глаз. У Багратиона были тяжелые, пламенные глаза воина. У Платова – толстая шея и открытое лицо. И только у Барклая не было отличительных признаков героя.
Кюхельбекера спрашивали о Барклае, и он хвалил его.
– Он высокий, – говорил он.
Этого было мало. Сам Кюхельбекер был длинный, Илличевский тоже.
– Он ни с кем не разговаривает, – рассказывал Кюхельбекер, – он только погладил меня по голове и ничего не сказал. И сразу ушел. Вот и все.
Главнокомандующий, который все молчал и теперь стремительно отступает перед врагами, не возбуждал к себе сочувствия. Мясоедов, со слов своего отца, сообщил однажды, что фамилию главнокомандующего переиначили в «Болтай, да и только». Но Александр знал теперь от Кюхли, что он молчалив.
– Он все молчит, – говорил растерянно Кюхельбекер.
6
Александр помнил портрет Наполеона, висевший в кабинете у дяди Василья Львовича: пустые, как у кумиров, стоявших в саду, глаза, отсутствие улыбки, необычайная правильность черт, простота мундира. Тогда черты эти казались просты и прекрасны.
Лицо, припоминавшееся ему теперь, было равнодушно и холодно – лицо мертвеца. Куницын сказал, что тиран, презревший общественный договор, должен погибнуть и что есть возмездие в жизни людей и народов. Кайданов, называвший Суллу роскошным убийцею, сказал, что Наполеон ко всему равнодушный и холодный кровопийца. Мир устал от его убийств.
Спросили у Будри о Бонапарте и, столпившись вокруг него, строго ждали ответа.
Старый француз хмуро на них поглядел и, казалось, не торопился отвечать. Какая-то важная печаль была на его лице, и маленькие тусклые глазки были полузакрыты. Потом он ударил коротким, как обрубок, пальцем по кафедре и проворчал хрипло:
– Он будет наказан. Для его победы нет ни одного достаточного или разумного повода, но все – для его поражения, ибо он и наследник вольности и ее убийца.
И, как бы не желая более говорить и думать о нем, старик заворчал на них свирепо:
– Сесть на места. Вы забросили «Диалоги» и не учите «Маленького Грандиссона». Вы должны более упражняться, иначе вы никогда не достигнете равенства даже во французском языке. Синтаксис и периоды! Это для вас недоступно – вам все еще нужно учиться орфографии. Мы будем сегодня читать поэзию Жана-Батиста Руссо, чтобы несколько облагородить вашу память. Следите за мною. Броглио ненавидит труд – он в хвосте всего класса. Небрежность! Лень Данзаса! У Дельвига – добрая воля, но он не знает слов! Горчаков – первый ученик, но суетность! Корсаков уверен, что много знает. Самодовольство! Пушкин, полагаясь всецело на свою память, вовсе перестал учиться. Беспечность!
7
Была жара нестерпимая. Калинич, который водил их гулять, обыкновенно молчаливый, вдруг пробормотал, утирая пот с лица пестрым фуляром:
– Зима, пичужки; морозы, буяны; вот кто покажет!
Все засмеялись. Малиновский сказал Калиничу:
– Какая тут зима!
Но Калинич, с обширным неподвижным лицом, усмехнулся и возразил:
– Чем лето жарче, тем зима холоднее.
Это была примета старая, знание, проверенное не ими; они замолчали.
8
Все было полно слухами. Говорили, что три полка баварских передались, что немцы и испанцы взбунтовались и сам Наполеон ускакал во Францию. Решительные бои близились. Передавали слова генерала Раевского: «Лучший способ закрыть себя от неприятеля есть разбить его».
В июле одно известие поразило лицейских. «Северная почта» переходила из рук в руки. Армия Багратиона соединилась с армиею Барклая. Помог этому Раевский, который командовал авангардом Багратиона. Одиннадцатого июля Багратион приказал ему атаковать армию маршала Даву, чтобы задержать неприятеля, без чего армии не могли соединиться. У Раевского было десять тысяч солдат против шестидесяти тысяч неприятеля. Бой шел вокруг пруда. Во время последней атаки Смоленский полк шел к плотине без выстрела, с примкнутыми штыками, под неприятельским огнем, но, подойдя к самой плотине, наткнулся на сильную неприятельскую колонну. Раевский, уезжая в армию, взял с собою, при общем беспорядке, своих сыновей: старшему, Александру, минуло шестнадцать лет, меньшому, Николаю, еще не исполнилось одиннадцати. Он записал их в один из своих полков. Во время атаки Раевский пошел с сыновьями в голове колонны. Младшего он вел за руку. В одну из атак убили знаменосца, знамя лежало на земле рядом с убитым. Старший, Александр, поднял знамя. Войска бросились и опрокинули неприятеля. Багратион достиг цели: отныне соединению обеих армий под Смоленском враг не мог помешать.
На вопрос отца: знают ли сыновья, для чего он взял их в бой, меньшой ответил: чтобы вместе умереть.
9
Смоленск был оставлен. Говорили, что сам главнокомандующий предал его огню и что город являет собою груду развалин. Пожар продолжался более суток, и его ужасный вид сами французы уподобляли извержению Везувия. Жители бежали в леса; в городе остались старухи и больные. Вязьма горела, подожженная с нескольких концов.
Смоленские крестьяне прятались в лесах; неприятель находил их и грабил последнее, чтобы добыть себе продовольствие. Помещикам, также прятавшимся, неприятель возвращал права над крестьянами, поколебленные было бегством и обстоятельствами войны, и обещал воинскую охрану и защиту от мародеров под условием, что они будут доставлять муку, водку, зерно, скот, овес и сено. Фуража не было; началась зараза, более страшная, чем война. 17 августа Смоленск сгорел, за ним Вязьма. Та же участь грозила в недалеком будущем Москве. Барклай, отступавший перед врагом и не принимавший боя, был непонятен и страшен.
10
Часто навещала сына Бакунина, толстая, важная барыня, проживавшая в Царском Селе. Глаза у нее были живые и бегали. Бакунина подозревала сына в тайных шалостях; когда лицеем правил Пилецкий, она часто шепталась с иезуитом; любопытство ее было ничем не ограничено. В одно из свиданий она сказала сыну, что Барклай – изменник, что это доподлинно известно и что его скоро сменят.
Все заволновались. Кюхля, бледный, противился общему мнению, но, уверясь, вдруг сорвал со своей стенки портрет Барклая, разорвал его в клочки и растоптал ногами. Потом, с отчаянием посмотрев на растоптанные клочья, он собрал их и положил в шкапик.
В эти дни в лицее шептались о падении Барклая, Пушкин молчал и слушал. В нем неожиданно проявилось качество, о котором никто, при его известной горячности, не подозревал: осторожность. Он, кажется, не одобрял Мясоедова, который звал теперь полководца походя: «Болтай, да и только». Он молча слушал, как бешеный Кюхельбекер говорил теперь о своем прежнем кумире, что он заслуживает казни. Под Смоленском платовские казаки заставили отступить французский корпус – французы понесли потери, и отступление казалось необъяснимым. Но он не ругал военачальника, как теперь это делали самые смирные, и даже, казалось, с некоторою брезгливостью слушал брань. Безостановочное движение неприятеля, которого ничто, по-видимому, не могло удержать и остановить, угрюмые лица профессоров, всегда бледное лицо Малиновского и особая тишина, которая была теперь везде, на всех улицах, тишина места, которое они скоро покинут, – все кругом переменилось.
В лицее ходили теперь тихо, стараясь не шуметь, как в доме, где есть покойник. Профессор математики Карцов, который оглушительно, бывало, кашлял, сморкался, смеялся, – точно в рот воды набрал. География, которую читал им Кайданов, внезапно изменилась: в самой середине страны был неприятель.
Несколько воспитанников – Корф, Корсаков и Комовский – настолько пали духом, что стали проситься домой, и гувернеры несколько раз должны были их утешать. Они тосковали по матерям и обливали слезами получаемые письма. Данзас был замечен Калиничем в том, что усмехался при виде плачущих. Кто-то из шалунов обозвал Корсакова трусом. Пушкин неожиданно для гувернера ничем за неделю не проявил дурного нрава. Вид плачущих его озадачил: он притих, смотрел на них с каким-то любопытством и ничего не говорил. В эти дни он был неразлучен с Дельвигом.
Он его любил. В беспечности и лени Дельвига была какая-то храбрость, дерзость, и Чириков говорил о нем, что он отчаянный. И это несмотря на то, что Дельвиг никого не задирал, ни на кого не нападал. Он учился плохо, собственная лень доставляла ему, видимо, наслаждение; память его была тупа.
– Я успею выучить из «Маленького Грандиссона» и диалоги, – говорил он, – у меня весь день впереди.
В лени его была система.
К вечеру он говорил:
– Как время тянется! Еще вечер впереди. Я не стану понапрасну терять времени и учить до вечера диалоги.
Вечером он говорил:
– Будри не приедет. Это уж верно. Диалоги полежат.
Он никогда никого не дразнил, но Калинич говорил о нем:
– Смешлив и задирает.
Однажды после скучного карцовского класса робкий Корсаков со слезами на глазах признался, что хочет домой: война может затянуться, и он боится быть оторванным от родного дома.
Дельвиг сказал, смотря на него туманными глазами и немного кося:
– Это не страшно. Я уж однажды потерял и отца своего и мать и в битве едва не был взят в плен, а потом опять всех нашел.
Все на него с удивлением посмотрели. Он не шутил. Корсаков отер слезы и разинул рот. Пушкин был удивлен.
Тогда Дельвиг медленно и равнодушно, смотря в разные стороны туманными голубыми глазами, рассказал, что во время похода 1807 года он был с матерью в обозе отца своего. Смеркалось, когда мать вспомнила, что забыла дать отцу ладанку, по ее мнению спасающую от ран.
Она была в отчаянье и, оставив сына на попечении денщика, простилась, и одна, с горничною девушкою и фельдфебелем, отправилась разыскивать своего мужа. Дельвиг вздремнул. Во сне показалось ему, что кругом гремит, лошади ржут, а он не то плывет на корабле, не то скачет в телеге.
Но как все это однажды уже ему снилось, то он не почел нужным просыпаться, и каждый раз, когда начинало греметь, утыкался в жесткую походную подушку. Однажды только он проснулся, но денщик сказал ему: «Спите, ваше благородие» – и он снова заснул. Проснулся он утром в лесу – под телегою. Рядом лежал денщик с окровавленной рукой. Оказалось, неприятель ночью захватил часть обоза, но денщик, помня наказ – не бросать маленького Дельвига и никуда далеко не отлучаться, счел за лучшее понестись вместе с несколькими другими телегами вскачь до ближнего леса и здесь, сняв сонного Дельвига, залег вместе с ним под телегою и так переждал бой.



