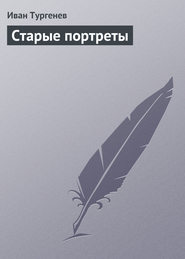 Полная версия
Полная версияСтарые портреты
Со всем тем была Маланья Павловна женщина очень добрая: угодить ей было легко. «Ни она тебя грызь, ни она тебя шпынь», – отзывались о ней горничные. До страсти любила Маланья Павловна всё сладкое – и особая старушка, которая только и занималась, что вареньем, а потому и прозывалась варенухой, раз по десяти на день подносила ей китайское блюдечко – то с розовыми листочками в сахаре, то с барбарисом в меду или с ананасные шербетом. Маланья Павловна боялась одиночества – страшные мысли тогда находят – и почти постоянно была окружена приживалками, которых убедительно просила: «Говорите, мол, говорите, что так сидите – только месте свои греете!» – и они трещали, как канарейки. Будучи набожной не меньше Алексея Сергеича, она очень любил молиться; но так как, по ее словам, она хорошо читать молитвы не выучилась, то и держалась на то бедная вдова-дьяконица, которая уж так-то вкусно молилась! Не запнется ни вовек! И действительно: дьяконица эта умела как-то неудержимо произносить молитвенные слова, не прерывая их ни при вдыханье, ни при выдыханье – а Маланья Павловна слушала и умилялась. Состояла при ней другая вдовушка; та должна была рассказывать ей на ночь сказки, – но только старые, просила Маланья Павловна, те, что я уж знаю; новые-то все выдуманы. Очень была Маланья Павловна легкомысленна, а иногда и мнительна: вдруг ей что в голову взбредет! Не жаловала она, например, карлика Януса; всё думалось ей, что он вдруг возьмет да закричит: «А знаете вы, кто я? Бурятский князь! Вот вы и покоряйтесь!» – А не то дом от меланхолии подожжет. Щедра была Маланья Павловна так же, как и Алексей Сергеич; но никогда деньгами не подавала – ручек не хотела марать, – а платками, сережками, платьями, лентами; или со стола пошлет пирог да жаркого кусок – а не то сткляницу вина. Баб по праздникам тоже угощать любила: станут они плясать, а она каблучками притопывает и в позу становится.
Алексей Сергеич очень хорошо знал, что жена его глупа; но чуть ли не с первого году женитьбы приучил себя притворяться, будто она очень остра на язык и любит колкости говорить. Бывало, как только она слишком разболтается, он тотчас погрозит ей мизинцем и приговаривает: «Ох, язычок, язычок! уж достанется ему на том свете! Проткнут его горячей шпилькой!» Маланья Павловна этим, однако, не обижалась; напротив – ей как будто лестно было слышать такие слова: что ж, мол! Не моя вина, что умна родилась!
Маланья Павловна обожала своего мужа – и всю жизнь оставалась примерно верной женой; но был и в ее жизни «предмет», молодой племянник, гусар, убитый, как она полагала, на дуэли из-за нее – а по более достоверным известиям, умерший от удара кием по голове в трактирной компании. Акварельный портрет этого «предмета» хранился у ней в секретном ящике. Маланья Павловна всякий раз краснела до ушей, когда упоминала о Капитонушке – так звался «предмет»; а Алексей Сергеич нарочно хмурился, опять грозил жене мизинцем и говорил: «Не верь коню в поле, а жене в доме! Ох, уж этот мне Капитонушка, Купидонушка!» Тогда Маланья Павловна вся вострепещивалась и восклицала: «Алексис, грешно вам, Алексис! Сами-то вы в молодости, небось, «махались» с разными сударками – так вот, вы и полагаете…» – «Ну полно, полно, Маланьюшка, – перебивал с улыбкой Алексей Сергеич, – бело твое платье, а душа еще белей!» – «Белей, Алексис, белей!» – «Ох, язычок, по чести язычок», – повторял Алексис и трепал ее по руке.
Упоминать об «убеждениях» Маланьи Павловны было бы еще неуместнее, чем об убежденьях Алексея Сергеича; однако мне раз пришлось быть свидетелем странного проявления затаенных чувств моей тетушки. Я как-то раз, в разговоре, упомянул об известном Шешковском:{30} Маланья Павловна внезапно помертвела в лице – так-таки помертвела, позеленела, несмотря на наложенные белила и румяна – и глухим, совершенно искренним голосом (что с ней случалось очень редко – она обыкновенно всё как будто немножко рисовалась, тонировала да картавила) проговорила: «Ох! кого ты это назвал! Да еще к ночи! Не произноси ты этого имени!» Я удивился: какое могло иметь значение это имя для такого безобидного и невинного существа, которое не только сделать, но и подумать не сумело бы ничего непозволительного? На не совсем веселые размышления навел меня этот страх, проявившийся чуть не через полстолетия.
Скончался Алексей Сергеич на восемьдесят восьмом году от рождения, в самый 1848 год, который, видно, смутил даже его.{31} И смерть его была довольно странная. Он еще поутру хорошо себя чувствовал, хотя уже совсем не покидал кресла. И вдруг он зовет жену: «Маланьюшка, подь-ка сюда». – «Что тебе, Алексис?» – «Помирать мне пора, голубушка, вот что». – «Бог с вами, Алексей Сергеич! Отчего так?» – «А вот отчего: перво-наперво, надо и честь знать; и еще: смотрю я себе давеча на ноги… чужие ноги – да и полно! На руки… и те чужие! Посмотрел на брюхо – и брюхо чужое! Значит: чужой век заедаю. Пошли-ка за попом; а пока – уложи меня на постелюшку, с которой я уже не встану». Маланья Павловна переполошилась – однако уложила старика и за попом послала. Алексея Сергеич исповедался, причастился, попростился с домочадцами – и стал засыпать. Маланья Павловна сидела у его кровати. «Алексис! – вскрикнула она вдруг, – не пугай меня, не закрывай глазки! Аль болит что?» Старик посмотрел на жену. «Нет, не болит ничего… а трудновато… дышать трудновато». Потом, помолчав немного: «Маланьюшка, – промолвил он, – вот и жизнь проскочила, а помнишь, как мы венчались… какова была парочка?» – «Была, красавчик ты мой, Алексее ненаглядный!» Старик опять помолчал. «Маланьюшка, а встретимся мы на том свете?» – «Буду о том бога молить, Алексис». И старушка залилась слезами. «Ну не плачь, глупенькая; авось, нас там господь бог помолодит – и мы опять станем парочкой!» – «Помолодит, Алексис!» – «Ему, господу, всё возможно, – заметил Алексей Сергеич. – Он чудотворец! – пожалуй, и умницей тебя сотворит… Ну, душка, пошутил; дай поцелую ручку». – «А я твою». И оба старичка поцеловали друг у друга в подвертку руку.
Алексей Сергеич начал утихать и забываться. Маланья Павловна умиленно глядела на него, сбрасывая кончиком пальца слезинки с ресниц. Часа два просидела она так. «Започивал?» – спрашивала шёпотом старушка, что молиться хорошо умела, высовываясь из-за Иринарха, который неподвижно как столб стоял у двери и пристально смотрел на отходившего барина. «Почивает», – отвечала Маланья Павловна тоже шёпотом. И вдруг Алексей Сергеич открыл глаза. «Подруга моя верная, – пролепетал он, – супруга моя почтенная, в ножки тебе бы поклонился за всю твою любовь и верность – да где встать? Дай хоть перекрещу тебя». Маланья Павловна придвинулась, наклонилась… Но приподнятая рука упала бессильно на одеяло – и через несколько мгновений не стало Алексея Сергеича.
Дочери его поспели только к похоронам с мужьями; детей у них не было – ни у той, ни у другой. Алексей Сергеич их не обидел в своем завещанье, хотя и не вспомнил о них на смертном одре. «Замшилось к ним мое сердце», – сказал он мне однажды. Зная его доброту, я дивился его словам. Трудно рассудить родителей с детьми. «Большой овраг малой начинается трещиной, – сказал Алексей Сергеич мне в другой раз по тому же поводу, – в аршин рана заживает, а отруби хоть ноготь – не прирастет».
Мне сдается, что дочери стыдились своих чудаковатых стариков.
Месяц спустя не стало и Маланьи Павловны. С самого дня кончины Алексея Сергеича она уже почти не вставала и не наряжалась; но похоронили ее в голубой кофте и с медальоном Орлова на плече, только без бриллиантов. Их поделили дочери под тем предлогам, что пойдут те бриллианты на оклады образов; на деле же они их употребили на украшение собственных особ.
И вот – как живые стоят передо мною мои старика, и хорошее храню я о них воспоминание. А между тем в самый мой последний приезд к ним (я уже тогда был студентом) совершилось событие, которое внесло некоторый разлад в то гармонически патриархальное настроение, которое телегинский дом навевал на меня.
В числе дворовой прислуги состоял некто Иван, не кличке Сухих – кучер или кучерок, как его врезывали за малый его рост, несмотря на его уже немолодые лета. Крошечный это был человечек, вертлявый, курносый, кудрявый, с вечно смеющимся младенческим лицом и мышиными глазками. Большой он был балагур и потешник; всякую штуку умел смастерить, фейерверки пускал, змеи, во все игры играл, стоя на лошади скакал, выше всех взлетал на качелях, даже китайские тени умел представлять. Никто лучше его не забавлял детей – и сам он с ними хоть целый день рад был возиться. Примется хохотать – весь дом расколышет: то тут, то там ему отвечают – разберет всех… И ругаются, да смеются. Плясал Иван удивительно – особенно «рыбку». Грянет хор плясовую, парень выйдет на середину круга – да и ну вертеться, прыгать, ногами топотать, а потом как треснется оземь – да и представляет движения рыбки, которую выкинули из воды на сушь: и так изгибается и этак, даже каблуки к затылку подводит; а там как вскочит, загогочет – просто земля под ним дрожит! Бывало, Алексей Сергеич, большой, как я уже сказывал, охотник до хороводов, никак не может утерпеть, чтоб не закричать: «Ванюшу сюда! кучерка! Рыбку нам валяй, живо!» – а через минуту уже восторженно шепчет: «Ах он, такой-сякой!»
И вот в последний мой приезд входит этот самый Иван Сухих ко мне в комнату и, ни слова не говоря, становится на колени. «Иван, что с тобой?» – «Спасите, барин!» – «Как, что такое?» И рассказал мне тут Иван свою беду.
Был он выменян – лет двадцать тому назад – от господ Сухих на другого крепостного телегинского человека; так-таки просто выменян, безо всяких формальностей и бумаг; отданный за него человек помер, а господа Сухие забыли об Иване – и остался он в доме Алексея Сергеича, как свой; одно лишь прозвище его напоминало об его происхождении. Но вот умерли и прежние его господа; имение попало в другие руки – и новый владелец, о котором ходили слухи, что он человек жестокий, мучитель, проведав, что один из его крепостных обретается безо всякого вида и права у Алексея Сергеича, стал его требовать обратно; в случае же отказа грозил судом и штрафом – и грозил не по-пустому, так как сам состоял в чине тайного советника и большой имел по губернии вес. Иван, с перепугу, бросился к Алексею Сергеичу. Жалко стало старику своего плясуна – и предложил он тайному советнику купить у него Ивана за хорошие деньги; но тайный советник и слышать не хотел: был он малоросс и упрям как чёрт. Приходилось отдавать бедняка. «Я здесь сжился, я здесь освоился, я здесь служил, хлеб ел и помереть здесь желаю», – говорил мне Иван – и уже не было усмешки на его лице; напротив – оно точно окаменело… «А теперь я должон идти к этому злодею… Али я собака, что с одной псарни на другую, завязавши оселом шею…{32} на, мол, тебе! Спасите, барин; помолите вы дяденьку – вспомните, как я всегда вас потешал… А то худо ведь будет; без греха дело не обойдется».
– Без какого греха, Иван?
– А убью я того-то барина. Так и приду да скажу ему: «Барин, отпустите меня обратно; а не то – смотрите, оберегайтесь… я вас убью».
Если бы зяблик или чиж мог говорить и стал бы уверять меня, что он заклюет другую птицу – не привел бы он меня в большее изумление, чем Иван о ту пору. Как! Ваня Сухих, этот плясун, балагур, потешник, любимец детей и сам дитя – это добродушнейшее существо – убийца! Что за чепуха! Ни на мгновенье не поверил я ему; меня до крайности поразило уже то, что он мог выговорить такое слово! Однако я отправился к Алексею Сергеичу. Не передал я ему того, что сказал мне Иван, но всячески стал просить его, нельзя ли как-нибудь поправить дело? «Сударик ты мой, – отвечал мне старик, – и рад бы радостью, но как быть? Предлагал я этому хохлу вознаграждения великие – триста рублей предлагал, по чести тебе говорю! а он – куды тебе! Что станешь делать? Поступлено было противозаконно, на веру, по старине… а теперь вон какое худо вышло! Ведь хохол тот, чего доброго, силком Ивана у меня возьмет – рука его властная, губернатор у него щи хлебает – солдат пришлет хохол! А боюсь я солдат-то этих! Прежде, что говорить, я как-никак отстоял бы Ивана; а теперь посмотри ты на меня, какой я дряхлец стал. Где мне воевать?» Действительно: в последний мой приезд я нашел Алексея Сергеича чрезвычайно постаревшим: даже зрачки его глаз приняли молочный цвет – как у младенцев – и на губах появилась не прежняя сознательная улыбка, а та напряженно-слащавая, бессознательная усмешка, которая и во время сна не сходит с них у очень дряхлых людей.
Сообщил я решение Алексея Сергеича Ивану. Он постоял, помолчал, помотал головою. «Ну, – сказал он наконец, – чему быть, того не миновать. А только слово мое крепко. Значит: одно осталось… почудесить напоследях. Барин, пожалуйте на водку!» Я ему дал; он напился пьян и в тот же день такую отколол «рыбку», что девки и бабы даже взвизгивали – до того он кочевряжился!
На другой день я уехал домой, а месяца через три – уже в Петербурге – я узнал, что Иван сдержал-таки свое слово! Выслали его к новому барину; позвал его барин в кабинет и объявил ему, что будет он у него состоять кучером, что поручается ему тройка вяток и что строго с него взыщется, если будет худо за ними ходить и вообще не будет исправен. «Я-де шутить не люблю». Иван выслушал барина, сперва в ноги ему поклонился, – а потом объявил, что, как его милости угодно, а не может он быть ему слугою. «Отпустите, мол, меня на оброк, ваше благородие, али в солдаты определите; а то долго ли до беды?»
Барин вспылил.
– Ах ты, такой-сякой! Что ты это мне сказать посмел? Во-первых, знай, что я превосходительство, а не высокоблагородие; во-вторых, ты уж из лет вышел и рост у тебя не такой, чтобы тебя в солдаты отдать; а наконец – какою это ты мне бедой грозишь? Поджечь, что ли, меня собираешься?
– Нет, ваше превосходительство, не поджечь.
– Так убить, что ли?
Иван промолчал.
– Не слуга я вам, – промолвил он наконец.
– А вот я тебе покажу, – взревел барин, – мой ли ты слуга или нет! – И, жестоко наказав Ивана, все-таки повелел ему выдать на руки тройку вяток и определять его кучером на конный двор.
Иван, по-видимому, покорился; начал ездить кучером. Так как он на это дело был мастер, те вскоре полюбился барину – тем более, что вел себя Иван очень скромно и тихо, к лошади у него раздобрели; выхолил он их – такав огурчики стали – загляденье! Стал барин выезжать с ним чаще, чем с другими кучерами. Бывало, спросит: «А что, помнишь, Иван, как мы с тобой неладно встретились? Чай, дурь-то с тебя соскочила?» Но Иван на эти слова никогда ничего не отвечал. Вот однажды, под самое крещение, отправился барин с Иваном в город на его тройке с бубенцами, в ковровых пошевнях.{33} Стали лошади шагом подниматься в гору – а Иван слез с облучка и зашел за пошевни, словно что обронил. Мороз стоял сильный: барин сидел, закутавшись, и бобровую шапку по уши надвинул. Тогда Иван достал из-под полы топор, подошел сзади к барину, сбил с него шапку – да промолвив: «Я тебя, Петр Петрович, остерегал – сам на себя теперь пеняй!» – раскроил ему голову одним ударом.{34} Потом остановил лошадей, надел на мертвого барина сбитую шапку – и, снова взобравшись на облучок, привез его в город прямо к присутственным местам.
– Вот, мол, вам сухинский генерал, убитый; и убил его я. Как я ему сказал – так я ему и сделал. Вяжите!
Ивана схватили, судили, присудили к кнуту, а потом на каторгу. Попал в рудники веселый, птицеобразный плясун – да и исчез там навеки…
Да; поневоле – хоть и в ином смысле – повторишь с Алексеем Сергеичем:
– Хороша старина… ну, да и бог с ней!
Примечания
Источники текста
Конспект рассказа. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat, Slave 77; описание см.: Mazon, p. 92; фотокопия: ИРЛИ, Р. I, оп. 29, № 230.
Черновой автограф предисловия к рассказу в форме письма к М. М. Стасюлевичу – приложение к письму, адресованному П. В. Анненкову, от 19 ноября (1 декабря) 1880 г. Хранится в ЦГАЛИ, ф. 7, оп. 1, № 29, л. 70.
Наборная рукопись (беловой автограф). 26 страниц авторской пагинации. К стр. 1 подклеен листок бумаги, представляющий собой беловой автограф предисловия к рассказу с подписью «И. Т.» Хранится в частном собрании в Москве. После текста подпись: Ив. Тургенев – и помета: Буживаль (близ Парижа). Ноябрь 1880.
Авторизованная копия. Хранится в отделе рукописей Bibl Nat, Slave 77; описание см.: Mazon, p. 92; фотокопия – ИРЛИ, Р. I, оп. 29, № 230. После текста подпись: Ив. Тургенев – и помета: Буживаль (близ Парижа). Ноябрь 1880.
Порядок, 1881, 1 (13) января, № 1, и 5 (17) января, № 4. Заглавие: «Старые портреты. (Отрывки из воспоминаний – своих и чужих)». Перепечатано отдельным изданием: Отрывки из воспоминаний – своих и чужих. Ив. Тургенева. СПб., 1881. Вып. 1. 31 с.
Впервые опубликовано в газете «Порядок», 1881, № 1 и 4, с подписью и датой: Ив. Тургенев. 30 октября 1880.
Печатается по тексту первой публикации с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по наборной рукописи и авторизованной копии:
Стр. 10, строка 40: «навыкат» вместо «навыкате»
Стр. 17, строка 32: «Тоболеев» вместо «Толобеев»
Одно из самых ранних упоминаний о рассказе содержится в письме М. М. Стасюлевича к А. Н. Пыпину от 7 (19) сентября 1880 г. из Парижа. Стасюлевич писал: «Вчера был у меня Тургенев и сообщил, что к 1 октября он закончит свои Воспоминания, за которые теперь засел; это очень любопытно. Эти воспоминания, конечно, он отдает мне, но не „Вестнику Европы“. Этою шарадою кончаю…» (ГПБ, ф. 621, архив А. Н. Пыпина, ед. хр. 831, л. 58–59).
Однако несмотря на категоричность утверждений Тургенева, приводимых Стасюлевичем в данном письме, следует полагать, что к началу сентября 1880 г. относится лишь замысел рассказа. Работа же над конспектом и текстом протекала в основном, как видно из дальнейших писем Тургенева, в конце октября – начале ноября 1880 г.
С самого начала рассказ предназначался для первого номера новой газеты «Порядок», основанной Стасюлевичем. Это подтверждается и письмом Тургенева к нему от 1 (13) октября 1880 г., в котором писатель сообщал: «Отрывок из „Воспоминаний (свое и чужое)“ Вы непременно получите к 1-му № „Порядка“; я уже первых две странички набросал». О том, что он работает над «Старыми портретами», Тургенев писал также П. В. Анненкову, но уже значительно позднее, 29 октября (10 ноября) 1880 г., из Буживаля: «…я остаюсь здесь еще неделю, быть может, больше; хочу попытаться – не поможет ли мне одиночество, – буду ли я в состоянии работать, – я обещал Стасюлевичу крошечную статейку <…> да не знаю, справлюсь ли я даже с этой крошкой» (там же). Об окончании работы над рассказом, который написан был им «с великим трудом», Тургенев писал И. П. Маслову 11 (23) ноября 1880 г., подчеркивая, что для этого он «две недели просидел в деревне совершенно один».
Ко времени окончания работы над рассказом относится и запись А. Н. Луканиной в ее воспоминаниях о Тургеневе, написанных в форме дневника, от 30 ноября н. ст. 1880 г. Мемуаристка передает рассказ Тургенева о прототипах Алексея Сергеича и Маланьи Павловны Телегиных: «Был у меня старик дядя; родился он при Елизавете, а сам был человек екатерининских времен{35} <…> Жена его родилась тоже чуть не при Елизавете. Этот мой дядя был человек <…> очень своеобразный, вот почему мне и вздумалось описать эту чету»{36} (Луканина А. Н. Мое знакомство с И. С. Тургеневым. – Сев Вестн, 1887, № 3, с. 72. Ср.: Гутьяр Н. Предки И. С. Тургенева. – Рус Ст, 1907, № 12, с. 657). С. И. Лаврентьевой Тургенев рассказывал о «Старых портретах»: «…у меня давно были небольшие наброски, которые я теперь только обработал» (Лаврентьева С. И. Пережитое. (Из воспоминаний). СПб., 1914, с. 140–141).
Первоначально Тургенев составил конспект. В нем он кратко изложил содержание будущего рассказа и, кроме того, сообщил основные биографические сведения о чете Телегиных (первоначально им дана была фамилия Лачиновы){37}. Точно указаны в конспекте даты рождения и смерти старичков. Фамилия сумасшедшего князя Л. в конспекте раскрыта полностью: «Сумасш<едший> кн<язь> Львов, который у них живет». Характеризуя Алексея Сергеича, Тургенев кратко отметил в конспекте, что у него – «обожание Екатерины, анекдоты о ней». В окончательном тексте рассказа эта фраза была развернута в эпизод перед портретом императрицы работы Лампи («Полубог был, не человек!» и т. д.), в воспоминания о личной встрече Телегина с Екатериной II, а также в рассказанный им анекдот (об электрических искрах, которые сыпались с волос императрицы при их расчесывании).
Если в жизни Алексея Сергеича главный интерес был сосредоточен на Екатерине II, бесконечных разговорах и воспоминаниях о ней, то такую же роль для Маланьи Павловны играл граф А. Г. Орлов-Чесменский. В окончательном тексте рассказа она вспоминает о трех своих встречах с Орловым: во время одного из устроенных им кулачных боев на Ходынском поле, когда она была еще девушкой, затем в день ее свадьбы и, наконец, на балу у Орлова, куда она приехала вместе с мужем. В конспекте совсем нет первого из этих эпизодов, а два других соединены в один, содержащий указание на то, что Орлов был посаженым отцом Маланьи Павловны на ее свадьбе с Алексеем Сергеичем – деталь, которая не вошла в текст рассказа. Значительное место уделено в конспекте описанию одежды старичков Телегиных, причем изображение костюма Алексея Сергеича почти не содержит отличий от текста рассказа. В описании же наряда Маланьи Павловны имеются черты, которые в текст рассказа Тургенев включил в несколько видоизмененной форме. Совсем не вошли в текст «Старых портретов» следующие детали из конспекта, связанные с обликом Маланьи Павловны: («Орл<ов> замеч<ает>, что колец ~ la Reine de Hongrie!») (см. с. 373).
Полностью черновой автограф рассказа неизвестен. Сохранился лишь черновик предисловия к нему (см. выше, с. 393). В черновике вместо слов: «На это намекает ~ и – чужих» – содержится следующий текст: «Продолжение этих отрывков будет зависеть от приема, который окажет „Старым портретам“ публика. Памятуя известный пример архиепископа Гренадского в „Жиль Блазе“ – я буду рад ее одобрению, но сумею также принять к сведению ее критику» (письмо к М. М. Стасюлевичу – приложение к письму, адресованному П. В. Анненкову, от 19 ноября (1 декабря) 1880 г.). О наборной рукописи Тургенев писал Анненкову 14 (26) ноября 1880 г. из Парижа: «…я наконец переехал сюда, рассказец свой кончил, больше половины уже переписал <…> Вы в будущий вторник или в середу получите рекомендованное письмо с оным рассказцем, который Вы извольте прочесть и возвратить, сообщив свое мнение вообще – и отдельные замечания в особенности. Всё это, разумеется, будет принято к сведению».
Авторская правка в наборной рукописи, в общем незначительная, вносит уточнения или дополнения в текст.
Авторизованная копия была изготовлена, вероятно, «в предвиденьи возможного перевода на французский язык» (см. письмо Тургенева к Стасюлевичу от 25 ноября (7 декабря) 1880 г.). На первом листе ее, несколько выше заглавия «Старые портреты», написано по-французски: «Vieux portraits». Она имеет отличия от наборной рукописи и, по-видимому, переписывалась с чернового автографа.
Наборная рукопись «Старых портретов» была отправлена Анненкову, жившему в это время в Баден-Бадене, вместе с письмом от 19 ноября (1 декабря) 1880 г. Ответ Анненкова неизвестен. О впечатлении, которое произвели на него «Старые портреты», можно судить на основании письма к Стасюлевичу от 21 ноября (3 декабря) 1880 г., написанного сразу же после прочтения рассказа. «Поздравляю Вас с подарком, крупным бриллиантом изумительной отделки, <…> назначенным Вам из кабинета И. С. Тургенева. Я сейчас отсылаю ему обратно в Париж рассказ его „Старые портреты“, подтверждающий название, данное его автору Юлианом Шмидтом – „Король новеллы“. Не хочет стареть Тургенев, и новый его рассказ так же свеж и прелестен, как будто писан до подагры и до возведения в сан Оксфордского доктора. Увидите сами» (Стасюлевич, т. 3, с. 393). 22 ноября (4 декабря) 1880 г. Тургенев, получив от Анненкова не дошедший до нас отзыв (в целом весьма положительный), обстоятельно отвечал своему критику по поводу одного его замечания: «Теперь насчет кучерка. В действительности эта история именно так совершилась и закончилась (я даже имени (Ивана) не переменил). Это еще, однако, не доказательство: действительность кишит случайностями, которые искусство должно исключать; но мне на ум приходит тот факт, что почти никогда русский убийца сам с собою не кончает – особенно в крестьянском сословье, в Европе же сплошь да рядом. Боюсь, как бы не дать самоубийце Ивану европейский колорит. Но так как я Вашему критическому чувству почти слепо верю – то я намерен, прежде чем отослать свою штуку Стасюлевичу, дать себе дня два, три на размышление – а там и решусь – так или иначе».
На основании этого письма Тургенева можно предположить, „что Анненков советовал писателю сделать Ивана Сухих не только убийцей своего барина, но и самоубийцей. По-видимому, не совсем точно поняв мысль Тургенева и полагая, что речь идет вообще о самоубийствах среди крестьян, Анненков в письме от 5 (17) декабря 1880 г. указывал писателю на то, что «при крепостном праве топились не только мужчины, но женщины и дети – поминутно». Не настаивая, однако, на изменении концовки «Старых портретов», он кончал письмо заключением: «Впрочем, что бы Вы ни сделали с Иваном или ничего бы не сделали с ним – рассказу Вашему до этого дела нет: он всё останется превосходным, как был» (см. в сб.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. М.; Л., 1966, с. 378).



