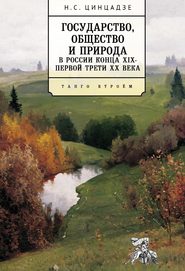
Полная версия:
Государство, общество и природа в России конца XIX – первой трети XX века. Танго втроём
В последующие десятилетия, по мере обострения социоприродного кризиса, были организованы ряд специальных экспедиций: в 1892–1894 г. Лесным департаментом была инициирована экспедиция В. В. Докучаева, в 1894–1900 гг. работала экспедиция генерала А. А. Тилло по изучению рек Европейской России158. Содержание и результаты этих экспедиций ранее нами были отражены159.
Наряду с организацией специальных научных экспедиций министр периодически совершал поездки по губерниям империи для личного ознакомления с деятельностью ведомства на местах, состоянием сельского хозяйства в стране. Министр государственных имуществ А. С. Ермолов был ученым-агрономом, поэтому его наблюдения носили профессиональный характер. Так, в отчете о его поездке в 1893 г. содержатся замечания по отдельным вопросам применения Лесоохранительного закона 1888 г. в различных местностях Российской империи. Министр указал на нечеткость формулировок закона, которые вызывали «недоразумения» в его применении, нарекание и даже сопротивление со стороны частных лиц. Например, признание рубки леса опустошительной должно было учитывать местные условия лесистости, аналогично – в случае признания лесов защитными. Последнее, как считал А. С. Ермолов, производилось «совершенно случайно». Причина этого заключалась в том, что частновладельческие леса были определены по площади, но не по качеству, что рекомендовал осуществить министр.
Он полагал, что зачисление лесов в разряд защитных часто проводилось необоснованно. Много жалоб местного населения о том поступало, например, из Крыма. А. С. Ермолов считал, что пастьба скота в лесу, особенно коз, местным татарским или болгарским населением не являлась поводом перевода леса в категорию защитного. Эти участки не подлежали естественному лесовозобновлению и были бесполезны. В Тверской губернии защитным лесом признавались заросшие лесом пашни или покосы, в то время как леса по берегам Волги и ее притоков таковыми не признавались. О необходимости включения 3–5-верстного прибрежного лесного пространства в категорию защитных лесов говорили даже землевладельцы.
Далее министр обращал внимание на неопределенность в законе понятия «опустошительная рубка»: в одних губерниях к ответственности привлекали за рубку в размерах больше годовой пропорции (Тамбовская, Московская губернии), а в других такая рубка не признавалась нарушением и вырубленный лес засчитывался в пропорцию следующего года (Калужская, Владимирская губернии). Такие же проблемы были с лесными расчистками. В некоторых губерниях (например, в Тверской) ограничения лесных расчисток делали невозможным ведение лядинного хозяйства (подсечно-огневого земледелия). В Крыму лесоохранительные комитеты не разрешали расчищать под виноградники вытоптанные скотом лесные участки. А между тем, как замечал министр, польза для почвы от виноградников была бы больше, чем от «полуобглоданного скотом и низкорослого и корявого кустарника, под которым нередко голая земля»160.
Состояние лесного дела и лесного хозяйства А. С. Ермолов признал крайне неудовлетворительным, что отражалось на снижении доходности казны. Содержание лесов было бесхозяйственным. В том были виноваты шаблонная система управления, не учитывавшая местные условия (обороты рубок устанавливали командированные из Петербурга ревизоры лесоустройства, а не знакомые с местной спецификой провинциальные чиновники), высокая централизация управления лесами, сковывавшая инициативу лесничих на местах. Проблемными были леса общего владения, спорные и въезжие, где крестьянами производились несанкционированные лесные порубки. Необходимо было, как считал министр, ввести принудительное размежевание. Пагубные последствия имел неумеренный отпуск казенного леса даром или по пониженной таксе церкви и крестьянам, которые его перепродавали или небрежно к нему относились.
Надзор за казенными лесами признавался «недостаточным и крайне затруднительным», что провоцировало порубки и пастьбу скота в них. Лесные участки высокопоставленный чиновник предлагал разукрупнить, чтобы усилить за ними контроль. По его наблюдению и признанию, вследствие недостаточности средств, отпускаемых на прореживание и прочистку лесов, они были замусорены валежником и сухостоем. Для этого А. С. Ермолов предлагал выплачивать лесничим за работу процент от лесного дохода в виде премии, отдавать местным крестьянам такие леса для прочистки. Лес страдал от перестоя и бесхозяйственного к нему отношения, от вредных насекомых, борьбе с которыми не уделялось много внимания по причине малой изученности явления161. Много внимания министр уделил проблеме укрепления песков и облесения оврагов. Тем более запросы об этом поступали с мест: воронежское отделение Московского общества сельских хозяев просило об оказании содействия со стороны правительства в деле укрепления песков и оврагов; в Саратовской губернии требовалось укрепить 13 тыс. дес. песков162.
Большой урон лесам наносил их отвод крестьянам, которые обращали их в пашню. Но были редкие случаи бережного отношения крестьян к лесам: в Ярославской губернии на три волости было выделено 17 тыс. дес. леса, большая часть которого была расчищена под пашню, но одна волость берегла свою долю леса и просила министерство запретить его вырубку, на которой настаивали соседние волости. На это ведомство ответило, что только общим сходом трех волостей можно было решить судьбу оставшегося леса163.
Весной 1900 г. А. С. Ермолов выступил с инициативой учредить «Особое совещание для обсуждения проекта узаконений о производстве земельных улучшений в Европейской России». На заседание Совета министров 23 мая 1900 г. по его просьбе приглашались видные ученые, представители министерства финансов и др.164 Данное межведомственное совещание так и не было созвано. Инициатива была перехвачена министром финансов С. Ю. Витте, который в 1902 г. созвал Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
Помимо сбора и анализа данных о развитии сельскохозяйственной отрасли производства, МЗиГИ проводило местные исследования посредством командирования в отдельные губернии специалистов сельского хозяйства. Так, на следующий год после неурожая 1891 г. было проведено исследование черноземных губерний с целью выявления их состояния и причин недорода. В 1893 г. были обследованы Орловская, Вятская, Пермская губернии. В 1893–1894 гг. изучались почвы Заволжья. Лесной департамент параллельно занимался составлением карт и описанием защитных лесов165.
Одним из направлений в деятельности ведомства было распространение знаний в области сельского хозяйства, лесного дела и, вообще, агрономическое просвещение. На попечении министерства находился ряд учебных заведений: образованная в 1865 г. Петровская земледельческая и лесная академия, 10 средних сельскохозяйственных учебных заведений и 70 низших сельскохозяйственных школ, низшие лесные училища166. Их количество постоянно увеличивалось. В 1890 г. Петровская земледельческая и лесная академия была преобразована в Московский сельскохозяйственный институт167. Помимо государственных, на средства земств, сельскохозяйственных обществ и пр. открывались частные сельскохозяйственные училища и школы. Из 70 сельскохозяйственных школ 58 содержались на частные средства168.
Кадры для Корпуса лесничих готовились в Санкт-Петербургском лесном институте и Петровской земледельческой и лесной академии. Лисинское лесное училище готовило специалистов низшего звена. В последующем, после закрытия этого училища, были созданы 13 низших лесных школ169. Для распространения сельскохозяйственных знаний среди населения с 1887 г. впервые стали появляться курсы для народных учителей. Их прошли более 4 тыс. чел., в т.ч. 3200 учителей. На курсах большое внимание уделялось практической части занятий. С 1880-х гг. основы сельского хозяйства стали преподаваться в церковно-приходских и церковно-учительских школах, учительских семинариях170.
С целью наглядного распространения достижений сельскохозяйственной науки создавались музеи (Императорский сельскохозяйственный музей, Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад, Садовый музей), образцовые фермы, устраивались выставки (за период 1881–1894 гг. в Европейской России было организовано 374 выставки)171. Помимо этого, действовали опытные станции и поля. Последние учреждались частными лицами и земствами.
Министерством финансировалась деятельность сельскохозяйственных обществ, которых вначале насчитывалось четыре десятка172. Они занимались распространением улучшенных приемов ведения сельского хозяйства, популяризацией агрономических знаний. В 1894 г. их насчитывалось уже 131 (95 обществ и 36 отделений). Они специализировались по отдельным отраслям сельского хозяйства на территории губерний, уездов и даже волостей. Сельскохозяйственные общества своей деятельностью привлекали внимание крестьян и землевладельцев к агрокультурной практике хозяйствования. Самыми известными были Императорское Вольное экономическое общество и Московское общество сельского хозяйства. Большая часть обществ получали постоянные или временные государственные субсидии173. Свою долю содействия развитию сельского хозяйства вносили сельскохозяйственные съезды174.
Большую работу на местах проводили сельскохозяйственно-экономические земские коллегии – коллегиальные сельскохозяйственные органы земств. Они оказывали практическую помощь крестьянам и помещикам, изучали состояние сельского хозяйства в уездах, разрабатывали рекомендации по рациональному ведению сельского хозяйства175. Так, с подачи земства с 1880-х гг. обсуждался вопрос о мелиоративном кредите и только 6 мая 1896 г. были введены в действие «Временные правила о ссудах на сельскохозяйственные улучшения»176.
Отдельного внимания заслуживают мероприятия министерства по мелиорации. Систематические и широкие оросительные мероприятия начались с 1880 г. после засухи на юге империи и в Поволжье. Затем, после засухи 1892 г., орошение и обводнение распространилось на степные районы Юго-Востока государства. Тогда же стали устраиваться искусственные водохранилища. Много работ проводилось по регулированию стока рек и речек.
В 1895 г. министерство подготовило специальный очерк о мероприятиях в сфере орошения степных и южных районов империи177. Вода признавалась ценнейшим элементом сельскохозяйственной производительности. Отмечалось опасное увеличение маловодных и безводных пространств в России, площадь которых вследствие часто повторявшихся засух росла к юго-востоку. Это угрожало земледелию и жизнеобеспечению в будущем. Бездействие и равнодушие к этой проблеме были чреваты серьезными, далеко идущими последствиями. Причиной недостатка воды в степных черноземных губерниях, по мнению составителей очерка, было истребление лесов, защищавших источники главнейших рек России. Причем исчезновение лесов произошло в сравнительно недавнем прошлом. Это вызвало рост оврагов, распространение песков, засыпание ими истоков рек, их пересыхание и гибель водных источников, изменение климата в сторону его нестабильности и сухости. Помимо лесоистребления, эти негативные процессы усугубляла распашка степей и лугов, берегов рек, хищнические приемы эксплуатации земли.
Явная проблема оскудения почвы привела к оскудению влаги: не хватало воды не только для нужд земледелия, но и питья людей и водопоя скота. Ценность и недостаток воды как жизненного ресурса проявлялась в том, что в 1890-е гг. в центральных и южных губерниях вводился новый вид уголовного наказания, предусмотренный за участившуюся кражу воды со взломом из колодцев, запираемых на ключ их владельцами. Вода из подобных колодцев продавалась их владельцами своим односельчанам. Исчезновение прудов, уменьшение числа водных источников было причиной для переселений крестьян в более благоприятные районы. Недостаток водных источников, пользование имевшимися одновременно и в хозяйственных, и в бытовых, и в пищевых целях были причиной распространения заразных заболеваний (тифа). Все это с каждым годом делало проблему водоснабжения степных районов страны «острой и жгучей». В силу этого она приобрела характер «общегосударственной задачи»178.
Первые спорадические опыты по ирригации начались в России в начале 1840-х гг., после стажировки за границей отечественных специалистов. Широкие оросительные мероприятия требовали специальных гидрологических и геологических исследований, которые начали проводиться лишь с 1880-х гг. с целью подготовки топографической, метеорологической, гидротехнической основы для широкой оросительной политики применительно к отдельным местным условиям. Тогда была организована экспедиция генерал-лейтенанта И. И. Жилинского. Однако государственное финансирование обводнительных работ проводилось «в крайне ограниченных размерах», что не позволило существенно решить проблему водоснабжения на юге и юго-востоке империи. К тому же кадровое обеспечение этих работ было недостаточным (их обеспечивали 59 специалистов, 18 студентов и практикантов). Лишь засуха 1891 г. заставила правительство убедиться в неотложности и важности оросительного дела в стране: на помощь населению, строительство и ремонт обводнительных сооружений была выделена беспрецедентная сумма – 0,5 млн руб. Всего за 1880–1894 гг. экспедиция А. А. Жилинского получила 2,3 млн руб. Составителями очерка верно отмечалось, что правительство не должно было жалеть деньги на ирригацию степей, траты на которую окупились бы сторицей 179.
Судя по отчету экспедиции за 1894 г., на оросительные мероприятия юга страны (Воронежская, Самарская, Полтавская, Херсонская, Таврическая губернии) было затрачено 295 100 тыс. руб. Проводились общие (изучение рельефа, водности рек, состава почвы и подпочвы и пр.) и специальные изыскания (гидротехнические и сельскохозяйственные работы на орошаемых участках) 180. В Воронежской губернии, помимо ремонта ранее возведенных гидротехнических сооружений, были проведены ряд новых работ – например, было завершено строительство водоудержательной плотины. Для предохранения водохранилища от наносов был укреплен действующий овраг и дно лога, в котором была построена плотина. Была окончена также насыпь плотины около Дона. В Самарской губернии проводились метеонаблюдения, сельскохозяйственные опыты и др.181
Конкретными мерами обводнительных и оросительных работ, помимо строительства гидротехнических сооружений, были запруды речек, сбор дождевой и снеговой воды, механический подъем воды, специальные приемы обработки почвы и пр. Такие мероприятия проводились на территории Самарской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Курской, Пензенской, Симбирской, Полтавской, Херсонской, Таврической, Екатеринославской губерний, Области Войска Донского182. Сложность в ирригации состояла в неразвитости российского водного права, исходившего из принципа частной собственности на водные ресурсы, что препятствовало проведению ряда мероприятий. В Западной Европе в то время была установлена публичная собственность на водные источники. В России важность воды к середине 1890-х гг. все более осознавалась, поэтому законодательное регулирование ее использования было необходимо для успеха оросительного дела в стране183.
Параллельно с деятельностью экспедиции И. И. Жилинского в 1892 г. при Лесном департаменте министерства была образована экспедиция под руководством В. В. Докучаева для разработки научно-теоретических основ облесения и обводнения степей южной России, а в 1894 г. – межведомственная экспедиция для исследования истоков главнейших рек России под руководством генерала А. А. Тилло. Наряду с этими крупными мероприятиями проводились отдельные геологические изыскания членами Геологического комитета. Результаты их исследований были востребованы при орошении юга и юго-востока империи184.
В комплексе с орошением шли работы по укреплению оврагов, которые интенсивно начали осуществляться также после засухи 1892 г.185 С 1893 г. стали широко укрепляться овраги, особенно на склонах больших рек. На эти мелиоративные работы было потрачено 2,3 млн руб. С 1894 г. эти работы были поручены специально созданному отделу земельных улучшений, а укрепление песков и лесонасаждение остались в ведении Лесного департамента186.
Отдельное внимание министерство уделяло развитию отраслей сельского хозяйства. В области полеводства в 1886–1890 гг. исследовалась практика применения минеральных удобрений187. С целью активного перехода крестьян с трехполья на многополье министерство вело просветительскую работу, заготовляло семена кормовых трав и снабжало ими крестьянские хозяйства188. Предпринимались меры по борьбе с вредителями сельского хозяйства189. После экспедиции академика А. Ф. Миддендорфа начались активные работы по улучшению скотоводства190. В поле зрения ведомства находились проблемы крестьянского коневодства191. Позже ведомство озаботилось проблемами рыбного хозяйства: с 1884 г. были введены запреты на лов волжской сельди для того, чтобы не истощить ее запасы192.
Лесоустроительные работы в период 1862–1872 гг. охватили площадь более 4 млн дес.193 После утверждения в 1888 г. «Положения о сбережении лесов» 458 300 дес. казенного леса были признаны защитными, 431,5 тыс. дес. – водоохранными. На площади более 4 млн дес. лесоохранительными комитетами были утверждены планы ведения лесного хозяйства частными лицами194. Государственные средства тратились на облесение степей юга империи, лесовозобновление195.
Важным направлением в деятельности сельскохозяйственного ведомства империи была организация переселения избыточного крестьянского населения на восток страны. Пик переселений пришелся на вторую половину 1880-х гг. Всего из многоземельных губерний Европейской России за 1881–1894 гг. было переселено 94 488 чел.196
Деятельность Министерства земледелия и государственных имуществ в 1894–1905 ггВ этот период правительство предпринимало энергичные меры по осмыслению и преодолению негативных социоестестественных последствий аграрного перенаселения: были учреждены комиссия под руководством директора одного из департаментов Министерства финансов В. И. Ковалевского – «Особое совещание для выяснения общих и основных причин экономического упадка группы губерний центрально-черноземной полосы Европейской России» (1899–1901 гг.), «Комиссия о Центре» под председательством товарища министра финансов В. Н. Коковцова (1901 г.), по инициативе министра финансов С. Ю. Витте было созвано «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (1902–1905 гг.)197. Материалы с мест воочию показали глубину кризисных явлений в деревне Европейской России198.
По-прежнему аграрное ведомство уделяло специальное внимание развитию отдельных отраслей сельского хозяйства. В 1896 г. была созвана специальная сельскохозяйственная комиссия для рассмотрения постановлений и ходатайств Всероссийского съезда сельских хозяев, прошедшего по инициативе Московского общества сельских хозяев в Москве в декабре 1895 г. Ее председателем был избран А. А. Нарышкин, товарищ министра земледелия, а членами являлись И. А. Звегинцев, Н. А. Хомяков, Д. А. Тимирязев, И. И. Жилинский, И. А. Арапов, Ф. И. Никитин, И. А. Бильдердинг, Н. И. Червинский, С. С. Бехтеев, Ф. С. Голицын, А. А. Куракин, А. А. Шульц, Д. И. Семенов, Я.Я. Шварц, К. Ф. Головин, Н. И. Шидловский, И. В. Стенбок-Фермор. В период февраля-апреля, октября 1896 г. комиссия провела восемь заседаний, на трех из которых присутствовал министр199. Комиссия согласилась с предложениями съезда о дальнейшей поддержке министерством сельскохозяйственных обществ, расширении сети сельскохозяйственных учебных заведений, опытных полей и станций, практики применения удобрений, энергичных мерах по орошению засушливых районов посредством устройства большого числа прудов, в т.ч. служивших скоту водопоем. Для реализации последнего чиновники считали важным расширение мелиоративного кредитования. Комиссия признала целесообразным развитие коневодства, механизацию сельскохозяйственного труда200. Для развития животноводства в 1901 г. была создана ветеринарная часть в составе Министерства внутренних дел201.
В поздний пореформенный период правительство уделяло повышенное внимание развитию Сибири, что было обусловлено строительством Транссиба – грандиозным проектом начала XX в., – необходимостью его обеспечения строительными и отопительными материалами. В связи с этим министр совершал командировки туда, следил за осуществлением развития сельского, лесного и горного хозяйств. В развитие края вкладывались немалые денежные средства. В отчетах о сибирских поездках министра содержатся очень ценные наблюдения не только о развитии Сибири, апробированных в старопахотных частях империи способах колонизации, возникавших в результате проблем, но и о социоприродных проблемах Европейской России в связи с ее «оскудением». Так, осенью 1895 г. министр земледелия А. С. Ермолов совершил поездку в Сибирь, о чем составил доклад императору202. Примечателен сохранившийся в фонде Канцелярии министра земледелия экземпляр этого доклада с пометами на полях, сделанными Николаем II203. Целями поездки министра были ознакомление с условиями поземельного устройства переселенцев из Европейской России, управления лесных и горных богатств с учетом строившейся Транссибирской железной дороги, состоянием сельского хозяйства и кустарной промышленности. Император соглашался с министром в том, что главнейшей задачей правительства в Сибири было урегулирование земельных отношений местного населения с тем, чтобы предотвратить конфликты между старожилами и новопоселенцами. Для этого предполагалась выдача старожилам «владенных документов» на их наделы. Важной частью поземельного устройства в Сибири, в чем также соглашался государь, было урегулирование лесопользования, прекращение хищнического лесоистребления посредством ужесточения лесоохранительных мер204. Темпы переселения в Сибирь из внутренних губерний страны росли: в 1895 г. переселилось 109 тыс. чел. При этом в некоторых районах (Минусинском округе Енисейской губернии) уже ощущалась нехватка удобной земли и малоземелье. «Таким образом, почти безпредельныя, на первый взгляд, пространства Сибири, на самом деле далеко не представляют собою неисчерпаемого земельного фонда», – заключал А. С. Ермолов. Для расширения удобной для сельского хозяйства и проживания территории планировалось осушение болот, обводнение степей и иные мелиоративные мероприятия, разведка новых участков, постепенное заселение тайги. Наблюдалось также и обратное переселение, которое в 1895 г. составило 10% выселившихся ранее205.
Министр отмечал, что в Сибири сохранялся экстенсивный тип хозяйствования, свойственный Европейской России, стремление к максимальной запашке целинных земель и игнорирование интенсивной системы полеводства. Вследствие истощения ряда участков в Тобольской губернии предпринимались попытки их унавоживания, а в южной части Енисейской губернии крестьяне применяли искусственное орошение сенокосных и пашенных угодий.
А. С. Ермолов обращал внимание императора на высокие темпы исчезновение лесов в Сибири вследствие отсутствия до середины 1880-х гг. государственного контроля за ними. Безграничная и бесплатная свобода пользования лесом, наличие запасов леса воспитала привычку неэкономного его хозяйственного использования. Много лесов погибало в пожарах. На восклицание министра о том, что не меньший ущерб лесам наносил ежегодный сруб деревьев для заграждения дорог от снежных заносов, Николай II пометил на полях доклада: «Это повторяется каждую зиму (подчеркнуто императором. – Н. Ц.) и в Европейской России!» По единодушному мнению царя и министра, вопрос о сохранении лесных богатств в интересах строившейся тогда Транссибирской железной дороги, населения Сибири и Европейской России являлся первостепенным. Оба поддерживали идею о рациональной эксплуатации еще сохранившихся лесов, искусственном лесовозобновлении, создании новых лесничеств, увеличении численности лесной стражи 206.
В докладе о поездке в Сибирь летом 1898 г. министр сообщал, что попутно ознакомился с плачевным состоянием крестьянских хозяйств Черноземья и Поволжья после засухи 1897 г. Тяжесть этого неурожая объяснялась тем, что население еще не оправилось от засухи 1891 г.207 По аналогии с Европейской Россией в Сибири проводились мелиоративные мероприятия, расширялась сеть агрономической помощи населению, распространялось сельскохозяйственное образование и др. Министр вновь повторял слова о необходимости упорядочения лесного хозяйства, усиления контроля над казенными лесами Сибири, что активно начало предприниматься с середины 1890-х гг.208
В черновом варианте доклада министра о поездке в центрально-черноземные губернии России летом 1896 г. с целью осмотра некоторых образцовых, передовых частных хозяйств содержатся любопытные размышления высокопоставленного чиновника о состоянии сельского хозяйства, мерах выхода из его кризиса. Судя по сделанной министром в конце документа приписке, он составил этот доклад с целью обратить внимание государя на необходимость развития сельского хозяйства, решения накопившихся в нем проблем. Вначале он сообщал о том, что в период упадка сельского хозяйства некоторые частновладельческие хозяйства (к тому времени их по империи насчитывалось 18) успешно вели интенсифицированный тип хозяйства: высаживали разнообразные полевые культуры, применяли агротехнические методы обработки земли, орошение полей, улучшали скотоводство, занимались искусственным лесоразведением. Министр полагал, что подобную практику необходимо было поощрять льготным отпуском саженцев из государственных лесных питомников, направлением в частные хозяйства государственных техников-инструкторов209.



