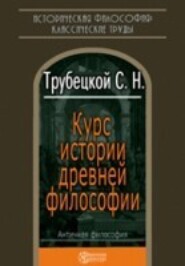 Полная версия
Полная версияКурс истории древней философии
Таков смысл этого маленького диалога, в котором Сократ изображается самым любящим и покорным из сынов своего отечества, благодарным и преданным охранителем его законов, привязанным к Афинам до самой смерти более всех своих сограждан. Здесь, очевидно, мы имеем иного рода защиту, нежели в «Евтифроне» или «Горгии». В первом Сократ защищается от обвинения в нечестии, обличая суеверное благочестие своих современников и противополагая ему веру в начала добра и правды. В «Горгии» он осуждает государственную жизнь и деятельность Афин, все стремления величайших из мужей афинских, создателей славы и могущества родного города; он противополагает их суетным усилиям, их ложной политике – свою единую спасающую истинную политику, направленную на нравственную реформу общества, ту реформу, о которой он говорит в «Апологии», отвечая на обвинение в развращении юношества. В обоих диалогах Платон противополагает обвинению энергичную контратаку, которая является особенно сильною и резкою в «Горгии», – диалоге, по мнению большинства современных критиков, написанном под неостывшим впечатлением казни Сократа.
«Критон» дышит другим настроением, исполненным глубокого мира, и защищает Сократа совершенно иным оружием. Законы отеческие являются здесь предметом благоговейного уважения и благодарности со стороны осужденного философа. Перед смертью в темнице он свидетельствует, что не от них, не от законов афинских терпит он неправду, а от людей. Законы его родили, вскормили, воспитали. Сократ видит в них устои отечества, признает за ними высшую нравственную санкцию и называет их «братьями» тех вечных законов, которые царствуют в Аиде, в мире загробном. Они превосходят законы других городов и народов, и хотя философ и хвалит постоянно законы Крита и Спарты, соответствующие аристократическому строю, однако же он не променял на них отечественных законов, сохранив им верность до конца и самою смертью запечатлев свое послушание им и свою преданность Афинам. Таким образом мы видим здесь смягчение тех положений, которые с такой силой высказаны в «Горгии». В «Критоне» слышится голос афинского гражданина Периклова века, который звучит каким-то анахронизмом: идеал свободного народа, в котором нет иной власти, кроме законов и вечного божественного права, как их общей, неписаной основы, – этот возвышенный идеал высказывается и в знаменитой Перикловой речи (Фук. II, 37), и в трагедиях Софокла, «Царь Эдип» и «Антигона».
Шлейермахер (1, 2, 162) считает «Критона» чуть ли не записью дейстйительного разговора Сократа, и Целлер видит в нем один из «наиболее ранних и наиболее исторических» диалогов Платона (II, 1, 142). Указанные особенности его заставляют, однако, усомниться как в раннем происхождении «Критона», так и в его историческом характере. Не следует, впрочем, смешивать эти два вопроса.
Время написания «Критона» действительно представляется более поздним, чем полагал Целлер, по-видимому, более поздним, чем эпоха написания «Горгия», «Евтифрона», «Апологии». Помимо примирительной тенденции, которая отличает от них наш диалог, мы находим в нем такое решительное и последовательное утверждение принципа neminem laede (никому не навреди), которое встречается только в «Государстве» и является чуждым не только Ксенофонтову Сократу, но даже Платону в его «Горгии», где, наоборот, высказывается мысль, что мы должны содействовать гибели нашего врага, способствуя его безнаказанности (480 Е).[146] Далее Гомперц младший приводит весьма веские соображения, заставляющие нас признать, что «Критон» написан после «Федона», в котором находится прозрачная ссылка на «Апологию», между тем как «Критон» не только не предполагается, но, по-видимому, еще неизвестен. На вопрос Федона, знает ли он об обстоятельствах, относящихся к суду Сократа, Эхекрат, в начале диалога «Федон», отвечает, что они были возвещены (ταυτα μεν ημιν ηγγειλε τιζ), νо что он недоумевает, почему приговор столь долго не был приведен в исполнение. Федон подробно объясняет ему причину задержки: в отправлении священного корабля в Делос, до возвращения которого смертный приговор не мог быть исполнен, причем Федон говорит и о самом учреждении делийской Феории. В «Критоне» все это предполагается известным: или судно (το πλοιον) οришло из Делоса? – спрашивает Сократ. Далее Эхекрат справляется, пускали ли друзей к Сократу в темницу, что также показывает, что «Критон» еще неизвестен.[147]
И таким образом этот диалог, по-видимому, написан после «Горгия», «Евтифрона», «Федона» и «Менона» (на которого ссылается «Федон»). В этом диалоге Платон, возвратившийся в Афины и начавший свою учительскую деятельность, мирится с родным городом, показывая в образе самого Сократа, что его требования коренной нравственной реформы, его обличения неправды, царящей в обществе, совместимы с любовью к отечеству и верностью государству, до последнего издыхания: мало того, философия Сократа, его нравственно-общественный идеал сходятся с тем, что есть наиболее возвышенного в афинской государственной идее, как ее понимали величайшие и лучшие люди афинские V века.
Итак, «Критон» не принадлежит к числу ранних диалогов Платона. Но верен ли тот образ Сократа, который он нам дает? Справедливо ли в историческом смысле такое истолкование деятельности Сократа? Быть может, если бы «Критон» был написан ранее, Платон не выдвинул бы столь энергично чисто аттический патриотизм своего учителя. И тем не менее эта афинская окраска политического идеализма, которая останавливает наше внимание в Сократе «Критона» – есть подлинная историческая черта. Сократ, действительно, с полным правом мог сказать про себя, что он был вскормлен и воспитан афинскими законами, что нравственно-общественный идеал Афин Периклова века был воспринят им и возведен на высшую ступень философского сознания. Этот идеал человеческого общества, управляемого законами, в основании которых лежит вечное право – божественный закон, – входит органически в философию Сократа и после него передается его преемникам, великим философам афинским. «Знать законное» относительно богов и людей – в этом ключ благочестия и справедливости, в этом высшая цель разумной человеческой деятельности – частной и общественной. И государственный идеал Периклова века, идеал государства как свободно-разумного союза людей, осуществим лишь при том условии, чтобы граждане «познали законное», прониклись сознанием права и закона, который только тогда и будет действительно царствовать, станет живою нормой. Но «познать законное» для Сократа еще не значит знать законы писаные и неписаные; само понятие «неписаного закона» в эпоху Сократа было двусмысленно, обнимая в себе как обычай (εθη), οоложения обычного права, так и высший божественный закон (θειοζ νομοζ) – ξбщие и вечные нормы права, которые еще Гераклит признавал как основу и источник всех человеческих законов. И о этом самом вечном законе, об естественном праве, среди греческой интеллигенции велся горячий спор: имеет ли он разумный, этический характер, или же он сводится только к праву силы и лежит за пределами, по ту сторону добра и зла? Для Сократа вечный и божественный закон есть разумная норма, есть вечная правда, справедливость (το νομιμον – δνχαιον). о противоречие между правом и законом, в сознании которого разлагалась государственная идея, исчезает тогда, когда законодатели и правители проникнутся правосознанием, сознанием справедливости. Законы перестанут быть произвольным постановлением господствующей партии или господствующей власти, когда «познание добра» или познание правды станет общим достоянием. Если Сократ осуждал современный ему строй, то это во имя этого идеала; если он осуждал государственных людей, современных ему и предшествовавших ему, то за недостаток ясного сознания этого идеала, за то, что ни один из них, не исключая и Перикла, не умел дать отчет в том, что такое государство, что такое закон, что такое справедливость. Он не только был величайшим политическим идеалистом, но самый идеализм его коренился в афинской почве. Нередко указывали на его симпатии к спартанскому строю, в противоположность уклонениям афинского демократического радикализма и его распущенности. Но те черты, которые он ценил у спартанцев – уважение к закону, строгость дисциплины, заботу о нравственном воспитании юношества, – еще не делают его политическим сторонником лаконской партии. Этого мало, его этический идеал государства как нравственно-разумного целого, благо которого совпадает с благом отдельных граждан и осуществляется в их разумном взаимодействии, в наиболее целесообразном разделении труда, соответствующем способности, умению, знаниям каждого, – такой идеал мог вырасти лишь на свободной афинской почве, а не на почве узкого спартанского традиционализма.
«Критон» дает нам исторически верное изображение, и в основании его могут лежать действительные воспоминания. Это не значит, однако, чтобы наш диалог был простою записью разговора Сократа с его учеником, как предполагает Шлейер-махер (I, 2, 162), хотя автор мог с большим правом сказать про него то же, что он говорил и про остальные в своем письме к Дионисию II 314 С… «да и нет никакого сочинения Платона и впредь не будет, а то, что говорится здесь, принадлежит Сократу, сделавшемуся вновь молодым и прекрасным» (ουδ στι συγγραμα Πλατωνοζ ουδεν, ουδ εσται, τα δε νυν λεγομενα Σωχρατουζ εστι χαλου χαι νεου γεγονοτοζ).
Рассуждение о «Евтифроне»
1
Близ царского портика Сократ встречается с известным прорицателем Евтифроном. Сократ подвергнут уголовному преследованию Мелетом, который обвиняет его в развращении юношества: измышляя новых богов и отвергая старых, он виновен в нечестии. Евтифрон, напротив того, сам подвергает уголовному преследованию родного отца, который нечаянно уморил пойманного им преступного наемника. Евтифрон знает, что многие найдут его поступок нечестивым, между тем как, по его мнению, единственный путь к тому, чтобы избавиться от осквернения, причиняемого кровью убитого, состоит в уголовном преследовании убийцы, кто бы он ни был, свой или чужой. Гордый своим благочестием и богословскими знаниями, Евтифрон пренебрегает мнением людей, не знающих, как само божество относится к благочестию и к нечестию.
Услышав это, Сократ, по обычаю, выражает желание пойти к Евтифрону в науку и просит его дать ясное определение того, что есть благочестие и нечестие. Свой ответ Евтифрон начинает с логической ошибки, обычной в устах многих из собеседников Сократа, выводимых Платоном: вместо требуемого общего понятия он указывает на единичный случай: благочестиво то, что он делает, преследуя отца своего за преступление, имеющее религиозный характер (убийство, как и святотатство, относится именно к этому роду преступлений и связано с μιασμα θли осквернением). В доказательство своего благочестия Евтифрон ссылается на пример лучшего и справедливейшего из богов – Зевса, который за различные преступления связал своего отца. Такой ответ, конечно, не удовлетворяет Сократа: во-первых, он высказывает свое неверие по отношению к такого рода мифам о вражде и битвах богов, а во-вторых, требует, чтобы Евтифрон, не ограничиваясь указанием единичных случаев благочестия, показал бы ему самые общие черты благочестия, его внутрений образ, или «идею», которая делает все причастное ей или подобное ей благочестивым. В ответ на это Евтифрон дает второе определение: благочестиво то, что угодно богам, нечестиво – то, что им неугодно. На это Сократ замечает, что, по мнению Евгифрона, меж самих богов нет согласия: одним из них может нравиться нечто такое, что ненавистно другим, – приятное Зевсу может быть ненавистно Кроносу, и наоборот; с такой точки зрения боги, подобно людям, должны расходиться в своих суждениях о добре и зле, о справедливом и несправедливом, а стало быть, одно и то же может быть ненавидимо и любимо богами. Но в таком случае одно и то же может быть зараз и благочестиво и нечестиво. Сократ предлагает Евтифрону внести поправку в его определение и признать нечестивым то, что ненавидят все боги, и благочестивым то, что любят все боги; то, что любезно одним и ненавистно другим, – безразлично. Но и это исправленное определение не удовлетворяет Сократа, который ставит знаменательный вопрос, потому ли благочестивое благочестиво, что оно любимо богами, или наоборот, потому оно любимо богами, что оно благочестиво? Диалектика Сократа приводит его к этому последнему утверждению, а вместе с тем и к опровержению предложенного определения. Определяя благочестивое как то, что любимо богами или угодно богам, мы раскрываем не сущность (ουσια) αлагочестия, а лишь одну из его «акциденций», нечто такое, что ему случайно, как производное свойство, зависящее от отношения благочестия к отличным от него богам. И Сократ просит вновь своего собеседника сказать ему, в чем сущность благочестия, все равно, любимо оно богами или случается с ним еще что-либо другое.
Евтифрон признается в своем затруднении и жалуется на то, что все предположения его оказываются неустойчивыми. Сократ приходит к нему на помощь и дает новое определение благочестия как «части праведного» или «справедливого» (μεροζ του διχαιου). Νо какую часть праведности составляет благочестие? Ту, которая относится к попечению о людях. В чем, однако, состоит наше попечение о богах? Совершая что-либо благочестивое, приносим ли мы богам какую-нибудь пользу или делаем ли мы их лучшими, как это случается там, где мы печемся о наших ближних или о домашних животных? Очевидно, нет, и потому попечение о богах определяется здесь как своего рода служба или служение. Всякое служение или служба предполагает какую-нибудь деятельность, целями которой подчиняются служащие. Так, те, кто служат врачам, кораблестроителям или зодчим, служат достижению специальных целей медицины, кораблестроения или зодчества. Поэтому, если мы хотим познать сущность благочестия, мы должны определить, в чем состоит то специальное дело богов, для которого им нужна наша служба. Евтифрон явно затрудняется указать, в чем состоит это «хорошее дело», говоря, что боги делают много хорошего и что понять все в точности, как оно есть, заняло бы слишком много времени. Желая упростить дело, он дает еще новое определение благочестия как уменья делать богам приятное, молясь им и принося им жертвы, от чего зависит благоденствие и спасение как отдельных домов, так и целых государств. «Но ведь приносить жертвы значит дарить богов, а молиться значит просить богов, – замечает Сократ, – откуда выходит, что благочестие есть наука о том, что нам нужно дарить и просить богов». Мы просим у них то, что нам нужно, и дарим им то, что им нужно, так что благочестие превращается в какой-то торговый обмен между людьми и богами. Но Сократу не нравится подобное определение: «какая может быть польза богам от тех даров, которые они от нас получают? Всякому ясно, что они дают, потому что нет ни одного блага, которого бы они не давали. Но какая им польза в том, что они от нас получают?» Евтифрон отвечает, что боги получают от нас не пользу, а честь и почет, которые им любезны и милы, вследствие чего речь возвращается снова к прежнему определению благочестивого, как любезного и угодного богам. Сократ констатирует это и жалуется, что Евтифрон, уходя от него, лишает его великой надежды узнать, в чем суть благочестия и нечестия.
2
Таково содержание этого небольшого диалога. Он представляет значительный интерес не только для изучения нравственной философии Платона и Сократа, но и для освещения того духовного кризиса, который переживала греческая религиозная мысль в пятом и четвертом веке и который подготовлялся уже издавна, с тех пор как нравственное сознание греков стало перерастать их богов и их мифологию. Уже с шестого века (если не ранее) начинает проявляться все более и более резко неудовлетворенность философской мысли и религиозного чувства, которая сказывается как в попытках зарождающегося рационализма и религиозной критики, так и в попытках религиозной реформы и развития греческого мистицизма.
Развитие рационализма легко проследить в истории ранней философии греков. Если первые начатки этой философии и следует искать в религиозном умозрении и если античная мысль долго сохраняет религиозную окраску, то тем не менее протест против мифологии появляется крайне рано. Мы находим его во всей силе уже у поэта-философа Ксенофана (VI в.). Он не хочет повторять старые и нелепые басни про битвы богов и кентавров: по-видимому, он относится к этим басням, как Сократ в нашем диалоге (6); подобно ему, он хочет чтить богов разумною речью, беседуя о добродетели и высказывая резкое осуждение народному культу и антропоморфизму Гомера и Гесиода:
Все, что могли, приписал”! богам Гомер с Гесиодом,Что у людей почитается стыдным и всеми хулимо,Множество дел беззаконных они про богов возвестили, —Как воровали они, предавались обману и блуду…Люди делают богов по своему подобию: рыжие, голубоглазые у фракийцев, они черны и курносы у эфиопов:Если бы львам и быкам в удел даны были руки,Если б писали они иль ваяли, как делают люди,То и они б рисовали богов и тела б им создали,Какие самим им даны, сообразно строению каждых:Кони – конями, быками – быки богов бы творили…Ксенофан настаивает на единстве, вечности, разумности божества, которое все видит и все слышит, управляя всеми, и не подобно ничему смертному. Признавать бога рожденным есть такое же нечестие, как “читать его смертным, и изображение страстей богов представляется философу нечестием и безумием не только в эпосе, но и в культе: если боги смертны, нечего приносить им жертвы, а если они боги, – нечего их оплакивать и совершать в их честь траурные, печальные обряды, как это делается в иных культах.
Так учил Ксенофан за сто лет до Платона. И если ему, как рапсоду, приходилось более определенно, чем прочим философам, установить свое отношение к религиозному содержанию эпоса, то другие философы, не вступая в прямую полемику с Гомером и Гесиодом, расходились не менее глубоко с народными верованиями и мифологическими представлениями. В тех различных попытках физического мирообъяснения, которые мы у них находим, в их астрономии, космологии и метеорологии, боги не играют никакой деятельной роли. Кажущиеся исключения только подтверждают это общее положение, как, например, у Эмпедокла, у которого четыре божества – Зевс, Гера, Аидоней и Нестис, являются олицетворениями или даже простыми наименованиями четырех стихий, или у пифагорейцев, где боги распределяются по планетам, которые движутся согласно вечным математическим законам гармонии.
Естественно, что физика подкапывала мифологию, и в связи с попытками рационального объяснения Вселенной мы постоянно встречаемся с попытками рационализировать и самые мифы – путем аллегорического их объяснения. Первую систематическую попытку в этом направлении мы находим у Метродора из Лампсака, ученика Анаксагора; но отдельные рационалистические объяснения мифов встречаются и гораздо раньше. Не редкостью было на исходе пятого века и чисто отрицательное, крайне скептическое отношение к религии. Несомненно, софистика, с ее поверхностным рационализмом, много способствовала распространению такого скептицизма в широких кругах общества; но видеть в ней источник нечестия и безбожия, как это делали многие древние и новые ее обличители, было бы крайне несправедливым. За немногими единичными исключениями, профессиональные софисты не были оригинальными мыслителями; преподавательская деятельность их определялась спросом, а их нравственная философия ходячими мнениями. Рационалистический характер был присущ всему греческому просвещению, и афинянину V века не нужно было учиться у софистов, чтобы смеяться над Аристофановым Стерпсиадом с его мужицкими верованиями. Консерватор Аристофан, обличающий не только софистов, но и самого Сократа как опаснейшего из софистов, – Аристофан, ревнитель добрых старых нравов и древнего благочестия, ярче других свидетелей показывает нам, как глубоко расшатались такие нравы и такое благочестие. И он делает это не только своей сатирой и обличением, своим изображением нравственного состояния современного ему общества: он сам обращает в комические маски тех самых богов, которых он защищает от их отрицателей. Обличая философию и физическую методологию, он противополагает ей невежественного, придурковатого Стерпсиада, который думает, что Зевс мочится через решето, когда идет дождик…
Не следует, однако, представлять себе греческое общество эпохи аттического просвещения враждебным или равнодушным к религии, зараженным повальным сомнением и отрицанием. Напротив, иногда оно является нам крайне суеверным, способным к настоящим взрывам фанатизма (напр., процесс осквернителей Герм или хотя бы процесс Сократа). Своеобразная смесь суеверия и свободомыслия является характерным признаком не только всего общества указанного времени, но и отдельных выдающихся его представителей, например, того же Аристофана, или даже самого Сократа, соединявшего крайний рационализм с верой в мантику и оракулов; правда, эта последняя черта, быть может, отчасти преувеличена у Ксенофонта – другого, крайне суеверного рационалиста того времени; но она в достаточной мере засвидетельствована и самим Платоном.
Быть может, нигде и никогда мы не встречаем такого разнообразия духовной жизни, такого роскошного расцвета всевозможных фирм человеческого творчества, такого богатства и свободного развития человеческой личности, как именно в Афинах V века. Но это развитие было бы неполным и односторонним, если бы те религиозные инстинкты, которые так глубоко коренятся в нашей природе, были бы в нем подавлены. Этого и не было. Среди крайнего рационализма философская мысль, свободная от всякого внешнего авторитета, приходит, в лице Сократа и Платона, к учению, религиозному в самой основе. Среди высшего напряжения человеческого творчества и высшей идеализации человеческой чувственности рождается сознание сверхчеловеческой вечной красоты и правды, слагается убеждение в высшей реальности духовного мира, в возможности и необходимости высшей духовной жизни для человека. И в свете этого нового религиозного сознания прежние боги являются призраками и прежние верования – грубым, недостойным суеверием, которое должно уступить место новому благочестию.
Но если этот идеал открывается духовным очам немногих избранников, отрекшихся от прежних идолов и подвигом философского делания возвысившихся над простым рассудочным отрицанием, древнее благочестие продолжает жить в греческом обществе, несмотря на софистику и просвещение, на высокие идеалы искусства и философии, на сатиру комиков, на вольнодумство интеллигенции. Оно крепко держится старых преданий и, в защиту от нигилизма, призывает на помощь новое суеверие и новый мистицизм. Оно относится враждебно к софистике, к сомнению и отрицанию; и естественным образом в Сократе, в провозвестнике новой духовной истины, оно нашло еще злейшего и опаснейшего врага.
Мы сказали, что неудовлетворенность религиозной мыслью и чувства сказывается в развитии греческого рационализма. Но она сказывается и в развитии греческого мистицизма, который получает значительное распространение одновременно с зарождением греческой философии, и в различных попытках религиозной реформы, связанных с этим мистическим движением. Не удовлетворенный своими богами и культами, верующий нередко ищет чисто внешним способом успокоить или подавить объявшую его тревогу: он строит великолепные чертоги богам, которых прежде чтили под открытым небом; он изображает богов, прежде вовсе не имевших образа, в величественных и прекрасных кумирах; он приносит им больше жертв, чем когда-либо, и чтит их пышными и сложными церемониями. Роскошные храмы нередко являются надгробными памятниками религии. Но, с другой стороны, наоборот, иные пышные гробницы становятся святилищами. Роскошь внешнего культа может свидетельствовать о внутреннем упадке веры; но нельзя отрицать и того, что эта роскошь по-своему питает веру, гипнотизирует верующих. Внешним культом, однако, нельзя удовлетворить ни разума, ни самого религиозного чувства. И с той минуты, как оно перестало удовлетворяться им, оно ищет новых культов и новых богов-искупителей, которые могли бы дать ему уверенность в конечном спасении. В усложнении культа, в заимствовании и усвоении новых богов – вся история древнего политеизма. И до самого конца язычества мы можем указать целый ряд новых культов, постепенно проникавших в Грецию.
Но недостаточно вводить новых богов. Нужно вступить в новое, более интимное общение с ними, приобщиться их жизни и силам, их благодати; нужно познать тайны духовного мира путем нового откровения. И вот с VII в. постепенно усиливается вера в мантику и появляется ряд боговдохновенных сивилл, волхвов и пророков, посредников нового откровения, которые возвещают людям волю богов, производят очистительные обряды, основывают новые культы и таинства, а иногда даже особые религиозные союзы с определенным мистическим богословским учением.



