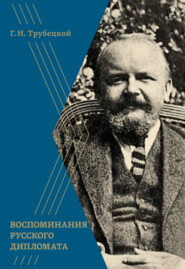скачать книгу бесплатно
Господи Боже мой! Когда я читаю это письмо, по неизреченной милости Божией сохранившееся в копии у меня здесь в беженстве, – слезы умиления и благодарности проступают у меня в душе, и я думаю: Может ли погибнуть страна, где есть такие матери, которые так думают, так чувствуют и так молятся… Пусть все рухнет, что тлен, пусть отгорят все фейерверки человеческой пошлости. Огнем познается всякое дело. Но не умрет и не погаснет то, чем из века в век жила Россия. Молитвы русских матерей и молитвы русских праведников не останутся не услышаны перед Престолом Господа, и да оправдают их дела сыновей. Пусть же и моя молитва, меня грешного и недостойного будет услышана, и не по моим грехам, а по представительству моей матери, сыновья мои так же, как и их дяди будут иметь души всеразумные, к прославлению имени твоего Святого.
Молитва моей матери была услышана. Мои братья были миссионерами в том лучшем смысле, в каком это понимала мама. Они и жизнью и трудами своими проповедовали до конца Добро и Правду, и всегда связывали свое дело с именем мама. Я меньшего прошу для своих детей. Не всем дано быть замечательными людьми и мыслителями, но всем можно и должно быть христианами. Мама всегда говорила мне: «все равно, какую дорогу ты выберешь. Не в этом суть дела. Все пути могут быть почтенны. Но на всяком пути и во всяком положении, будь христианином. К этому стремись, а не к славе и не к успеху, и все прочее приложится тебе». Вот и мой вам завет. С ним идите в путь и с ним готовьтесь вернуться в Россию, и все прочее приложится вам. «Лишь бы гордость не примешалась к желанию распространения истины».
Я также лично получил завет моей матери, который передаю моим детям. Мне было лет 15. Я плохо учился, ленился и огорчал мама. Когда наступила Страстная неделя – обычное время нашего говения, мама имела со мной один из тех разговоров, секретом коих она обладала, когда она глубоко заглядывала в душу и пробирала до основания. После этого она подарила мне Новый Завет, и на первой странице написала место из апостола, которое приходилось на этот день. Вот оно: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю радуйтесь. Крепость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом; И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваша и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Ап. Павел, Филип. IV, 4-8).
Трудно лучше передать то настроение, которое мама всегда стремилась внушить нам. Оно отвечало вере, руководившей ее собственным повелением во всю ее жизнь. И что бы я дал, чтобы мои сыновья следовали этим заветам в своей жизни.
Прав был мой отец, когда напоминал нам в своем посмертном завете, что мы обязаны мама больше, чем жизнью. Во всяком случае, я чувствую, что каждым добрым своим движением, всем своим духовным содержанием обязан ей и наследственно своему отцу. Но мама развивала в нас не только религиозные и нравственные стороны души, но и отзывчивость на все запросы духа.
В ней была редкая чуткость к красоте в самых разных ее проявлениях – в музыке, в природе, в литературе. Первые воспоминания детства связаны у меня с музыкой. Я вижу перед собой детскую в загородном доме, где стоят две кроватки: моей сестры Марины, которая была моложе меня на 4 года и моя. Два больших окна выходят в сад. У другой стены кровать няни. Над ней икона Св. Николая Угодника с очень темным ликом, и перед иконой лампада. Комната во втором этаже. Мы улеглись в свои кроватки. Комната погружена в полумрак, освещаемый лампадой, от которой падают световые пятна сквозь шнуры, окружающие кроватки, на подушку и простыню. Внизу, в зале-столовой мама играет «Лунную сонату» Бетховена, и звуки ее сливаются с этими световыми пятнами на постели от лампады или от луны, порою выплывающей из облаков. Эти звуки грустные и сладостные, полные каких-то волшебных чар. От них замирает сердце, и так уютно, тепло лежать в кроватке и слушать мама, и кажется, что и видишь и слышишь запах ее пальцев от ее любимого мыла Опопонакса[65 - Мыло с добавлением эфирного масла из опопонакса, имеющего сладковато-древесный аромат с насыщенными пряными и бальзамными нюансами. Масло широко использовалось в парфюмерии и стоило довольно дорого. В данном случае, скорее всего, имеется в виду мыло, выпускавшееся фирмой Брокара.] и хочется целовать эти тонкие розовые пальцы. И понемножку, незаметно погружаешься в детский сон, где звуки, грезы и действительность перемешаны между собою, и музыка незаметно переводит из одного мира в другой.
«Лунная соната» Бетховена осталась для меня на всю жизнь связанной с обликом мама, ее мечтательным романтизмом, мягкой женственностью и полетом в заоблачный мир, и ни одна интерпретация этой сонаты никогда не удовлетворяла меня так вполне, как ее: она восходила на суд моих детских воспоминаний, а какая самая прекрасная действительность может выдержать сравнение с этим миром грез светлого детства… – Помню, как однажды я невольно вспоминал игру мама, и это при самых необыкновенных условиях. В начале моей дипломатической карьеры я плыл на русском пароходе из Константинополя в Афины. И вдруг я услышал в кают-компании знакомые звуки «Лунной сонаты». Техника страдала, но интерпретация унесла меня в далекое детство. Я справился, кто играет. Это был русский флотский офицер. Мне сказали, что он потерял жену и с тех пор единственное, что играет и умеет играть – это андантэ «Лунной сонаты», а на всех остановках парохода ходит только на кладбища.
Наша семья была так многочисленна, и было столько девочек разного возраста, учившихся играть на фортепьяно, что весь день раздавалась музыка разного качества, и на меня не хватало времени. К большому моему сожалению, когда я стал взрослым, – меня в детстве не учили музыке, а между тем, как все мои братья и сестры, я жадно воспринимал ее. С разными музыкальными пьесами невольно связывались разные ассоциации воспоминаний, и теперь иногда услышишь какую-нибудь вещь и сразу пахнет какой-нибудь эпохой детства или юности, когда эту вещь разучивали сестры, или играла мама. Старшие сестры с мама или между собой играли часто в четыре руки. Нам с детства были хорошо знакомы все симфонии Бетховена, Шумана, Гайдна, Моцарта, не говоря о сонатах и вещах, написанных для фортепиано. Позднее, мы пережили увлечение Чайковским и русской музыкой.
Так же, как музыку, мама воспринимала красоту природы. Когда она уезжала куда-нибудь в деревню, она могла целые страницы посвящать описанию весны, леса, солнечного заката. Она почти совсем не путешествовала в своей жизни. Впечатления ее сосредоточивались в Московской, Тульской и Калужской губерниях, но от этого они были не менее сильны и захватывающи. Только выдав сестру Лизу замуж, она попала в Крым и в первый раз увидела море. Потом она несколько раз повторяла эти поездки, когда Самарины основались в Ялте, и мы у них останавливались. Здесь мама положительно сходила с ума от восторга. Сестра ее посмеивалась над ней: «семнадцатилетняя Соня» увлечена морем. Мама проводила у моря целые дни. Она не могла насмотреться на него, налюбоваться солнцем, лазурью, разлитой в воздухе, всей красотой юга. Каждый день и час готовил ей сюрпризы переменой освещения, переливами красок. Она, как ребенок, увлекалась собиранием ракушек и камушков, подбирала целые коллекции, и потом вернувшись в Москву, зимой любила поливать их водой и вспоминать связанные с ними переживания. Письма ее были целые поэмы моря и солнца. Она с волнением передавала свои впечатления. Никто из дочерей не мог поспеть за ней в этих увлечениях, но некоторые из них унаследовали ее восприимчивость к природе, например, моя сестра Марина, которую я также часто называл «семнадцатилетней». Вообще, у нас в семье женщины положительно молодеют иногда с годами в отношении восприимчивости к красоте. Да это отчасти и понятно. В молодости столько своей личной жизни, что она не позволяет впечатлениям извне заполнить ее.
Мама? ничего не умела переживать наполовину. Она бывала вся охвачена тем или другим впечатлением, интересом или привязанностью. Поэтому ей удавалось и на детей воздействовать в желательном направлении. У нее были свои коронные вещи в литературе, которые она всегда сама читала детям с тем, чтобы внедрить в них какую-нибудь основную мысль, заставить их пережить известное нравственное состояние. Одной из таких вещей было «Муму» Тургенева. Мама в своей юности видела и знала крепостное право и его отмену. Это было одним из сильных переживаний ее жизни. Она не могла мириться с низведением человека до вещи, которой владеют. Не пошлый либерализм, а глубокое христианское чувство живо было в ее душе. И в детях она хотела глубоко укоренить святое и бережное отношение к душе каждого из малых сих. При ней никто не смел проявлять тщеславия и гордости, потому что чувствовал заранее один взгляд мама, которым был бы пристыжен до корней волос.
Мама не обладала таким исключительным талантом чтения, воспроизводившего интонации живых людей, какой был у ее брата дяди Сережи Лопухина и отчасти у тети Эмилии Капнист. Зато она умела передавать тот пафос, который возникал сам собою в ее душе от столкновения нравственных идей и переживаний. И в меня неизгладимыми чертами врезался образ крепостного раба с такими трогательными человеческими чертами и грубое попрание его личности госпожой, для которой он был только раб и вещь. Забывается фабула рассказа, но не забывается это впечатление, живо пережитое детской душой, с чередованиями сострадания, жалости, симпатии и возмущения. И во всем этом выделялось то центральное впечатление, которое мама хотела внедрить в нас – человеческая душа должна быть свята для нас. Когда мы были постарше – детьми 12-13 лет, мама всегда читала нам «Les Misеrables» Victor Hugo[85 - «Отверженные» Виктора Гюго.]. Роман сам по себе был увлекателен, но при чтении его мама умела совершенно неискусственно, без скучных и ненужных комментарий обратить внимание на то, что хотела, и сосредоточить в этом максимум впечатления.
Способность живо увлекаться и уходить всецело в предмет своего увлечения была сильно развита у мама. Об этом пишет мой брат Евгений, вспоминая, как папа говорил с нежной насмешливостью: «А мама?шинька опять заэкзальтировалась».
Она всех людей любила и говорила, что у нее нет любимцев, и, конечно, сама искренно хотела в это верить, но, конечно, также, у нее всегда были любимцы, и мы все это чувствовали. Главные ее любимцы и притом самые естественные, были в разное время – старший первенец ее мой брат Сережа и младшая дочь Марина. Я буду говорить о каждом из них отдельно в свое время и непрерывно с ними о мама. Здесь же только скажу, что в известные эпохи жизни мама вкладывала как будто всю свою душу в чувство к своему любимцу, и тогда все, что с ним было связано, совершенно оттесняло всю ее личную жизнь. Но спешу оговориться, что хотя остальные дети это видели и понимали, они не могли пожаловаться, чтобы мама забыла о них. Мы ее так любили, все, что исходило от нее, было для нас настолько неоспоримо хорошо, что мы признавали полную законность ее предпочтений и мы хотели только, чтобы и на долю каждого из нас выпадало немножко ее ласки и любви, и мама была такая молитвенница, что я не сомневаюсь, в ее молитвах сглаживался всякий элемент возможной несправедливости и фаворитизма, и она вкладывала свою материнскую душу в молитву о каждом из своих детей.
Как спокойно жилось под кровом этой молитвы! И каким верным компасом она была для нас. Достаточно было ее увидеть, чтобы понять степень своего отклонения от правильного пути. Я помню, как я сильно это испытывал, всякий раз как возвращался домой, зажив самостоятельной жизнью. Все равно, как вступив на паркет, чувствуешь комки грязи, прилипшие к подошве, так, возвращаясь в родительский дом, я от одного прикосновения с ним чувствовал всю приставшую ко мне наносную пошлость.
Я хотел дать общие облики моих родителей раньше, чем приступить к воспоминаниям о нашей семейной жизни и своей личной. Воспоминания эти, конечно, будут все время переплетаться с ними. Я не знаю, как, вообще, удастся мне воссоздать историю нашей жизни без писем под рукой и с такой плохой памятью. Может быть сестра Ольга восполнит этот пробел и напишет семейную хронику по имеющимся у нее документам. Что бы я дал, чтобы прочесть старые письма Мама, увидать ее почерк, который мы так любили, ее «фиолетовые» письма!
Калуга
Мои первые более ясные воспоминания связаны с Калугой. Мне было 4 года, когда мы туда переехали, моей сестре Марине было всего несколько месяцев.
В детстве я не ценил красоты и живописности места, где мы находились. Много, много лет спустя, попав уже немолодым в Калугу, я испытал волнение, знакомое всякому, кто посещает место, где прошло его счастливое детство, и я вновь пережил забытые впечатления, связывавшиеся в детстве с каждым уголком и всеми подробностями, которые показались мне такими знакомыми. Но к этим впечатлениям прибавилось еще новое незнакомое в детстве любование красотой и живописностью Калуги. Весь облик этого старого дворянского города сохранился в 1918 году, когда я там был последний раз, таким же, как и 40 лет перед тем. Та же главная улица Никитская с магазинами и старыми прекрасными дворянскими домами, площадь с рядами, Собор [Троицы Живоначальной], присутственные места екатерининской [по] стройки, живописный овраг видом на Оку с моста, чудный дом Кологривовых, известный по воспроизведениям, потом улица, на которой мы жили, дальше Загородный сад и в конце его летняя губернаторская дача – деревянный двухэтажный дом тоже Екатерининского времени. Там всегда жили мы.
За домом обрыв, внизу коего извилистая Яченка, впадающая в Оку. За нею луг и большой густой бор, а направо Пафнутьевский[86 - [Свято-]Лаврентьев. – Примеч. О. Н. Трубецкой.] монастырь, «Железники» Деляновых. В городе много старых церквей и отдельные хорошие дворянские дома эпохи ампир. Калуга – не промышленный город, в нем остатки старого дворянского быта и управление губернией. На нем лежит печать мирной идиллической провинции, особенно на окраинах, улицах, близ Загородного сада, где как будто вросли в землю низенькие, иногда полуразвалившиеся мещанские домики, с окнами, в которые с улицы вваливаются свиньи, вместе с ребятишками. На перекрестках «тетки», торгующие яблоками. На одной из нижних улиц, сходивших к Оке, был трактир и на нем вывеска, на которой изображены были двое мужиков за столом, один со стаканом, другой с бутылкой, и под этим надпись: «Васи-лей, Евлам-пей».
В центре города стоял городской театр – деревянное здание, украшенное резьбой в лжерусском вкусе. Перед театром был луг, на котором мирно паслось стадо с очень сердитым быком. Нам всегда говорили, чтобы мы остерегались подходить близко к этому стаду, потому что бык этот будто бы однажды поднял какого-то актера на рога.
Во время Турецкой войны в Калуге жило много пленных турок. Это были добродушные солдаты, и к ним отношение было также самое добродушное. Никакой враждебности не чувствовалось ни с одной из сторон. Помню одного замечательного акробата-турка, ходившего по канату, и с высокого шеста бросавшегося в воду в Яченку, сидя по-турецки со скрещенными руками, и так же выплывавшего на поверхность. Помню, как меня подводили к нему ребенком во время представления. Мне он казался каким-то сверхъестественным существом.
Другое воспоминание, связанное с войной, – это торжественная встреча Киевского гренадерского полка, возвращавшегося на свою постоянную квартиру в Калугу. Мы смотрели из окна дома Яковлевых на Никитской. Нас была большая семья – девять человек детей моих родителей. (Старшие полусестра и полубрат жили у своей тети Толстой.) Мой старший брат Сергей был на 11 лет меня старше. За ним следовал брат Евгений, меньше, чем на год его моложе. Потом сестры Тоня, Лиза и Ольга. Это было старшее поколение. Ольга была немножко по середине, но мы ее считали в числе старших. Наш «второй пяток», как называла нас няня, начинался с сестры Вари, которая на три года была моложе Ольги, Лина[87 - Имеется в виду Александра.], я и младшая Марина, которая была на 4 года моложе меня и приехала в Калугу грудным младенцем.
Я помню своих братьев в старших классах гимназии. Когда они кончили ее, они поехали в Москву и первые годы жили там зимой, но потом они убедились, что хождение в университет и слушание лекций только отнимает у них время, между тем как они со всем пылом юности занимались философией не по университетской программе, и они стали живать и зимой в Калуге подолгу. Старшие сестры также зимой ездили в Москву, жили у Капнистов и выезжали в свет. Пока братья были еще в гимназии, и потом, когда все возвращались домой, мы жили дружной жизнью большой семьи, наслаждаясь своим многолюдством. Конечно, каждый пяток имел свой мир и свою особую жизнь.
Проникнем в этот мир, а для этого войдем в двухэтажный (низ каменный, а верх деревянный) дом Кологривова на [Золотаревской][66 - Дом Кологривовых (усадьба купца Золотарева) – памятник русского классицизма, сегодня – одна из главных достопримечательностей Калуги. Построен в начале XIX в. От Золотаревых дом перешел по наследству к купцам Черновым, в конце XIX в. он был куплен нотариусом Александром Ивановичем Кологривовым. До 1919 г. в здании располагалась нотариальная контора, а с 1922 г. и поныне – Калужский областной краеведческий музей (улица Пушкина, д. 14).], куда мы водворились после кратковременного [2-летнего] проживания в доме Сперанских[88 - Квасникова на Воскресенской улице. – Примеч. О. Н. Трубецкой.]. Вход со двора. Тогда нам дом казался большим, потому что в детстве все кажется больше, но теперь, вспоминая, вижу, как он был тесен для большой семьи.
Из передней лестница вела в верхний этаж, где жили родители и были приемные комнаты. У подножия лестницы стояла высокая пальма, доходившая до верха дома. Направо была дверь в нижний этаж, где было наше царство. Маленькая проходная комната, где стоял большой шкап, а за шкапом был наш детский потайной уголок. Сюда мы спасались от преследований, прятались от гувернанток, во время огорчения и во время игр, здесь выжидали события и порою, замирая сердцем, слушали чьи-нибудь шаги, когда нас искали, и здесь же мы устраивали засады для нападений. Словом, этот уголок был полон для нас таинственного значения и играл большую роль в нашей жизни.
Из проходной комнаты мы входили в узкий коридор между стеной и матерчатой перегородкой, которая с двух сторон отгорожала спальню трех старших сестер. В коридорчике между окон стоял старый красивый туалетный стол с трюмо красного дерева ампир, очевидно, вывезенный из Ахтырки. Дальше дверь в комнату, которая была классной и где стояли у окон письменные столики с этажерками старших сестер, а посредине большой стол, обитый клеенкой, за которым происходили уроки. Это была половина старших сестер. Если вы не шли в комнату сестер, а поворачивали вдоль перегородки их спальни, то вы натыкались на дверь. Пройдите в эту дверь и затворите ее за собою, и вы очутитесь уже в нашей половине – второго пятка, где мы царствовали безраздельно. Прежде всего вы попадали в настоящий коридор, по обе стороны которого были слева сундуки, а справа шкапы. Дверь направо вела в комнату гувернантки, другая дверь налево в девичью. Из девичьей дверь вела в сенцы и черную людскую кухню. В сенцах было холодно, но когда отворялась дверь из людской кухни, то оттуда всегда несло теплом и приятным запахом черного хлеба и щей. Как мы любили бегать в людскую кухню и доставать там горбушку горячего черного хлеба, который пекли дома. Особенно любили мы соленый черный хлеб. В маленькой девичьей жила горничная, услуживавшая старшим сестрам. Это была та самая Анна Васильевна, которая потом, как обломок минувшего, оставалась при тете Ольге в Москве.
Из коридора снова дверь в другую часть коридора. Налево была комната няни Федосьи Степановны с образами и лампадой в углу. Здесь, когда мы были совсем маленькие, жил я с сестрой Мариной. Небольшой темный коридорчик вдоль няниной комнаты замыкался снова дверью, которая вела в угловую комнату, служившею классной для нас – младшего пятка. Наконец, из классной направо была дверь в спальную, примыкавшую к комнате гувернантки, с которой не было прямого сообщения. Это было очень важно для нас, ибо когда мы шалили и шумели, гувернантка могла только стучать в стену и не могла внезапно нагрянуть к нам. Ей предстояло совершить все описанное мною путешествие через коридор, разделенный дверями, и в эти экстренные случаи мы могли успеть спрятать все концы в воду. В спальне были кровати Вари, Лины и там же спал и я, когда вырос из младенцев, но не дорос до гимназического возраста.
К нашей детской классной примыкал еще чулан, где спала наша детская горничная «Надя расторопная», как ее звали. Из ее чулана шла лестница на чердак.
Покажется странным, почему я вдаюсь в такие подробности, но каждая из них была полна значения для нас, вокруг них вертелась вся наша детская жизнь. Недаром я, при всей своей ужасной памяти, вижу перед собой все до мелочи, каждое окно и дверь. Многочисленные двери и переходы в наше царство играли огромную роль, они совершенно обособляли наш детский мир и создавали огромное расстояние между детской и верхним этажом, немножко чужим и страшным, особенно когда мы боялись грозы за наши шалости.
Я, однако, говорил, что гувернантки боялись мама не меньше нас, и потому не всегда решались идти к ней жаловаться на нас, а мы этим, конечно, пользовались. Помню одну очень глупую швейцарку m-lle Portal?s. Она была очень жадная, и мы хорошо знали ее недостаток. Когда она считала, что ее средства педагогического воздействия были исчерпаны, она направлялась решительными шагами наверх жаловаться мама. Но нужно было пройти длинный путь коридорами. Я бежал за ней и кричал: Mselle, Mselle, voulez vous des pommes?[89 - Мадмуазель, мадмуазель, не хотите ли яблок? (франц.).] и протягивал ей маленькие очень сладкие яблочки, которые покупал на углу по пятачку десяток. M-lle Portal?s продолжала молча и непреклонно идти быстрым шагом, но в проходной комнатке перед передней она внезапно останавливалась, вперяла в меня убийственный взгляд и говорила: «Mon petit, vous voulez m’acheter?![90 - Мой маленький, ты хочешь меня купить?! (франц.).]» Когда она это говорила, я уже знал, что мое дело выиграно, и совал ей энергично мои яблоки. M-lle Portal?s торжественно принимала их и с достоинством возвращалась в свою комнату, а я бежал к себе, не обращая больше на нее никакого внимания.
Но вооружимся бо?льшим мужеством, чем м-ль Порталэс, и проникнем по лестнице во второй этаж.
Лестница кончалась небольшой площадкой – передней, где висели шубы. Тут же, когда мне было лет 10, соорудили некоторые приспособления для гимнастики, которой меня обучал унтер-офицер по утрам. В передней была кафельная печь. Из передней – дверь в залу-столовую. Мы любили по утрам, когда пили молоко, выбегать на лестницы, вынимать один из медных прутьев, которыми держался ковер на ступеньках лестницы, и воткнув на него кусок хлеба, поджаривать в печке в передней.
Другая дверь из верхней передней вела в узкий продолговатый кабинет папа?, всегда сильно накуренный. Стены были увешаны портретами предков и многочисленными фотографиями. Из портретов особенно памятен портрет графа Брюса напудренный и подрумяненный, герцогиня [Морни], рожденная княжна Трубецкая, портрет Бетховена, принадлежавшие раньше Глинке, а потом как-то перешедший моему отцу, помнится с трогательной надписью какого-то Булгакова, подарившего его папа, большие портреты масляными красками родителей моего отца и его деда фельдмаршала Витгенштейна. Мебель была самого старинного и оригинального покроя, обтянутая зеленым сафьяном, кресла были неказисты, но необыкновенно удобны.
Из столовой, где стоял большой стол и большое фортепьяно, был вход в гостиную. В столовой мы бывали несколько раз в день для принятия пищи, а в гостиную не ходили без надобности и проникали не без опаски. Особенно неприятно бывало, когда нас наказывали и ставили там в угол, на более или менее долгое время, в зависимости от проступка. Всегда страшно было, что войдет кто-нибудь чужой до того, что мама отпустит, – и увидит позорное наказание. Когда мы уехали из Калуги, хозяева долго сохраняли на стене надписи карандашом, которые мы дедали от нечего делать, на память о своем наказании. В гостиной в простенках стояли зеркала и перед ними бронзовые часы в стеклянных колпаках. На стенах висели хорошие картины. Все это убранство казалось мне холодным и чужим.
Рядом с гостиной была спальня мама с такими знакомыми принадлежностями: серебряным туалетным и умывальным сервизом, секретер, за которым она писала свои фиолетовые письма. Там же стояла маленькая школьная парта, за которой я по утрам брал у нее уроки, когда мне было 7-8 лет. К спальне мама примыкала комната, где жила ее горничная Анна Сергеевна и еще более старая экономка Елизавета Петровна, впоследствии переселившаяся во флигель на том же дворе, где жили старшие братья, а внизу была господская кухня и людские комнаты. В верхнем этаже была еще одна довольно просторная[91 - Небольшая. – Примеч. О. Н. Турбецкой.] комната, где спал папа,[92 - Более просторная в 2 окна, где жили братья. – Примеч. О. Н. Турбецкой.] и в самом конце буфет с лестницей на двор, через который проносили блюда. Были еще конюшни, каретный сарай, кучерская, где жили кучера, сначала Никита, потом Егор, который долгие годы продолжал служить нам в Москве, а потом был у сестры Ольги. При доме, за внутренним двором был небольшой и довольно запущенный сад. Им мало пользовались, потому что на лето переезжали в загородный дом.
Жизнь протекала зимой необыкновенно правильным размеренным порядком, один день, как другой. Кроме домашних игр в будни не было никаких развлечений. Десять лет нам полагалось первое жалование 50 копеек в месяц, кроме того на именины и рожденья мы получали от папа? и мама? по рублю, и столько же на Пасху в яичке. Но и знали же мы цену денег! Пятачок были деньги. На них можно было купить порою десяток яблок, или палочку шоколада или нуги. Бакалейная лавочка Большакова рядом с нашим домом была главным нашим поставщиком. На пятачок можно было купить разноцветной почтовой бумаги, которую мы считали верхом роскоши, и ходили покупать ее и декалькомани[93 - Переводные картинки для сухого переноса на бумагу, картон, керамику при помощи высокой температуры или давления.] в магазин Савинова или Кудрявцева в рядок. Я вижу перед собой Савинова с черной бородкой и седовласого Кудрявцева. Раньше всех из нашего пятка начала получать жалование Варя, и она выдавала Линочке и мне по 5 копеек в месяц. Мы вообще считали ее капиталисткой и прибегали к ней в трудные минуты жизни. Она обладала талантом вспоминать какие-то давние наши долги и помогала нам их взыскивать, иногда 15-20 копеек по частям – целое состояние! Однажды мы с Линочкой решили на ее именины поднести ей кулебяку и потребовать за это с нее на чай. Дали людской кухарке 15 копеек. На эти деньги она нам изготовила маленькую кулебяку. Мы ее поднесли, но наша комбинация не прошла, Варя вознегодовала, что мы требуем с нее на чай за подарок и отказалась его дать и вернуть нам кулебяку, которую мы хотели, по крайней мере, за то разыграть. Самая безденежная была всегда Линочка. Однажды я предложил ей за пятачок проткнуть себе ухо иголкой с ниткой. Она это сделала, и бегала за мной с ухом, из которого висела нитка, а я отказывался ей платить, ибо никогда не рискнул бы такой суммой, если бы поверил серьезно, что она проткнет себе ухо. Когда мы уехали из Калуги, Линочка так и осталась должна Большакову 3 копейки за какой-то товар, отпущенный ей в кредит. Она не знала потом, как вернуть этот долг.
В раннем детстве я был тихий мальчик, с большой головой, за которую меня прозвали: головастик. Старшие сестры таскали меня на куркушках[94 - На закорках.], тискали, мяли, приговаривая: «головашеку». Сообразительностью я не отличался. Мой первый детский роман относится еще к Ахтырке. У наших соседей Карповичей была девочка Варя, немножко меня моложе. Однажды мне очень понравился суп, который нам давали за обедом. Я решил отнести его своей приятельнице, чтобы ее угостить, и налил суп себе в карман. Я был неповоротлив и слушался беспрекословно сестры Линочки, живой и стремительной девочки, которая была старше меня на 1
/
года. Однажды во время прогулки мы проходили мимо лужи. Линочка только повелительно сказала мне: «Гриша» – и я немедленно бросился в лужу. Когда меня стали бранить, я сказал: «Рина мне прикажара, я и попрыр» – я говорил «р» вместо «л»[95 - И «ж» вместо «з». – Примеч. О. Н. Трубецкой.] в детстве. Во время Турецкой войны она написала письмо Черняеву[67 - Герой походов в Среднюю Азию генерал М. Г. Черняев, издававший в Санкт-Петербурге журнал «Русский мир», в 1876 г. недолго занимал пост главнокомандующего сербской армией, поднявшейся против Османской империи. Хотя под давлением русской дипломатии Черняев и был вынужден вскоре покинуть Сербию, его имя было чрезвычайно популярно в России, где он стал символом славянского единства и братства.], которое даже каким-то путем попало в газеты. Она любила загадывать слова, говоря первый слог. Раз она дала такую загадку Николаю Рубинштейну: «фор». Тот ничего не понимал. «Ну, на чем ты играешь – топиана». Рубинштейн много смеялся.
Самая рассудительная и спокойная из нас была Варя, и самая практичнейшая. У нее было много способностей и талантов, которыми мы не обладали. Она рисовала, любила сложную механику. Помню, как из старой коробки конфет она сооружала винтовой пароход. Она пользовалась среди нас некоторым авторитетом, особенно в раннем моем детстве, когда меня легко было затуркать. Я всего боялся, и больше всего мама. За столом я сидел около нее совершенно окаменевший, не отвечая ни на один вопрос и в полной неподвижности. Однажды, чтобы вывести меня из оцепенения, мама положила мне на голову маленькую тарелку, на нее ложку. Все на меня обратились, смотрели, смеялись, я страдал, но еще больше окаменел, не роняя ни звука.
Таким я был лет до шести, и потом няня и сестры рассказывали, что в один прекрасный день со мной совершилась внезапная перемена: меня повели к парикмахеру стричься, и я вернулся от него преображенный – стал буйным шалуном. Няня прозвала меня «круговой отец». Впрочем у нее для всех детей были свои прозвища. Варю она звала «круговая мать», Линочку «самодерга», «зубной нерв». У нас между собой были также свои прозвища, смысл которых был непонятен, и казался нам подходящим по звуку. Ольгу звали «Мапсентий», Лизу «Зватенькина», маленькую Марину, смуглую с золотистыми кудрями – «Жыд».
В эту пору детства, когда я развернулся, меня перевели спать в комнату Вари и Лины. По вечерам я облекался в рыжий халат, и перед тем, чтобы ложиться спать, выходил торжественно шлепая в туфлях на середину комнаты и говорил: «Простите меня, отцы и братия, я вас всех прощаю», потом бросался в свою постель, и тут часто начиналась веселая баталия. Мы перекидывались подушками, гувернантка стучала в стену, няня нас унимала, а иногда взывала даже к помощи мадемуазель, однако больше чтобы нас напугать, а не для того, чтобы она пришла: «Матмазель, матмазель, уберите[96 - Позовите к себе. – Примеч. О. Н. Трубецкой.] приблизительно Линочку». Если матмазель, потеряв терпение, появлялась, мы, заслышав ее шаги, завертывались в одеяла, на все ее ворчания отвечали храпом, а сами тряслись от смеха. Мы знали, что ночью наказывать не будут, а утро вечера мудренее.
Ближе всех к нашему пятку была разумеется няня. Ее достаточно описал мой брат Евгений. Как младший мальчик в семье, я был ее любимцем, и трудно сказать, какое большое место она занимала в жизни нас, детей, до самой своей кончины, когда я был уже студентом 1-го курса.
Мы любили няню и мы знали, что она нас любит не так, как другие старшие, то есть безо всякой педагогии. Мы в ней видели нашего естественного союзника и защитника, прежде всего против гувернанток. Мы могли все поставить верх дном, няня на нас кричала, но мы ее нисколько не боялись, и она была всегда на нашей стороне против всех строгостей гувернанток. Уже к самому существованию гувернанток она относилась с предубеждением, потому что от нее, из ее опеки брали ее птенцов, притом гувернантки были все-таки не настоящие люди – нехристи. Они могли научить французскому языку и манерам – и только, но няня была убеждена, что они не могут «понять» ребенка, и поэтому она считала своим долгом противодействовать им, чтобы они не забирали слишком много форсу.
Как сейчас вижу перед собой доброе лицо нашей няни Федосьи Степановны со всеми морщинками, седыми волосами из-под чепца и очками, золотая оправа коих внушала нам большое уважение. После родителей это был самый близкий нам человек. Ее облик сопутствует всем воспоминаниям первой пробуждающейся жизни, младенчества, отрочества и юности. Может быть от няни я воспринял первый трепет перед мама, как перед высшим существом. С няней связаны первые молитвы перед темным ликом, освещенным лампадой. Няня внушала нам необыкновенно высокое представление о нашей семье: была наша семья – и все остальные. Это нас обязывало. Показывая кому-то мою младшую сестру Марину, она говорила: «Ведь вот из самого последнего можно сказать материала сделана, а какая девочка». В связи с превозношением нашей семьи у нее было особенно высокое понятие о себе самой, которое мы также разделяли. Няня Трубецких – это было в ее глазах какое-то звание, создававшее права. Она признавала равноправными только еще двух нянь – Оболенских и Щербатовых, и мы с особым уважением относились к этим старушкам, потому что наша няня признавала их ровнями. Она иногда шутя говорила, как она явится на тот свет, и как Василий Великий скажет: «Кто эта почтенная дама…» А ему ответят: «Это потомственная няня Трубецких». Тогда Василий Великий скажет: «Проведите эту даму в первый ряд». У няни были свои изречения, – многие из них привел мой брат, давний ее облик. Эти изречения, смешные по форме, показывают ее мудрость и сметку, например ее завет мне, ее любимцу:
«До 19 лет молодой человек должен любить только одну истину».
«Будь по рождению князь, а по заслугам граф».
«Держи себя почище» – это был самый последний любовный ее завет мне, только что кончившему гимназию, когда она в больнице умирала от рака.
Самое любимое наше время, когда мы стали постарше, было приходить к няне пить чай в 3 часа. Это любили и наши друзья, но не все этого удостаивались. Бывало, когда мы уже переехали в Москву, и я был в старших классах гимназии, я прямо от учения шел к ней. «Ну что, Гришенька, как ты учился, кого видел…» – спрашивала няня. «Я встретил по дороге генерала, и дал ему в рррррр…ыло!» Няня закрывала уши и в отчаянии вопила: «Замолчи, у меня сейчас зубы заболят». Это повторялось каждый день.
Раз в год, 29 мая, день ее рождения и именин, няня устраивала грандиозный чай с угощением. Чего тут только не было. Мы всегда ждали этого чая. Няня затеяла одно время писать свое жизнеописание. Она озаглавила его: «Колесо моего счастья» и диктовала лакею Константину с рыжими усами. Ее воспоминания начинались с дома Обольяниновых, где она была еще в качестве крепостной девочки. Константин любил приукрасить рассказ. Например, когда она описывала смотрины перед своей свадьбой, она продиктовала, что было человек 15 гостей. «Напишем 30, так красивее», говорил Константин, и няня соглашалась. Кажется, он и присоветовал няне дать такое заглавие своим воспоминаниям.
Я бы мог много и долго говорить о няне, но самые меткие штрихи приведены моим братом, и я бы только испортил сделанный им портрет. Мне только хотелось высказать свое личное чувство любви и благодарности ее памяти, неразрывно связанные с картиной детства. Когда ее не стало, что-то оторвалось, какая-то последняя нить, связывавшая молодость с младенчеством, и осталось большое пустое место. Не стало существа с беззаветной и ничего не требующей любовью и нежностью смотревшего на нас, не стало Няни, для которой мы и до старости оставались бы детьми, если б она жила. А только с годами понимаешь, как грустно становится, когда редеет круг старшего поколения и нет больше тех, к кому можно прийти сдать с души и получить ласку и поддержку.
Первым товарищем моего раннего детства была моя сестра Марина. Мы с ней последние оставались на всецелом попечении няни, и спали в ее комнате. Передо мной ее портрет, когда ей было года 4, в платьице, подаренном тетей Линой Самариной, с пелеринкой, мелкими квадратиками коричневого цвета, с ее золотистыми кудрями и большими кроткими глазами. Больше всех ее напоминает маленькая Диди Осоргина, ее внучка, и лицом, и обликом, но такой очаровательной девочки, какой была Марина, я никогда не видал, и не может быть. Ее прелесть с младенческого возраста была та же, какая осталась во всю ее жизнь: она была вся кроткая, мягкая и любящая женственность, ангел Божий, слетевший с неба.
Я был мальчишкой на 4 года ее старше, и уже я над ней куражился и командовал ею. А она кротко, безропотно и слепо мне повиновалась. Получив однажды на именины деньги, я купил синего коленкора, золотые пуговицы, все это, как сейчас помню, на значительные деньги – 70 копеек, и дома девушки сшили для Марины военный мундир. Ружье и каска у меня были, так что у нее было полное обмундирование. В таком виде я командовал ею, заставлял маршировать и выделывать различные ружейные приемы, которые мы видели на учении солдат. У Марины долго хранилось свидетельство, выданное ей мною, как рядовому Тишкину. Я замышлял сшить Марине фрак, но это мне не позволили, и даже мундир ее, к моему негодованию, подарили маленькому Дмитрию Капнисту, приезжавшему вместе со своими родителями и братом Алешей погостить к нам. Кротость Марины была безмерна. Однажды во время игры колечко ее кудрей запуталось у меня вокруг пуговицы. Я дернулся и вырвал у нее клок волос. Мама на меня накричала, а Марина только сказала: «Мама, ведь это мои волосы», как будто значит ничего не случилось. По вечерам мы играли и бегали с ней вокруг стола в столовой. Помню, как раз я треснулся на полу, упав прямо на подбородок, причем, имея большую голову, я всегда держал руки назад, за спиной, для равновесия. У меня даже отлетел кусочек подбородка, вышло много крови, но я не пикнул, потому что рядом в гостиной сидела мама.
У нас была какая-то бессмысленная игра, которая составилась, наверно, из отдельных услышанных слов, которые мы связали. Один из нас становился в самом краю столовой. Другой подходил на некоторое определенное к нему расстояние, и начинался такой диалог: «Тишкин!» – «Кто там?» – «Я здесь». – «Зачем?» – «Я пришол ниточку из вас випорол, штанишки себе зашить» – это мы говорили почему-то подражая какому-то воображаемому немцу. После этого тот, кто подходил, начинал удирать, а Тишкин его преследовать до его дома на другом конце комнаты.
Но самые любимые наши игры были общесемейные, особенно в коршуны. Один из старших братьев был коршун, другой матка, за которой цеплялись все остальные – цыплята. Коршун бросался из стороны в сторону, чтобы урвать цыпленка, которого защищала матка. Визга, беготни и волнения было много. Другая наша игра происходила за столом, во время завтрака или обеда, когда удавалось получить разрешение мама. Это была игра в железную дорогу. Подражали всем звукам до отхода поезда. Звонки по стаканам, свистки обер-кондуктора, паровоза, и поезд приходил в движение сначала тихо, выпуская пары, потом все скорее и скорее, и с большим шумом. Весь стол дрожал, а мы все работали и руками и ногами, а брат Женя подражал и свисткам, и пару, и лязгу колес. В это мы играли долго, когда братья уже были взрослые.
Когда после зимнего пребывания в Москве братья и сестры возвращались на лето домой, мы любили по воскресеньям утром всей семьей идти к обедне, а потом мы шли в ряды, где у знакомых теток покупали яблоки, груши, крыжовник и всей семьей (одни дети) возвращались гуськом, шествуя посреди мостовой. Я снимал шляпу перед всеми свиньями и гораздо менее учтив был с знакомыми, попадавшимися навстречу.
Самой приятное порой жизни было, конечно, лето, когда было меньше уроков, больше свободы и простора, и вся семья бывала в сборе. Переезд бывал обыкновенно в мае месяце, когда теплело. Это было всегда событие, приятное и радостное. С раннего утра появлялись арестанты, которые нанимались, чтобы перенести все вещи. От дома Кологривовых до загородного дома было недалеко, и обыкновенно большая часть вещей переносилась на руках, а часть перевозилась на лошадях. Арестанты были самые мирные добродушные люди, к ним не чувствовалось ни малейшего недоверия, и они сами, видимо, охотно исполняли эту не тяжелую работу, вносившую разнообразие в их существование и дававшее им заработок. От самого раннего моего детства в Калуге у меня осталось смутное и тяжелое воспоминание о позорной колеснице, на которой возили по городу преступников с названием их вины, которое вешали им на грудь. Это зрелище, внушавшее нам ужас, по счастью было отменено. Это позорище так не отвечало жалости и доброте, с которой у нас всегда в России относились к осужденным, на которых смотрели, как на несчастных. Весь день перетаскивали и переставляли вещи, и в этот день не имели времени особенно присматривать за нами, что тоже было приятно. Как всегда было интересно переезжать на новое место, и в нем находить все, что было забыто с прошлого года.
От дома Кологривовых надо было пройти небольшую улицу, потом тянулся довольно большой или казавшийся таким публичным Загородный сад, открытый публике, и в котором устраивались гуляния. К этому общественному саду примыкал отделенный от него низким деревянным забором наш приватный сад, в котором расположена была казенная дача – Загородный дом, в котором мы жили. Из общественного сада, конечно, можно было наблюдать за тем, что у нас происходит, но это нам как-то не мешало. В будни публики почти не было, и вообще все было патриархально, и об этом просто не думали.
Загородный дом еще как-то ближе и роднее сердцу, чем дом Кологривовых, может быть потому, что лето вообще считалось временем отдыха и удовольствия, а суровая зима и переезд на зимнюю квартиру заставлял подтягиваться и напоминал об обязанностях.
Это была очень старая, покосившаяся и типичная деревянная дача. В ней жил когда-то губернатор Смирнов со своей известной женой, рожденной Росетти, воспетой Пушкиным. Во флигеле дачи гостил у них Гоголь и даже по преданию писал там «Мертвые души». В этом флигеле жили старшие братья. Въезд в дачу шел мимо этого флигеля, сзади которого была прачечная и службы. Между флигелем и главным домом был огромный разросшийся куст сирени, занимавший целую лужайку. Несколько ступенек на подъезде, и вы выходили в круглый стеклянный тамбур, где была передняя. Из нее вход в залу – столовую. Направо из передней первая дверь направо была в просторную комнату – спальню моего отца, вторая дверь, также направо, вела в гостиную, служившую одновременно кабинетом. Посредине стеклянная дверь открывалась на террасу и часть сада, скрытую от глаз публики. Тут была площадка для тенниса, а в левой более отдаленной части сада – огород. Из гостиной прямо была дверь в спальную мама, где за серой перегородкой помещалась ее постель и умывальник, а у окон были наши детские парты и тут же была кушетка и кресла и письменный стол мама. К комнате ее примыкала небольшая комнатка ее горничной Анны Сергеевны и Елизаветы Петровны. Из столовой были еще две двери – одна на крытый стеклянный балкон на столбах с двумя боковыми лестницами в сад, обращенный в сторону общественного сада, другая дверь была в довольно темную комнату старших сестер с окнами на крытый балкон, почему и было темновато. Затем, две комнаты рядом: первая – гувернантки, вторая – экономки Александры Ивановны – обе комнаты проходные. Из второй комнаты дверь в стеклянный фонарь, куда выходила такая дверь с другой стороны дома из комнаты Анны Сергеевны. Из фонаря – лестница вниз и лестница наверх в нашу детскую половину. Это было такое же наше отдельное верхнее царство, как в зимнем доме было нижнее.
Верхний этаж – мезонин состоял из четырех комнат. Направо жила Надя расторопная, прямо две детские: первая с окнами на большой Загородный сад, где спали няня и я с Мариной, рядом комната Вари и Лины с окнами на другую сторону сада и в отдалении на бор и рядом еще комната гувернантки с дверью, выходившей на лестницу. Из комнаты Вари и Лины небольшой верхний балкон. Наконец, из нашей комнаты дверь на верхнюю лесенку и чердак. Дом был такой старый, что однажды сестра Тоня, спасаясь от погони Жени, взлетела на этот чердак и там провалилась прямо над комнатой мама, которая внезапно увидела над собой провалившиеся сквозь потолок две ноги Тони, которая отчаянно барахталась и не знала как выкарабкаться из своего неприятного положения. В нашей детской был такой покатый пол, что я обыкновенно приставлял к стене деревянную лошадку на колесиках и окатывался на ней к окнам. Как мы любили эту комнатку и сколько было с ней воспоминаний и впечатлений! Я уже говорил про музыку по вечерам, которую мы слушали из своих кроваток. Сама кроватка казалась порою целым миром. Она была с высокой решеткой и шнуровыми стенками. Как мы любили накрыть верх одеялом, так, чтобы казалось, что это домик под крышей, и нам представлялось, что мы укрыты от всего мира. Когда няня выйдет или отвернется, мы босыми ногами перебегали от одной кроватки в другую, в гости друг к другу и сидели, или лежали, не шевельнувшись, чтобы нас не обнаружили.
По воскресеньям в большом саду часто бывали гулянья. Сад был иллюминован разноцветными фонарями. Днем на средней площадке разыгрывалась лотерея-аллегри. Мы всегда мечтали выиграть корову или самовар и любили брать тоненькие билетики, свернутые в трубочку с крошечным колечком, которое нам очень нравилось. Раз я выиграл сахарную голову и был очень доволен.
В саду гремела полковая музыка, а вечером, когда нас уже укладывали спать, зажигался фейерверк на этой же средней площадке, от которой прямая аллея была прямо перед нашими окнами. Мы, конечно, не спали, и, затаив дыхание, старались не пропустить начало.
Тут уже, невзирая ни на какие запрещения, мы босыми ногами в одних рубашонках бежали к окнам смотреть на фейерверк. Римские свечи, ракеты, солнца, водопад все это приводило нас в восторг. О фейерверке заранее оповещалось в больших афишах и всегда обещались новые сюрпризы, которые выдумывал пиротехник Перов, мною уже упомянутый в связи с Жениным сном. Нам, детям, он казался волшебником, и мы верили в его неисчерпаемую изобретательность. Когда начинали разрываться бураки, шел треск и оркестр начинал играть марш «Бок[к]ач[ч]о», мы знали, что наступает конец, и спешили бегом в свои кроватки, чтобы нас не застигла Няня, которая нарочно, вероятно, уходила куда-нибудь, чтобы мы могли без нее насладиться недозволенным удовольствием. Когда мы стали постарше, нам позволяли дождаться фейерверка, а иногда и водили на площадку, где он пускался.
Наш сад рядом с домом был полон всяких закоулков, которые имели большое значение. Против стеклянного фонаря так же, как и против тамбура, был огромный куст сирени, или, вернее сказать, целый круг кустов с пустотой посредине. Этим воспользовалась сестра Ольга, которая создала себе там укромную беседку. Она вырыла яму, устроила земляное сидение, обложила это все досками, на сидение и спинку приделала подушки. Вышло очень уютно. Это был ее кабинет, где она проводила весь день. Туда не доходили ни солнце, ни дождь, и снаружи нельзя было заметить укромный уголок. Все завидовали ее изобретательности, и когда Ольги не было, любили пользоваться ее ямой. Можно было, конечно, такую же яму соорудить против подъезда, но ни у кого не хватало терпения и настойчивости, чтобы все так хорошо устроить.
Я уже говорил, что Загородный дом, как показывает самое его название, находился на краю города. Наш сад отделялся плетнем от лужайки над обрывом, откуда открывался чудесный вид на извилистую Яченку, впадавшую в Оку, за ней луг и старый сосновый бор, который был местом наших постоянных прогулок. Мы там собирали грибы, особенно маслята, произраставшие в огромном количестве. В сентябре мы ходили с большими корзинами по орехи. Мы очень любили пикники в лесную сторожку. Раз в лето мы отправлялись на богомолье в Тихонову пустынь в 17 верстах от Калуги. Подавалась большая линейка, в которой умещались мы все дети, родители ехали в коляске. Волнений и суматохи перед отъездом для нас детей было много и начинались они еще накануне в ожидании того, какая будет погода. Я по многу раз бегал на конюшню, которая была в отдельном дворе, подле усадьбы, смотреть, как закладывают и когда подадут экипажи.
Ехали по песчаному большаку, дорога шла все время бором. Пока могли, мы шли пешком. В Тихонову пустынь попадали обыкновенно к вечерне. Тотчас для нас ловили рыбу в пруду и готовили уху. Старшие купались в колодце, освященном Св. Тихоном, там была очень холодная вода. В общем, у меня осталось поэтическое впечатление от монастыря, службы, пруда с карасями и длинного пути. Мы возвращались домой в темноту, весело, шумно с песнями, но нас одолевала приятная усталость, и никогда мы не спали таким богатырским сном, как после таких поездок.
Наши друзья
У нашего младшего пятка были свои друзья. Главнее из них были Сытины. Семья Сытиных жила в небольшом домике, как раз против Загородного дома. Владимир Аполлонович с рыжими седеющими баками был губернский нотариус, жена его Ольга Ивановна была из многочисленной старой калужской семьи Кологривовых. У них было много детей. Старшие сыновья Коля и Володя были гимназисты, по «несправедливости учителей» туго продвигавшиеся в науках, но Коля имел для нас большой авторитет. Мы его считали изобретателем. Володя не имел никаких талантов. Из него вышел типичный провинциальный интеллигент третьеэлементщик[68 - Третьеэлементщик, то есть представитель «третьего элемента», так в России называли разночинную интеллигенцию, служившую по найму в земских учреждениях, в отличии от первого (правительственные и административные чиновники) и второго (земского выборного) элементов. Большинство представителей третьего элемента было настроено либерально или даже антиправительственно.]; впоследствии я встретился с ним в Москве, когда он был студент с большой бородой, он говорил об «узком горизонте наших правителей». Третья Анюта, немножко косившая, была большим другом Вари и Лины, она училась в местной женской гимназии. Четвертый мальчик Аполя был мой сверстник с короткой ногой, он ходил на костылях. Были еще два маленьких Шура и Леня, и кажется еще совсем маленькая девочка. Одно время Владимир Аполлонович предложил мне давать начальные уроки латинского языка. Я приходил к Сытиным и брал уроки совместно с Анютой и Аполей. Семья была многочисленная, средства весьма скромные За маленькими не всегда было кому присмотреть, и я помню, как младший Леня в огромных штанах, в которых путался, ходил по комнате, привязанный веревкой ко столу, чтобы далеко не мог уйти.
Уроки эти были сплошной шалостью. Я пользовался тем, что дома меня никто не контролировал, никогда ничего не готовил, а во время уроков мы обменивались гримасами и корчили всякие рожи за спиной почтенного Владимира Аполлоновича. У Сытиных была гувернантка, так же швейцарка, как и наша. Поэтому мы часто гуляли вместе. Самым большим нашим зимним развлечением была большая ледяная гора, которая ставилась в Загородном саду. Раскат был во всю длину сада. У каждого из нас были свои излюбленные салазки. Это было очень веселое и здоровое развлечение, которому мы с упоением предавались, особенно на Рождество.
Рождество была, вообще, заветная пора елок и детских балов; месяца за два мы считали до него дни и готовились к елке, клеили цепи, картонами и всякие украшения. Нам давали на устройство елки 10 рублей, потом увеличили кредит до 25 рублей, и чего только не накупали мы на эти деньги, и как мы веселились. Мне казалось, что никогда последующие поколения, избалованные подарками и удовольствиями, не умели так ценить, как мы, все, что выходило за рамки строго размеренной будничной жизни. И в нашем веселии принимали от души участие старшие, что усугубляло его. Все поколения Сытиных, Кологривовых, Унковских были тесно сплочены между собою и умели вместе радоваться и веселиться. Рядом с Сытиными жили их родственники Яков Семенович и Софья Ивановна Унковские, бездетные старики, которые также устраивали елку для многочисленных племянников и их друзей. Обыкновенно за фортепиано садился маленький горбун Дмитрий Семенович Унковский и играл вальсы и польки, подпрыгивая на стуле. Со стариками Унковскими жила мать Софьи Ивановны Анна Петровна Кологривова, родоначальница всего многочисленного потомства Кологривовых и Сытиных. Один из сыновей Анны Петровны Александр Иванович купил чудный старинный дом, известный под его именем в иллюстрациях. Уже после большевистского переворота, я, проезжая через Калугу от Осоргиных, пошел к Кологривовым. Дверь отворила мне хозяйка Екатерина Ивановна, которая в последний раз видела меня свыше 30 лет перед тем, когда мы уезжали из Калуги, и мне было 13 лет. Она тотчас узнала меня.
Летом Сытины уезжали к себе на дачу на берегу Оки. Для нас было особое наслаждение ездить к ним в гости с ночевкой на один или два дня. Для нас это была деревня. У Аполи был ослик и тележка, в которой мы катались. Кроме того, Ока и купанье в ней доставляли много удовольствия. Дача Сытиных была совсем почти против Калуги, немножко дальше в бору было небольшое имение Унковских Анненково, более похожее на деревню. Когда мы приехали в Калугу, мы застали еще старика Семена Ивановича[97 - Автор ошибается: Семена Яковлевича Унковского (1788-1882).] Унковского, умершего в около 100-летнем возрасте. Его очень любила и уважала моя мать. С ним жили незамужние дочери. Помню одну из них Авдотью Семеновну, которая делала абажуры с букетами засушенных цветов между бумагой, что казалось нам верхом искусства и красоты. Они всегда баловали нас, когда мы появлялись.
Были у нас и другие приятели: Станкевичи, Труневы, Шевичи и Шиллинги. Изо всех этих детских дружб самой прочной оказалась дружба с Морисом Шиллингом. Когда мы с ним познакомились, отец его барон Фабиан Густавович Шиллинг был уже вдовец (его жена была рожденная графиня Нирод). Он был назначен воинским начальником в Калугу. У него было двое детей: Морис и Рита, и при них состояла гувернантка m-lle Bienaimе. Мы считали их благонравными немчиками. От первого посещения его мне запомнилось, как он [Морис] с пафосом рассказывал про какой-то подарок: un poulet tout plein de friandises diffеrentes[98 - Цыпленок, полный разных лакомств (франц.).]. Его отца прозвали барон Имшто, потому что, затрудняясь говорить по-русски, он прибавлял к каждому слову: имшто я нахожу, имшто и т. д. По-французски он был не более красноречив и говорил que c’est que ?a[99 - Вот так и так (франц.).], и повторял это иногда без конца. По существу, это был один из типичных представителей рыцарского балтийского дворянства, честный и кристально благородный человек, беззаветно преданный России. Таким же по наследству стал впоследствии его сын Морис. Жизнь постоянно сводила меня с ним. Наши дороги встречались. Шиллинги так же, как и мы, переехали в Москву, где Морис кончил гимназию и потом университет. Затем они переехали в Петербург, где он поступил в Министерство иностранных дел, потом служил заграницей и долго в Риме, в миссии при Папе. Здесь он тесно сблизился с С. Д. Сазоновым. Последний назначил его директором своей канцелярии, как только был назначен министром иностранных дел[69 - М. Ф. Шиллинг окончил юридический факультет Московского университета и в 1894 г. поступил на службу в Министерство иностранных дел. С 1897 г. 3-й секретарь канцелярии министра иностранных дел, с 1899 г. 2-й секретарь посольства в Вене. В 1902–1908 гг. представитель российского консульства в Ватикане. В 1908-1911 гг. 1-й секретарь российского посольства в Париже. В 1911 г. назначен директором Канцелярии министра иностранных дел. С 1 июля 1914 г. советник (начальник) 1-го политического отдела Министерства иностранных дел и начальник Канцелярии министра. 21 июля 1916 г. освобожден от должности и назначен сенатором, однако 20 сентября 1916 г. также назначен состоять по ведомству Министерства иностранных дел.]. Я в это время был в отставке, писал в «Московском еженедельнике» и не помышлял вернуться на службу, но Шиллинг решил непременно вновь меня завлечь в дипломатическую карьеру, и я уверен, что это по его совету и настояниям, я получил от Сазонова предложение занять место начальника отдела Ближнего Востока[70 - 1 июля 1914 г. Трубецкой был назначен советником (начальником) 2-го (ближневосточного) политического отдела Министерства иностранных дел.] Министерства иностранных дел. Это предложение, мною принятое, было поворотным этапом моей жизни, которым я считаю себя обязанным в значительной степени Шиллингу. Но я сильно забегаю вперед от воспоминаний детства. В эту пору детства нельзя было еще предвидеть, что самой прочной на всю жизнь будет дружба с Морисом Шиллингом. Тогда это было только знакомство. Настоящая дружба была с Сытиными. С ними связывало соседство, общие интересы, удовольствия и переживания.
В нашей правильной, как часовой маятник, жизни большое место занимали совместные прогулки, а также церковные службы по субботам, воскресеньям и особенно Великим постом, на Страстной неделе, когда мы говели.
Мы все встречались в Георгиевской церкви. Она была двухэтажная: нижний зимний и верхний летний храм. Постом служба шла в нижнем храме. Помню его во всех подробностях. Низкий, сводчатый он был в форме креста. Мы стояли впереди налево у медной решетки, отделявшей солею, подле клироса, на котором стоял согбенный старый дьячок с большой седой бородой и волнистыми седыми кудрями в больших черепашьих очках, в длинной рясе – фигура летописца Пимена. Голос у него был такой же волнистый, как и длинные кудри, и все это гармонировало с синими волнами кадильного дыма, особенно когда он пел за преждеосвященной литургией: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою». Мы особенно любили, как он это пел дьячковским распевом. Его исполнение казалось нам верхом совершенства, особенно когда выходили петь трио: он, сын батюшки Извеков[71 - Имеется в виду Георгий Яковлевич Извеков (1874–1937), позже – протоиерей, духовный композитор. 23 ноября 1937 г. он был приговорен к расстрелу «тройкой» при УНКВД СССР по Московской области за «контрреволюционную фашистскую агитацию» и 27 ноября расстрелян на Бутовском полигоне. 24 декабря 2004 г. определением Священного Синода причислен к лику священномучеников.], ученик Консерватории и Коля Сытин.
Испокон века у каждого в церкви было свое место, которое считалось его неотъемлемой собственностью. Сзади нас у стены стояла старушка Анна Петровна Кологривова, окруженная своим нисходящим потомством, на правой стороне стояло семейство Станкевичей, отец был церковный староста, а его благочестивая патриархальная семья была чем-то вроде калужских Самариных со старозаветным крепким укладом. Священник о. Извеков с красивым строгим лицом внушал нам детям некоторый страх. Страстную неделю мы, в сущности, жили в церкви. Длинные службы происходили три раза в день. Каждая служба казалась такой насыщенной, и последовательность их передавалась как одна цельная религиозная драма. Конечно, мы дети не могли выдерживать от начала и до конца одно религиозное настроение, как бы глубоко оно не захватывало нас. Усталость и детство брали свое. Мы устраивали свой уют около решетки, постилали на пол свои теплые шубы, подбитые овчиной, и, иногда, опускаясь на эти шубы, расшаливались и тряслись от беспричинного и безумного смеха. Особенно выходя на улицу шумной гурьбой после продолжительной всенощной, иногда со свечами в руках, мы шумели, гоготали, и нас иногда останавливал окрик Владимира Аполлоновича Сытина почему-то на сомнительном французском языке: «Entants, rappellez-vous d’o? ce que vous venez»[100 - Дети, помните, откуда вы вышли (франц.).]. Но эта неизбежная реакция происходила как-то сама собой, помимо нашей воли, неумышленно. Никогда во всю последующую жизнь говенье не переживалось нами так глубоко и захватывающе. Чтение паремий на часах, особенно повести об Иове с продолжением на следующий день, «да исправится молитва моя», «Господи и Владыко живота моего» – каждый из этих моментов так и врезался в душу. А когда между паремиями раздавался возглас священника: «Повелите – Свет Христов просвещает всех», и все мы повергались ниц, не смея поднять голов, то у нас детей было в эту минуту несомненное убеждение, что вместе со священником и в дыме кадильном, сам Христос прошел через Царские врата. Трепет и страх Божий как перед видением Божественным наполнял душу. В кадильном дыме как будто виделась реально молитва, восходящая к небу. Вечером пели певчие. Как мы ждали «Чертог твой», «Се жених». И тоже никогда впоследствии не воспринималась так реально, так по-настоящему картина брачного Чертога и трепетное сознание своей позорной одежды греха. В таком настроении жили мы три дня до исповеди и причастия. Никогда впоследствии, когда рассудком сознавал все свое убожество и недостоинство, я не переживал такое глубокое потрясение всей души от сознания своей греховности, раскаяние, жажду исправления, как в эти годы перехода от младенчества к отрочеству, и, конечно, эти детские впечатления остались животворящим источником на всю остальную жизнь, и если терния и волчцы не окончательно не заглушили доброго семени, то этой детской молитве и тем, кто внушил мне ее, я этим всецело обязан. Мама, как ангел хранитель, стояла над нашими душами. Для нее не было пустяков. Она искренно проникалась нашим настроением, ибо сама создавала его, сама обладала детской чистотой души, усиленной пламенем веры и молитв. И как ужасны и скверны казались нам наши грехи, как проникались мы притчей о талантах и сознанием, которое внедряла в нас мама, что «кому много дано, от того много и взыщется». А мы так были убеждены, что никому не могло быть дано столько, сколько нам, потому что ни у кого не могло быть такой матери, как у нас, что мы с полным убеждением повторяли перед причастием слова священника: «Еще верую, яко Ты пришел спасти грешныя, из них же первый есмь аз».
Были и смешные вещи. Перебирая все свои грехи перед первой исповедью, я находил самым постыдным грех против 7-й заповеди: прелюбодеяние. Я был убежден, что это грех против любви, и что я в нем виновен перед своей няней, которую постоянно сержу, в то время как она нас так любит. Помню изумление нашего духовника, законоучителя гимназии о[тца] Александра Ростиславова, когда я, сильно заминаясь и не решительно, стал каяться [в грехе] против 7-й заповеди: «Как это… С кем это, дитя мое…» – «С няней», – прошептал я. «Объясните», – сказал батюшка. – Я объяснил, а батюшка, сохраняя, вероятно, с трудом серьезность, пристыдил меня. Когда потом после исповеди я опускался на колени и я чувствовал, что меня всего покрывает епитрахиль, в то время как священник отпускает грехи, какое чувство облегчения и блаженной легкости я испытывая в темном кабинете моего отца, куда по очереди нас вызывали для исповеди. Как приятно было вечером выпить чаю с горячими бубликами, и как я бросался в постель, чтобы поскорее заснуть и поменьше успеть нагрешить до причастия. Потом уже после говения, вторая часть Страстной недели переживалась легче, а суббота вся проходила в краске яиц и ожидании Светлого праздника. В моих калужских воспоминаниях всего больше запомнилось говение, а Пасха в Москве, в Кремле вытеснила впечатление этого праздника в Калуге.
Кажется, не о чем рассказывать о нашем детстве, и, может быть, все это для меня интересно. Жизнь шла изо дня в день с однообразной правильностью, но для нас она была вся соткана из интересов и событий, представлявших огромное значение. Я сохранил от этого времени убеждение, что нет ничего более здорового и нормального для воспитания детей, как такой правильный, даже немного суровый, образ жизни в провинции, вдали от суеты и развлечений большого города. Зато всякое отступление от обычного темпа жизни вырастало в большое событие, и навсегда врезывалось в память.
Таким событием была поездка в Москву летом 1882 года. Мама взяла с собой Варю и меня, чтобы посоветоваться с докторами, – у нее были какие-то гланды, у меня болели глаза. Мы были очень рады нашим болезням. Бедная Линочка была здорова, и ее оставили. Это было первое передвижение наше по железной дороге после приезда в Калугу, которого я не помню. Все для нас было ново и интересно. В этом году была к тому же Всероссийская выставка в Москве[72 - Имеется в виду XV Всероссийская художественно-промышленная выставка, для которой были специально выстроены павильоны на 30 гектарах на Ходынском поле в Москве. Общее количество участников достигло 5813. Уникальная экспозиция, насчитывавшая 6852 партии предметов, была тематически разбита на 14 отделов и 121 группу. Выставка открылась 20 мая и закрылась 1 октября 1882 г.]. У нас глаза ото всего разбегались. Помню большого белого медведя из булавок, большой бюст императора Александра II из шоколада, фонтаны в саду выставки. Московские улицы также поражали нас, особенно белые электрические фонари близ Храма Спасителя – это был первый опыт электрического освещения инженера Яблочкина. Потом нас повезли в Узкое, имение граф[ини Софьи Васильевны] Толстой, впоследствии перешедшее моему брату Петру[73 - Графиня С. В. Толстая унаследовала в 1875 г. Узкое после смерти мужа, графа В. П. Толстого, вместе с его племянницей графиней Марией Егоровной Орловой-Давыдовой, урожденной графиней Толстой (1843–?). По разделу наследства между ними единоличной владелицей Узкого стала С. В. Толстая. Она, в свою очередь, в апреле 1883 г. передала Узкое своему племяннику и воспитаннику князю Петру Николаевичу Трубецкому. Официально была составлена купчая крепость: имение площадью 214 десятин с господским домом, флигелями и большими и многочисленными хозяйственными постройками было оценено всего в 3500 рублей.]. В этот год праздновали день его рождения – ему минуло 25 лет. Было много народу.
В числе гостей был Тертий Ив[анович] Филиппов с женой и сыном, когда-то бывший у Толстых домашним учителем, а потом дослужившийся до государственного контролера. Его сын был на 2 года меня старше и сильнее и пользовался этим, чтобы куражиться. Я его возненавидел и помню, как мне трудно было оберегать мое достоинство от его задираний. Варя мне всячески помогала и разделяла мои чувства.
Когда мы вернулись в Калугу, мы спохватились, что не привезли Линочке никакого «сувенира» из Москвы. Мы ее не застали дома, ее в виде утешения отправили гостить к Сытиным на дачу. Мы пошли с Варей покупать ей сувенир, и купили рассказ, который потом читали с увлечением. Он назывался – «Лэди Анна». Это был рассказ о дочери какого-то лорда, похищенной и потом, после многих приключений, найденной своим отцом. Когда мы подарили книжку Линочке, я помню, что не видя достаточного восторга с ее стороны, показал ей как будто нечаянно пальцем надпись – цена 1 рубль на книжке.
В следующий раз мы попали в Москву через 2 года на свадьбу сестры Тони, выходившей замуж за Ф. Д. Самарина. Это было первое большое семейное событие. Из нашей большой дружной семьи выбывал на сторону первый птенец.
В юности Тоня была большая шалунья и большая дразнилка. Она изводила в особенности Ольгу, у которой в числе разных прозвищ было: «Крыу-Рыу». Тоня была малокровна, куталась в оренбургский платок. Проходя мимо Ольги, она неудержимо хватала ее холодными пальцами за подбородок и говорила ей: «Маленькая». Ольга приходила в раж, они сцеплялись, и Ольга, хотя и младшая, сильно поколачивала Тоню. Тоня была очень насмешлива, и когда она что-нибудь подмечала, у нее начинал дрожать подбородок от сдерживаемого смеха. На нее нападали приступы шалости. Она любила изводить гувернанток, и раз как-то во время общей чинной и скучной прогулки внезапно вскочила в проезжавшего извозчика, крикнула нам всем, чтобы мы сделали то же, и гувернантка не успела опомниться, как извозчик, сразу вошедший во вкус этой шалости, хлестнул лошадь и поскакал. Сзади нас преследовали раскаты негодования, но на первом же повороте – дело было ранней весной и все улицы были в рытвинах, – пролетка опрокинулась, и мы все упали в лужу. И ей, и нам сильно попало за это.
Эта свадьба была событием не только в нашей семье, но, пожалуй, еще больше в патриархальной семье Самариных. Женился старший сын. Дмитрий Федорович хотел даже устроить венчание в Храме Спасителя, но, кажется, это оказалось невозможным, потому что Храм Спасителя не был приходским храмом и венчаний там не совершалось.
Свадьба была в приходе Самариных – церкви Св. Бориса и Глеба на Поварской[74 - Церковь Бориса и Глеба на Поварской была возведена в 1802 г. в стиле классицизма. Церковь была закрыта в начале 1930-х гг. по постановлению Моссовета и в 1936 г. разрушена. На ее месте сейчас находится здание Российской академии музыки имени Гнесиных.]. Интересно, что дьяконом был в ней тогда ушедший вскоре потом в монахи в Зосимову пустынь и ставший впоследствии известным старец Алексей, который принял затвор, но в 1917 году был избран членом Московского Всероссийского Собора и во исполнение послушания вышел из затвора. Ему было поручено вынуть жребий из ковчега, где лежали три записки с именами кандидатов на патриарха.
Свадьба была кажется в июне. Одним из шаферов был только что кончивший гимназию С. В. Самарин, а другим А. Д. [Самарин], который был еще гимназистом. Они были очень милы с нами, детьми.
После свадьбы молодые поехали за границу. Каким событием было каждое письмо Тони, в котором она, ничего раньше не видевшая, описывала свои впечатления из-за границы, которая казалась нам какой-то особой планетой. Эти письма по многу раз читались, потом сестры размножали их на гектографе и рассылали их тетушкам. Как ждали у нас возвращения Тони. Она появилась совсем новая для нас. Ей особое удовольствие составляло обновить чепчики, которые тогда носили молодые дамы, как какое-то звание, отличавшее их от девиц. Ей приятно было показаться в этом взрослом положении в гостях, у себя в родном доме, где уж она не слышала замечаний, а ей только радовались. Какое удовольствие ей было всех одарить. Она каждому купила за границей подарок с трогательной заботливостью, и нам эти подарки казались великолепиями, особенно я помню разрезные ножи из слоновой кости.
В это же лето мы в первый раз попали в Молоденки. После этого мы неоднократно там бывали. С Молоденками связана целая полоса самых счастливых детских воспоминаний.
Дома было хорошо, но дома вся жизнь была построена на дисциплине и обязанностях, в которые мы от себя вносили конечно целый мир шалостей, но все это было не позволено и за это надо было отвечать.
В Молоденках нас встречало такое море доброты и баловства со стороны дяди Пети и тети Лины, что мы вступали в какое-то волшебное царство. Каждая наша шалость и глупость встречались таким добродушным клокотанием тети Лины и смехом дяди Пети, что мы чувствовали себя какими-то героями.
В это лето у них жили Евреиновы – родные племянники тети Лины. Мы о них раньше слышали как о примерных детях; и потому относились с некоторым предубеждением к ним. За год до того мама, по совету докторов, уехала, чтобы отдохнуть от переутомления, в Молоденки, где провела почти все лето. Вернувшись, она нам рассказывала, какие примерные и воспитанные дети Евреиновы, и как нам далеко до них. Нам часто ставили в пример других детей, и мы искренно считали, что нет детей более распущенных и хуже воспитанных, чем мы. Иногда мама с грустью говорила нам, как Бог наказывает родителей, когда дети плохи, и рассказывала нам, какая судьба постигла Пророка Самуила за детей, которых он не сумел воспитать, и как он упал со стула, сломав себе спину. Мы серьезно беспокоились за мама, как бы ее не постигла такая же участь, и иногда со страхом смотрели, когда она садилась на кресло. Но детей примерных все-таки не любили, и с большой критикой отнеслись к Евреиновым.
Познакомившись с ними, мы увидели, что они ничего себе, но мы сразу остро возненавидели их гувернантку, рыжую мисс Робертс, решив, что в ней корень зла. Особенное негодование наше она возбуждала тем, что позволяла себе даже давать пощечины детям. Мы поспешили поделиться нашими впечатлениями с Евреиновыми и старались восстановить их против мисс Робертс. Их, действительно, держали очень строго, особенно их мать, которой в это время не было еще в Молоденках. И вот мы подбили их на шалость, в сущности, довольно невинную, но которая даже неожиданно для нас была воспринята чуть ли не как преступление. Мы условились тайком на заре пойти в лес – «Красную Рощу». Мы привели в исполнение наш замысел. Утром нас хватились, и тут произошел колоссальный переполох. За нами послали искать верховых. Нашли нас, конечно, очень скоро, но тетя Лина, чувствовавшая себя ответственной за всех детей, оставленных на ее попечение, переполошилась не на шутку, и нам здорово досталось. Это был единственный раз, что я видел рассерженным дядю Петю, который беспокоился за волнение тети Лины, и он на нас накричал. А дети Евреиновы были в полной панике. Мало того, что их наказали и на них свирепо накинулась мисс Роберте, но они со дня на день ожидали приезда своей матери и новой грозы. Когда она приехала, то мы почувствовали, что она нас невзлюбила и не поощряет новой дружбы своих детей. Я очень сдружился с Володей Евреиновым, и, расставаясь, мы условились переписываться и сообщать взаимно о всех шалостях случившихся и предполагаемых. Мое чуть ли не первое письмо было перехвачено и Володе было приказано прервать со мною всякие письменные сношения.
В Молоденках все было не так, как у нас дома, и казалось необыкновенно. Утром мы пили молоко в глиняных кружках, а кувшин с молоком был с птичкой на ручке. К молоку подавали соленые теплые крендели и к ним масло – баловство, к которому мы не привыкли дома.
На речке была лодка, на которой мы сами могли грести. В Молоденках мы научились теннису, который на долгие годы и в молодости был нашим любимым развлечением. И во все игры дядя Петя умел вносить особенное оживление. Когда мы играли в теннис, он кричал: «Линочка, вся Европа смотрит на тебя». А в день моего рождения он устроил какое-то особое состязание и кричал: «в одиннадцать лет – первый промах!» Потом следовали второй, третий, и так далее промахи. Он умел расшевелить нас и привести в полный азарт, а сам добродушно покатывался смехом.
А поездки в Молоденках! Как это бывало весело! – Мы ездили к соседям, где всюду были наши сверстники, иногда, если это было далеко, то с ночевками, что было особенно весело. Мы ездили к Раевским, Философовым, Бежчевым. Эти дети приезжали, в свою очередь, к нам в Молоденки. Устраивались хоры, игры, беготня и танцы. Это было шумное детское и юношеское царство, и казалось, что все и все существуют для нас. А когда мы приезжали осенью, то мы любили поездки в поле – охотиться на хорьков. С нами выезжала большая бочка с водой. В полях было много хорьковых подземных ходов. Обыкновенно выслеживали два выхода. В один лили воду из бочки, из другого выскакивали рыжие хорьки, на которых набрасывали мешок, и возвращались домой, когда вода вся уже вышла и в большой плетеной корзине с крышкой было несколько хорьков.
В этот же год осенью меня повезли в Москву на свадьбу Пети брата, у которого я был «мальчиком с образом». Мне купили какой-то морской костюм с серебряными пуговицами и галунами, который я возненавидел, потому что его надо было носить с голыми коленями и я считал это в высшей степени унизительным для себя. Я помню, что этот костюм я прозвал из-за галунов «суета сует». Все эти переживания вполне понимались и разделялись младшим пятком. Я рос среди сестер, которые всегда держали мою сторону, и это нередко возмущало моих старших братьев, которые считали, что я балуюсь, а я умел, действительно, укрываться, когда угрожала опасность, под защиту сестер.
Нас было 9 человек детей. Вместе с родителями и двумя педагогами (одно время у меня был учитель летом) нас садилось за стол 13 человек. Все комнаты были густо заселены. Тем не менее всегда находилось место для приезжавших летом к нашим старшим братьям и сестрам – их друзьям, и дом наполнялся оживлением и весельем. Приезжали братья Лопухины Алеша и Митя, Маня Хитрово со своею матерью Марьей Ив[ановной], рожденной Ершовой, сверстницей и приятельницей моей матери, и братом Сергеем. Приезжал товарищ братьев по университету Николай Андреевич Кислинский и много старше их, но всегда любивший и любимый в молодом обществе Сол[л]огуб.
В Москве у Капнистов ставили шарады, сочинявшиеся Сол [л]огубом и моим братом Сергеем. Иногда это бывали целые представления в стихах и музыкой, которую сочинял Кислинский, который был очень музыкален и остроумен в музыке. Те же удовольствия переносились к нам летом, причем рассчитывали и на нас детей при постановке представлений.
В первый раз, когда приехал Кислинский, мой брат сочинил пьесу для детей. Она называлась: «Симеон-злочестивец». Кислинский был маленького роста, он играл самого Симеона. Мы с Линочкой играли роли добродетельных детей – Ростислава и Леониллы.
Симеон пел на мотив Марсельезы: