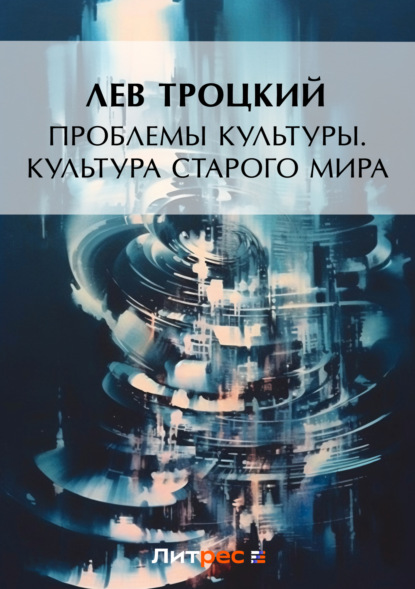 Полная версия
Полная версияПроблемы культуры. Культура старого мира
Мы можем спокойно пройти мимо небольших рисунков Грэфа (Graef), который сменил недавно умершего Энгля (Engl). Это незамысловатые специально баварские художники на незамысловатые баварские темы для незамысловатой баварской публики. Пьяный студент, шуцман, баварский мужик в картинной галерее, филистер в пивной, филистер на улице, филистер дома – такова их сфера.
Перевернем еще страницу.
Две девушки-подростка, то, что по-немецки называется Backfische. Все написано тщательно и краски положены «по принадлежности»: лица розовые, ботинки – черные, а не наоборот. Особенно прилежно выделены складки платьев и комнатные безделушки. Сверху написано «Конфликт». Снизу текст: «В школе нас просвещают насчет половой жизни, – а дома мы все еще должны верить в аиста». Но суть не в тексте и не в содержании рисунка, а в самих фигурах, в их позах, в складках платьев, в повороте голов. Эту «часть» в «Simplicissimus'e» делают Гейлеман (Heilemann) и Резничек (Reznicek). В центре у них всегда женщина разных степеней и обнаженности. Женщина в театре, на катке, в гамаке, женщина на балу, на карнавале, в chambre separee, женщина у своего любовника, любовник у женщины, женщина за утренним туалетом, затем за вечерним, одевается, раздевается, женщина садится в ванну, уже села, выходит из ванны, левой ногой, правой ногой… Уже, кажется, все? Ничуть не бывало: тело видно сквозь кружева, сквозь кисею, сквозь холст, на солнце, при луне, при лампе, фигура в складках шелка, в складках бархата, сидя, полулежа, совсем лежа. Резничек уже издал целый ряд альбомов: «Галантный мир», «Танец», «Она», «С глазу на глаз». Кто-то, помнится мне, писал по поводу Резничека в русских журналах, что, дескать, это беспощадная сатира на семейные нравы буржуазии. Что-то в этом роде. Величайшие пустяки! В альбомах Резничека вы найдете превосходно написанные туфли, кружева, чулки, корсеты и другие подробности «ее» туалета, но вряд ли вы во всей этой куче надушенного хлама разыщете хотя одну серьезную мысль. Художником со «специальностью» является также Тони (Thony). На последней странице нашего номера он снова выступает против баварского клерикализма. Армия, буршикозное студенчество, баварские клерикалы, но прежде всего армия – это территория его сатиры. Лоснящееся кастовое самодовольство, чинопроизводственные горизонты, невежество, бурбонство, презрение к людям без шпор и шпаги и гвардейская «правоспособность» (в щедринском смысле слова) – вот несложные мотивы, в сфере которых Тони не знает соперников. Он успел издать целый ряд альбомов из жизни германского офицерства: «Лейтенант», «Мундир», «От кадета до генерала» и др. Тони превосходно владеет механикой человеческого тела, – чего нельзя сказать про всех художников «Simplicissimus'а», прежде всего про Резничека, но отчасти даже про Гейне, – его фигуры, несмотря на свою тяжеловесность, с полной свободой распоряжаются своими головами, руками и ногами. Это огромное техническое преимущество для художника, которому приходится, как газетному журналисту, писать изо дня в день.
В нашем номере большой пробел: нет Олафа Гульбрансона (Gulbranson). Это один из самых плодовитых художников мюнхенского журнала. Как и Гейне, Гульбрансон бесконечно разнообразен в выборе своих тем. Тут и прусская юстиция, и профессура, и князья мира сего, и богема, и пастор со чады, и даже небесные сферы. Сегодня Гульбрансон иллюстрирует политику der Mutter Germaniae, завтра рассказывает карандашом, как почтенный мюнхенский приватье Шледерер, безмятежно шествуя по дороге, был застигнут автомобилем и убит на месте; как душа его вынуждена была отделиться от тела и подняться в горние сферы; как на половине пути ее настиг воздухоплавательный мотор и разбил вдребезги. Гульбрансон создал длинную «галлерею знаменитых современников» – стилизованные портреты писателей, художников и политиков. Тут мы найдем Толстого, с бородой вместо лица, и Максима Горького, из шайки Стеньки Разина. У Гульбрансона в рисунке какое-то упрямое пристрастие к геометрическим формам. Параллельные линии, прямые углы; живот пастора в виде правильной окружности. Все фигуры поэтому жестки и кажутся как бы накрахмаленными. Эта манера, ставшая второй природой Гульбрансона, резко отличает его от Гейне, который, подобно своему великому однофамильцу, поэту, богат мягкой и капризной гибкостью приемов и какою-то женственностью тона, несмотря на взрывы бесшабашного цинизма.
Для полноты нам остается еще упомянуть о двух ни в чем друг на друга не похожих художниках «Simplicissimus'а» Бруно Пауле и Пачине (Pascin). Пауль, уверенный и энергичный карандаш которого создал в «Simplicissimus'е» галерею «национальных» типов (англичанина, японца, русского, итальянца…), в последние годы оставил карикатуру и сосредоточился, если не ошибаемся, на проектировании стильной мебели. Рисунки Пачина, – например, из румынской торговли женщинами, – производят незабываемое впечатление тщательностью в передаче бытовых подробностей безобразия. Его «Непристойность» (Zote) и «Угрызения совести» похожи на запечатленные навязчивые идеи. Какая неизмеримая разница между этой кошмарной кабацкой «непристойностью» – без волос и с гнилыми зубами – и элегантной непристойностью Резничека – с локонцем и с кружевцем!
Перед нами прошел почти весь персонал «Simplicissimus'а». Участие тех, которых мы не назвали, либо незначительно, либо случайно. Поэтов и новеллистов перечислять не станем: не они определяют облик журнала. Их роль определяется значением текста под рисунком: она второстепенна.
Что объединяет эту группу талантливых людей? Что превращает их в ту коллективную индивидуальность, которая именуется «Симплициссимусом»? Каково их знамя? Чего хотят? Кого и куда ведут? Сам журнал любит себя изображать в виде красного мопса, который в любой момент готов перервать глотку достопочтенному филистеру и добродетельному фарисею. Значит, применяясь к условному языку русской журналистики, можно сказать, что знамя «Симплициссимуса» – «борьба с мещанством». Что это, однако, означает? Все и ничего. Скорее, впрочем, ничего, чем все. Г-н Петр Струве, как известно, неутомимо боролся с «мещанством». Г-н Бердяев тоже тыкал свое перо во всевыносящее мещанство. Теперь, как пишут, на кухне истории специально изготовлен для борьбы с мещанством Чуковский-Пильский. Значит, под этим флагом проходит всякий товар, даже и заведомо гнилой. Но и в более чистом крыле под борьбой с мещанством скрывается в лучшем случае хаотический интеллигентский радикализм, питающийся преимущественно эстетическими восприятиями и не знающий, куда приткнуться. Он лихорадочно мечется из стороны в сторону, пока не успокоится – на чем-нибудь очень маленьком… С теми или другими ограничениями это относится и к судьбе «Симплициссимуса».
Конечно, они прежде всего антиклерикалы. Дух Вольтера близок им всем. У Гульбрансона, у Гейне, у Вильке, у альковного Резничека, у романтика Шульца вы найдете много безжалостных памфлетов в карандаше и в красках против мира тонзуры и четок. Шульц рисует на заглавном листе свирепого красного мопса, от которого во все стороны разбегаются черные мыши клерикализма и подписывает: «Сим мы объявляем войну баварскому ландтагу». – Светлый лучистый Христос глядит у того же Шульца с облака на опоясавших своей цепью земной шар тучных, лоснящихся, жадных жрецов Рима и восклицает с недоуменной скорбью: «Неужели вот эти – мои ученики?». Гейне и Гульбрансон совершают частые экскурсии в те надзвездные сферы, куда бросает от себя проекции земной мир четок и тонзуры. Но тут их кистью водит скорее добродушное неверие, чем активное отрицание. Когда же сутаны под видом борьбы за добрые нравы покушаются на искусство, тогда глаза мопса наливаются кровью, зубы злобно оскаливаются и – горе врагу! Иллюстрируя проекты одной из конференций «союза нравственности» в Магдебурге, Бруно Пауль нарядил в «Симплициссимусе» стадо коров в купальные костюмы: – «отныне – пояснил он – коровы получают панталоны, дабы не причинять ущерба нравственности магдебургских быков». Те же магдебургские… моралисты у Гульбрансона отпиливают груди Венере Медицейской и ее жест стыдливости дополняют насаженной ей на руку меховой муфтой…
Что они отстаивают Венеру, что они не допускают посягательства на искусство, это понятно само собою: они художники. Но можно сказать, что этим эстетическим свободолюбием исчерпывается их credo. Их радикализм – бесформенное туманное пятно, прорезанное золотыми лучами таланта – без политического ядра, без центра социальных симпатий и антипатий. И в этом их ахиллесова пята. – Какое нам до этого дело? – воскликнет, пожалуй, имя рек тринадцатый, известный пророк абсолютной «свободы» искусства. – Вы просто хотели бы трепетную лань художественной сатиры впрячь в телегу политической партии!
Хочу я этого или нет, – вопрос, который нас сейчас не занимает. Но что с «трепетной ланью» искусства дело обстоит не весьма благополучно и во всяком случае не столь просто, это показывает судьба самого «Симплициссимуса».
Сатира не просто «воплощает» действительность, – она воспроизводит ее со знаком минус. Вот почему в сатире, в карикатуре непосредственнее, чем в других родах, заявляет о себе социально-политическая атмосфера, которою художник дышит, – которою он не может не дышать. Отыскать рабовладельческую Грецию в Венере Медицейской – задача весьма сложная и тонкая. Но в муфте, которая должна облагородить эту Венеру, открыть уши баварского клерикала – не стоит никакого труда. «Минус» сатиры – в этом вся суть – всецело определяется социальным углом зрения. Каков же угол зрения «Симплициссимуса»?
«Мой дар сводится к тому простому факту, что я неспособен дышать мещанской (burgerlich) атмосферой». Эти слова Франк Ведекинд, писатель, близкий кружку «Симплициссимуса» и по духу и по фактической работе{184}, вкладывает в уста «маркизу» Кейту, помеси «философа и конокрада», воплощению беспокойного духа богемы. И Ведекинд сам и весь кружок «Симплициссимуса» выступали на открытую арену с этим волчьим паспортом отщепенства. Но лукавый бес «мещанской атмосферы» хитро разбросал перед ним свои силки и петли. Они негодовали, – бес мещанства одобрительно кивал им головой. Они издевались, – он встречал их аплодисментами. Они швыряли ему в лицо свое презрение, – он отвечал им взрывом эстетического энтузиазма. И он с незадумывающейся щедростью оплачивал и их негодование, и их издевательства, и их презренье. Он решил их заласкать. В этом состояла его тактика.
Разумеется, легким пришлось приспособляться к атмосфере, а не атмосфере к легким. В конце концов, артист не только принял свой успех, но и примирился с ним. И оправдал его и подчинился ему. «Искусство и старанье без награды – погибли бы», – говорит Шекспир в «Цимбелине». «Награда» спасает искусство от гибели, укрощая его.
«Мерилом значения человека является мир, а не внутреннее убеждение, которое внушают путем многолетних размышлений. Я тоже не выставляю себя на рынке, меня открыли. Непризнанных гениев нет». Это говорит у Ведекинда знаменитый певец Жерардо, бывший каменщик. Его открыли, его заласкали, его подчинили. Он сам отдает себе в этом убийственно ясный отчет: «Мы, артисты, – говорит он, – предмет роскоши для буржуазии, за обладание которым набивают цену взапуски». Но вырваться он уже не может. Да и некуда!
Фигаро{185}, пращур маркиза Кейта, вообще нынешней интеллигентной богемы больших городов, говорил величайшие дерзости французской аристократии восемнадцатого века. Она в ответ восторженно рукоплескала ему. Это было нечто несравненно большее, чем каприз. Ее изощренный сословный инстинкт подсказывал ей, что она может наслаждаться артистами и художниками, только позволяя им презирать себя. Правда, она этим и не подкупила и не укротила Фигаро. Наоборот. Через каких-нибудь пять лет его дерзость бурным потоком перелилась через плотину… Но мы посмеялись бы над исторической правдой, если б вздумали утверждать, что тут искусство развивалось «из себя», наперекор социальной атмосфере. Нисколько. Ничуть! Фигаро был просто перехвачен у аристократии мещанством, уже достаточно досужим, чтобы наслаждаться искусством, и достаточно богатым, чтобы оплатить его.
«Искусство и старанье без награды – погибли бы»…
Не прошло столетия, как буржуазия оказалась по отношению к искусству в таком же положении, на какое она сама поставила аристократию. В течение недолгого периода ее историческое существование настолько опустошилось, что искусство могло служить ей отныне лишь презирая ее. Однако, она счастливее дворянства: ее историческим антагонистом оказался класс, лишенный необходимого досуга, чтобы ввести искусство в свой обиход, и необходимых средств, чтобы освободить художников из-под ее власти. Она сохранила их за собою… Они служат ей, презирая ее.
«Симплициссимус» существует 13 лет. Он выступил в момент когда в политической жизни Германии завершался серьезный перелом. Под влиянием победоносной политики Бисмарка, которому теперь начинают платонически поклоняться иные декаденты русского либерализма, буржуазия сбросила с себя последние отрепья идей 48-го года и приняла пруссифицированную Германию из рук железного канцлера, как кивот завета. Эпоха капиталистического чавкания развернулась во всю ширь… Лучшие элементы буржуазной интеллигенции очутились в трагическом одиночестве. Уже одно эстетическое чутье не позволяло им превратиться в певцов сытой добродетели и кредитоспособной морали. Литература, искусство начинают искать новых путей и новых перспектив.
В 1890 г., за пять лет до возникновения «Симплициссимуса» падает бисмарковский закон против социалистов. Партия выступает на открытую арену. Окруженная романтикой подполья, венчанная победой, она становится центром идейного внимания. К ней тяготеют молодые силы искусства и литературы. Ничто не казалось им тогда, рассказывает венский писатель Герман Бар, более высоким, чем быть «истинным пролетаром» (ein echter Proletar zu sein).
Один меньше, другой больше, но все были заражены духом социального протеста. Под этим знаком возник и «Симплициссимус» – на юге в Мюнхене, где экономическая отсталость соединилась со старыми эстетическими традициями в естественную оппозицию капиталистическому и полицейскому северу.
Но – «искусство и старанье без награды – погибли бы»… Восставая против мещанской морали, «Симплициссимус» апеллировал к мещанскому рынку. Он завоевал успех – огромный успех – и оказался жертвой его. Техника издания стала несравненно совершенней; но острие сатиры притупилось. Неопределенный социальный идеализм сменился блазированностью. Центр внимания все время правильно передвигался – от значительного к занимательному. Сенсация и экстравагантность все более отодвигают глубину захвата. Социальные мотивы исчезают из поэзии «Симплициссимуса». Лирика в духе Демеля[319] уступает целиком свое место утонченному версификаторству поэтов, которым нечего сказать… Взвинченная парадоксальность и сентиментальная интимность; утонченная тривиальность и рядом с нею болезненная чуткость… И, разумеется, эротизм. Дамское белье работы Гейлемана (Heilemann) и Резничека выдвинулось на передний план… И нередко с досадой перелистываешь свежий номер – и не находишь в нем духа живого.
Параллельно с этой внутренней эволюцией идет внешняя. «Симплициссимус» стал дороже в цене. Сперва он рассчитывал на народную массу, теперь на интеллигентное мещанство и на cafes. В 1905 г. тираж издания далеко перевалил за сто тысяч, – и издатель закрепил художников за журналом, сделав их участниками предприятия. Завоевав успех, «Симплициссимус» сам становится капиталистической силой на журнальном рынке. Он венчает и развенчивает, – создает репутации – не только литературные, но и промышленные. Рекламы занимают почти половину каждой тетради. Вы находите их не только в отделе объявлений: они вкраплены в столбцы текста и протянули свои щупальцы к иллюстрациям. Реклама покупает художников и становится художественной. Гульбрансон делит свой карандаш между социальной сатирой и объявлениями торговых фирм. Резничек комбинирует женское белье с разными сортами шампанского. Гейне стилизирует автомобиль «Zust» и насаживает на него голову мопса. Бедный мопс радикализма и непримиримой сатиры! – он стал наемной собакой капиталистической рекламы.
Три года тому назад «Симплициссимус» дал к десятилетию своего выхода в свет сатирическое обозрение всех преступлений, совершенных им против нравственности, общественных приличий и прочих устоев гражданственности. И тем не менее – такой иллюстрацией закончил Гейне этот отчет – даже приговоренный к смерти разбойник Аламсредер, уже находясь на плахе, за несколько минут до казни, не мог отказаться от прочтения свежего номера «Симплициссимуса». Если даже допустить, что преступникам под топором удается победить свой интерес к журналу, то зато действительно нельзя сомневаться, что каждый «просвещенный» немец включил «Симплициссимус» в свой незыблемый идейный инвентарь. – Но чего же она хочет, все-таки, эта талантливая группа карикатуристов и поэтов? – повторим мы наш вопрос. – Куда зовет? Куда ведет? – Никуда! И в этом весь секрет ее успеха. Она дает красивое и злое выражение пассивному скептицизму интеллигентного мещанства. Она никуда не зовет – ни направо, ни налево. Она только регистрирует. В краске и в слове она дает выражение психологии исторического тупика. Некуда идти. Надеяться не на что. Реакция груба. Но – масса?.. Масса тупа. Тупа уже потому, что массовидна. Что же остается? Вера? Но как отважиться на полет в горние сферы в наше время аэронавтов, которые душу Шледерера разбили в куски? Любовь? Конечно любовь… Но вот вам все подушки алькова. Что же остается? Немного иллюзий, немножко романтики и радость красивых форм и неожиданных сочетаний. Но иллюзии хрупки, романтики нам не по возрасту – и каждую каплю романтики приходится растворять в бокале цинизма. А красивые формы… Красивые формы, как и безобразные, пожираются смертью. В итоге остается только маленький технический вопрос: погребать или сожигать? Не все ли равно? Впрочем, лучше сожигать: «черви так щекочут»…
«Киевская Мысль» N 178, 29 июня 1908 г.
Л. Троцкий. ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА
Можно не любить Берлина – и многие не любят его. Но нельзя не испытывать глубокого уважения пред сосредоточенной, почти трагической серьезностью, которая образует характер этого города. Нигде пульс современной истории не бьется с такой зловещей отчетливостью, как в Берлине.
Париж несравненно богаче традициями. Там памятники еще более красноречивы, чем ораторы.
"Здесь, перед нами, в Тюильри, – говорил Берне[320] Генриху Гейне, гуляя с ним по Парижу, – гремел Конвент, собрание титанов". Там огромные события, величайшие из всех, какие записаны в книгу новой истории, до сегодняшнего дня заполняют своим гипнозом политическую и нравственную атмосферу. Консервативный по своим экономическим формам, весь в плену своих блестящих традиций, Париж давно уже утратил духовную и политическую гегемонию, которая была в его руках в конце XVIII и в середине прошлого столетия… Лондон несравненно грандиознее Берлина. Он не беднее Парижа унаследованными преданиями. И все же при всей своей капиталистической чудовищности Лондон гораздо меньше воплощает душу современной эпохи, чем столица Германии: для этого он слишком своеобразен – со своей бытовой косностью, англиканским ханжеством и политической рутиной. В области идеологии он неумолимо скареден, питает инстинктивное отвращение к обобщениям и признает только те системы, на которые время давно наложило печать устарелости. Лондон – это современнейший город, который, однако, с неутомимым, хотя и безнадежным, упорством обороняется от современного самопознания.
Берлин можно не любить, но нужно быть слепым, чтобы не видеть, что именно здесь история завязала свой гордиев узел. Эти бесконечные ровные улицы, эта идеальная нумерация домов, эти непреклонные шуцманы. Тиргартен с его глиняной родословной Гогенцоллернов{186}, наконец, неизбежный и вездесущий «Ашингер»{187} – все это прозаично, как будка часового. Но на этой обнаженной основе сложилась в кристаллической ясности и законченности социальная драма капиталистической культуры. Точно ножом хирурга проведены здесь межевые линии, отделяющие враждебные лагери. Ни возвышающий обман исторических традиций, ни наследственный дух компромисса не смягчают политической атмосферы. Нет ни полусвета, ни полутени. Общественная идеология похожа на геометрическую проекцию реальных отношений. Обе стороны сделали для себя последние логические выводы, и им остается только сознательно идти навстречу тому часу, когда автоматизм жизни поставит их у предела и скажет: «Hic Rhodus, hic salta!» (Здесь Родос, здесь прыгай!){188}.
Более десяти лет тому назад один из самых выдающихся «молодых», Арно Гольц (Holz), задумал цикл драм под общим названием: «Берлин. Исторический поворот в драмах». Замысел, поистине, огромный. Тут нужен титан, нужен мускулистый гений, как наш Толстой. Гольц – поэт совсем не титанического роста и, разумеется, не совладал с темой. Но если б он хоть на миг поднял ее на своих плечах, хоть надорвался бы под нею, хоть почувствовал бы огромную тяжесть ее… – тогда бы в нем можно было видеть одного из предтеч будущего Гомера, певца капиталистического города. Тогда бы его неудача была его личной трагедией, а каждое его завоевание на новом пути вошло бы в инвентарь искусства, чтобы послужить орудием более сильному. Но этого нет и следа. Бессилие Гольца – а это вместе с тем бессилие той эстетической эпохи, которая его создала, – состоит в том, что он не видит своего действительного объекта. Не хочет видеть и не может видеть. Он рисует Берлин, повернувшись к нему спиною.
Первая драма цикла называлась «Социал-аристократы». Это злая сатира на политико-моралистические и эстетические кружки избранных, которые хронологию возрожденного человечества ведут с того момента, когда они в первый раз обмакнули свое перо в чернильницу. Разбивая свои палатки меж двух лагерей, социал-аристократы идейно мародерствуют в обоих и не имеют влияния ни в одном. Это тип интернациональный, и права его на сатирическое воспроизведение бесспорны. Однако, уже эта первая драма Гольца была тревожным симптомом. Кто хочет совершить паломничество в Иерусалим, тот не совершает увеселительных прогулок, а берет суму, посох и идет. Пред кем задача: воссоздать Берлин, ужели тот начнет с кучки эстетических фланеров, которых он случайно встретил на перекрестке?
Теперь, через десять лет художнических блужданий, Гольц дал второе звено своей драматической цепи: трагедию «Затмение солнца». Второе и, надо думать, последнее. На этом пути дальше идти некуда.
Кто представительствует у Гольца от лица Берлина? Голридер, художник; Мусман, художник; прекрасная Ченчи, артистка Variete: Урль, миллионер, которого случайный крах бросает в ряды артистической богемы; профессор Липсиус, скульптор и, наконец, президент выставки Secession. После кружка «социал-аристократов» – кучка художников. Артистическая богема – вот кто воплощает у Гольца поворотную эпоху.
В центре трагедии стоит художник Голридер, который должен быть целой головой выше дюжинных гениев нового искусства. Он неутомимо и болезненно ищет. Чего? Если б он мог ответить себе на этот вопрос, он был бы спасен. «Япония, Дюрер, новые французы, Веласкес, самая ранняя готика… Все то, чего тебе нужно, растворить в одном. Рабочие, которые с жестяными чайниками тянутся на фабрики; босяки, которые веревочками подвязывают свои сапоги; любовные пары, от которых бросает в дрожь; вместо ржаного поля – дымовые трубы и телеграфные столбы; вместо леса – „Заячья полянка“ и вместо римских акведуков или терм Каракаллы – милейший трамвай!..» Все это: фабрики, дымовые трубы, телеграфные столбы и трамвай – отделило Голридера от старой натуры, но не связало его внутренне с собой. Ему уже недоступно и психологически чуждо наивное панибратство с природой, которое запечатлели старые голландцы. Те без усилий над своей кистью покорствовали натуре, перенося на полотно ткань одежды, человеческой кожи или древесного листа. От этой непосредственности у Голридера не осталось и следа. Он чувствует природу по-своему тоньше и интимнее, чем старики-голландцы – и потому что он отделен от нее, и потому что городская культура изощрила механизм его психологии. Но эта природа для него уже не мать, старую связь с ней он утратил, а новой не обрел. Вместе с независимостью от гнета натуры, он получает свободу исканий. Чего? Какой-то новой большой зависимости, которая освободила бы его от «свободы»… Местью художника за пустоту его свободы становится художественное своенравие. Свою кисть он подчиняет не узору материи, а узору своих настроений. Он берет, что ему нужно, у Веласкеса, готиков, французов, японцев… Его палитра неизмеримо обогащена, его кисть приобрела острие резца. Но он чувствует себя дальше от цели, чем когда бы то ни было, – как «обладатель сложнейшего измерительного прибора, которым он ничего не умеет измерить». «Техника!» – восклицает Голридер презрительно. – Да первый клок травы под солнечным лучом обращает всю живопись в прах!"



