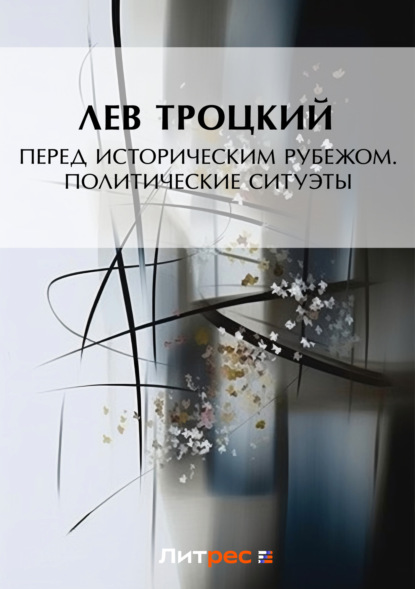 Полная версия
Полная версияПеред историческим рубежом. Политические силуэты
Сейчас палачи задавили в Берлине движение спартаковцев, германских коммунистов. Они убили двух лучших вдохновителей этого движения, и, быть может, сегодня они еще празднуют победу. Но настоящей победы тут нет, потому что не было еще прямой, открытой и полной борьбы; еще не было восстания германского пролетариата во имя завоевания политической власти. Это была только могучая рекогносцировка, глубокая разведка в лагерь расположения противника. Разведка предшествует сражению, но это еще не сражение. Германскому пролетариату необходима была эта глубокая разведка, как она необходима была нам в июльские дни. Несчастие в том, что в разведке пали два лучших военачальника. Это жестокий урон, но это не поражение. Битва еще впереди.
Смысл того, что происходит в Германии, мы поймем лучше, если оглянемся на собственный вчерашний день. Вы помните ход событий и их внутреннюю логику. В конце февраля, по старому стилю, народные массы сбросили царский трон. Первые недели настроение было такое, как будто главное уже совершено. Новые люди, которые выдвинулись из оппозиционных партий, никогда у нас не стоявших у власти, первое время пользовались доверием или полудоверием народных масс. Но это доверие стало скоро давать щели и трещины. Петроград оказался и на втором этапе революции во главе, как ему и надлежало быть. В июле, как и в феврале, он был ушедшим далеко вперед авангардом революции. И этот авангард, призывавший народные массы к открытой борьбе против буржуазии и соглашателей, тяжкой ценой заплатил за произведенную им глубокую разведку.
В июльские дни питерский авангард сшибся с правительством Керенского. Это не было еще восстание, каким мы с вами его проделали в октябре. Это была авангардная стычка, в историческом смысле которой широкие массы провинции еще не отдавали себе полного отчета. Петроградские рабочие в этом столкновении обнаружили перед народными массами не только России, но и всех стран, что за Керенским нет никакой самостоятельной армии; что те силы, которые стоят за ним, являются силами буржуазии, белой гвардии, контрреволюции.
Мы тогда, в июле, потерпели поражение. Товарищ Ленин должен был скрываться. Некоторые из нас сидели в тюрьмах. Наши газеты были задушены. Петроградский Совет был взят в тиски. Типографии партии и Совета были разгромлены, рабочие здания и помещения опечатаны, всюду царил разгул черной сотни. Происходило – другими словами – то самое, что происходит теперь на улицах Берлина. И тем не менее ни у кого из подлинных революционеров не было тогда и тени сомнения в том, что июльские дни – только вступление к нашему торжеству.
Сходная обстановка сложилась за последние дни и в Германии. Как и у нас Петроград, Берлин ушел вперед от остальных народных масс; как и у нас, все враги немецкого пролетариата вопили: нельзя оставаться под диктатурой Берлина; спартаковский Берлин изолирован; нужно созвать учредительное собрание и перенести его в более здоровый провинциальный город Германии из красного Берлина, развращенного пропагандой Карла Либкнехта и Розы Люксембург! – Все то, что врагами было проделано у нас, вся злостная агитация, вся низменная клевета, какую мы слышали здесь, все это – в переводе на немецкий язык – Шейдеманы и Эберты фабриковали и распространяли в Германии по адресу берлинского пролетариата и его вождей – Либкнехта и Люксембург. Правда, разведка берлинского пролетариата развернулась шире и глубже, чем у нас в июле, жертв там больше, потери значительнее, – все это верно. Но это объясняется тем, что германцы проделывают историю, которую мы один раз уже проделали; их буржуазия и военщина умудрены нашим июльским и октябрьским опытом. А главное, классовые отношения у них несравненно более определенные, чем у нас; имущие классы несравненно сплоченнее, умнее, активнее, а значит и беспощаднее.
У нас, товарищи, между февральской революцией и июльскими днями прошло четыре месяца; четверть года понадобилась пролетариату Петрограда, чтобы почувствовать неотразимую потребность выйти на улицу и попробовать потрясти колонны, на которые опирался государственный храм Керенского и Церетели. После поражения июльских дней прошло снова четыре месяца, пока тяжелые резервы провинции подтянулись к Петрограду, и мы могли с уверенностью в победе объявить прямое наступление на твердыни частной собственности в октябре 1917 г.
В Германии, где первая революция, свалившая монархию, разыгралась лишь в начале ноября, в начале января уже происходят наши июльские дни. Не означает ли это, что немецкий пролетариат в своей революции живет по сокращенному календарю? Там, где нам нужно было четыре месяца, ему нужно два. И можно надеяться, что этот же масштаб сохранится и дальше. Может быть, от немецких июльских дней до немецкого Октября пройдет не четыре месяца, как у нас, а меньше – может быть, окажется достаточным двух месяцев, и даже менее того. Но как бы ни пошли дальше события, одно несомненно: те выстрелы, которые посланы были в спину Карлу Либкнехту, могучим эхом отдались во всей Германии. И это эхо похоронным звоном прозвучало в ушах Шейдеманов и Эбертов, германских и иных.
Здесь, вот, пели реквием Карлу Либкнехту и Розе Люксембург. Вожди погибли. Живыми мы их не увидим никогда. Но многие ли из вас, товарищи, видали их когда-либо живыми? Ничтожное меньшинство. И тем не менее, Карл Либкнехт и Роза Люксембург неотлучно жили среди вас последние месяцы и годы. На собраниях, на съездах вы выбирали Карла Либкнехта почетным председателем. Его самого здесь не было, ему не удалось попасть в Россию, – и все же он присутствовал в вашей среде, сидел, как почетный гость, за вашим столом, как свой, как близкий, как родной, – ибо имя его стало не простым названием отдельного человека, – нет, оно стало для нас обозначением всего лучшего, мужественного, благородного, что есть в рабочем классе. Когда любому из нас нужно было представить себе человека, беззаветно преданного угнетенным, закаленного с ног до головы, человека, который не склонял никогда знамени перед врагом, мы сразу называли Карла Либкнехта. Он навсегда вошел в сознание и память народов героизмом действия. В остервенелом лагере врагов, когда победоносный милитаризм все смял и подавил, когда все, кому надлежало протестовать, молчали, когда, казалось, нигде не было отдушины, – он, Либкнехт, возвысил свой голос борца. Он сказал: вы, правящие насильники, военные мясники, захватчики, вы, услужающие лакеи, соглашатели, вы топчете Бельгию, вы громите Францию, вы весь мир хотите задавить, вы думаете, что нет на вас управы, – а я вам заявляю: мы, немногие, не боимся вас, мы объявляем вам войну, и, пробудив массы, мы эту войну доведем до конца! – Вот эта отвага решения, вот этот героизм действия делают для мирового пролетариата образ Либкнехта незабвенным.
А рядом с ним стоит Роза, по духу равная ему воительница мирового пролетариата. Их трагическая смерть – на боевых постах – сочетает их имена особой, навеки несокрушимой связью. Отныне они всегда будут называться рядом: Карл и Роза, Либкнехт и Люксембург!
Вы знаете, на чем основаны легенды о святых, об их вечной жизни? На потребности людей сохранить память о тех, которые стояли во главе их, которые так или иначе руководили ими; на стремлении увековечить личность вождей в ореоле святости. Нам, товарищи, не нужно легенд, не нужно превращения наших героев в святых. Нам достаточно той действительности, в которой мы живем сейчас, ибо эта действительность сама по себе легендарна. Она пробуждает чудодейственные силы в душе массы и ее вождей, она создает прекрасные образы, которые возвышаются над всем человечеством.
Карл Либкнехт и Роза Люксембург – такие вечные образы. Мы ощущаем их присутствие среди нас с поразительной, почти физической непосредственностью. В этот трагический час мы объединяемся духом с лучшими рабочими Германии и всего мира, повергнутыми страшной вестью в скорбь и траур. Мы здесь испытываем остроту и горесть удара наравне с нашими немецкими братьями. В скорби и трауре мы так же интернациональны, как и во всей нашей борьбе.
Либкнехт для нас не только немецкий вождь. Роза Люксембург для нас не только польская социалистка, которая встала во главе немецких рабочих. Нет, они оба для мирового пролетариата свои, родные, с ними мы все связаны духовной, нерасторжимой связью. Они принадлежали до последнего издыхания не нации, а Интернационалу!
К сведению русских рабочих и работниц надо сказать, что Либкнехт и Люксембург стояли особенно близко к русскому революционному пролетариату и притом в самые трудные времена. Квартира Либкнехта была штаб-квартирой русских эмигрантов в Берлине. Когда надо было в немецком парламенте или в немецкой печати поднять голос протеста против тех услуг, которые германские властители оказывали русской реакции, мы обращались прежде всего к Карлу Либкнехту, и он стучался во все двери и во все черепа, в том числе и в черепа Шейдемана и Эберта, чтобы заставить их протестовать против преступлений германского правительства. И мы неизменно обращались к Либкнехту, когда нужно было кому-либо из товарищей оказать материальную поддержку. Либкнехт был неутомим на службе Красного Креста русской революции.
На уже упомянутом съезде германской социал-демократии в Иене, где я присутствовал в качестве гостя, мне, по инициативе Либкнехта, предложено было президиумом выступить по поводу внесенной тем же Либкнехтом резолюции, клеймящей насилие царского правительства над Финляндией. Либкнехт с величайшей тщательностью готовился к собственному выступлению, собирал цифры, факты, подробно расспрашивал меня о таможенных взаимоотношениях между царской Россией и Финляндией. Но прежде чем дело дошло до выступления (я должен был говорить после Либкнехта), получилось телеграфное сообщение о киевском покушении на Столыпина. Телеграмма эта произвела на съезд большое впечатление. Первый вопрос, который возник у руководителей, был таков: удобно ли русскому революционеру выступать на немецком съезде в то время, как какой-то другой русский революционер совершил покушение на русского министра-президента? Эта мысль овладела даже Бебелем: старик, тремя головами выше остальных членов форштанда (ЦК), не любил все же «лишних» затруднений. Он сейчас же разыскал меня и подверг расспросам: что означает покушение? какая партия за него может быть ответственна? не думаю ли я, что в этих условиях своим выступлением обращу на себя внимание немецкой полиции? – Вы опасаетесь, – спросил я осторожно старика, – что мое выступление может вызвать известные затруднения? – Да, – ответил мне Бебель, – признаюсь, я предпочел бы, чтобы вы не выступали. – Разумеется, – ответил я, – в таком случае не может быть и речи о моем выступлении. – На этом мы расстались.
Через минуту ко мне буквально-таки подбежал Либкнехт. Он был взволнован до последней степени. – Верно ли, что они вам предложили не выступать? – спросил он меня. – Да, – ответил я, – только что я условился на этот счет с Бебелем. – И вы согласились? – Как же я мог не согласиться, – ответил я, оправдываясь, – ведь я здесь не хозяин, а гость. – Это возмутительно со стороны нашего президиума, это позорно, это неслыханный скандал, это презренная трусость! – и пр. и пр. Своему негодованию Либкнехт дал исход в своей речи, где он нещадно громил царское правительство, наперекор закулисному предупреждению президиума, уговаривавшего его не создавать «лишних» осложнений в виде оскорбления царского величества.
Роза Люксембург с молодых годов стояла во главе той польской социал-демократии, которая теперь, вместе с так называемой левицей, т.-е. революционной частью польской социалистической партии, объединилась в коммунистическую партию. Роза Люксембург прекрасно говорила по-русски, глубоко знала русскую литературу, следила изо дня в день за русской политической жизнью, связана была теснейшими узами с русскими революционерами и любовно освещала в немецкой печати революционные шаги русского пролетариата. На своей второй родине, Германии, Роза Люксембург, со свойственным ей талантом, овладела в совершенстве не только немецким языком, но и законченным знанием немецкой политической жизни и заняла одно из самых выдающихся мест в старой, бебелевской социал-демократии. Там она неизменно оставалась на крайнем левом крыле.
В 1905 году Карл Либкнехт и Роза Люксембург жили, в подлинном смысле слова, событиями русской революции. Роза Люксембург покинула в 1905 году Берлин для Варшавы, – не как полька, а как революционерка. Освобожденная из варшавской цитадели на поруки она нелегально приезжала в 1906 году в Петроград, где посещала, под чужим именем, в тюрьме некоторых из своих друзей. Вернувшись в Берлин, она удвоила борьбу против оппортунизма, противопоставляя ему пути и методы русской революции.
Вместе с Розой мы пережили величайшее несчастье, какое обрушилось на рабочий класс: я говорю о постыдном банкротстве Второго Интернационала в августе 1914 года.[60] Вместе с нею мы поднимали знамя Третьего Интернационала. И сейчас, товарищи, в той работе, которую мы совершаем изо дня в день, мы остаемся верны заветам Карла Либкнехта и Розы Люксембург; строим ли здесь, в еще холодном и голодном Петрограде, здание социалистического государства, – мы действуем в духе Либкнехта и Люксембург; подвигается ли наша армия на фронтах, – она кровью своей защищает заветы Либкнехта и Люксембург. Как горько, что она не могла защитить их самих!
В Германии Красной армии нет, ибо власть там еще в руках врагов. У нас армия уже есть, она крепнет и растет. А в ожидании того, когда под знаменами Карла и Розы сплотится армия германского пролетариата, каждый из нас сочтет своим долгом довести до сведения нашей Красной армии, чем были Либкнехт и Люксембург, за что погибли, почему память их должна остаться священной для каждого красноармейца, для каждого рабочего и крестьянина.
Нестерпимо тяжек нанесенный нам удар. Но мы глядим вперед не только с надеждой, но и с уверенностью. Несмотря на то, что в Германии сейчас прилив реакции, мы ни на минуту не теряем уверенности в том, что там близок красный Октябрь. Великие борцы погибли не даром. Их смерть будет отомщена. Их тени получат удовлетворение. Обращаясь к этим дорогим теням, мы можем сказать: «Роза Люксембург и Карл Либкнехт, вас уже нет в кругу живущих; но вы присутствуете среди нас; мы ощущаем ваш могучий дух; мы будем бороться под вашим знаменем; наши боевые ряды будут овеяны вашим нравственным обаянием! И каждый из нас клянется, если придет час, и потребует революция – погибнуть, не дрогнув, под тем же знаменем, под которым погибли вы, друзья и соратники, Роза Люксембург и Карл Либкнехт!»
Архив 1919 г.
II. Революция и контрреволюция в России
1. Лицо царской России
Л. Троцкий. ГРАФ ВИТТЕ
(Страничка из истории бюрократической культуры)
«У Остермана, говорят, три бога: немецкий, русский и турецкий. Сначала он помолится немецкому богу, потом – русскому, потом – турецкому, а выйдет из молельной, – всех их и обманет». (Писемский. «Поручик Гладков».)
«Туда вильнул, сюда вильнул – и цел». Островский. «Василиса Мелентьева».
Остерман, впрочем, не уцелел, и многочисленные русские «туристы» могут в далеком холодном и голодном Березове видеть бедный деревянный крест на могиле сановника, который молился трем богам. Но теперь времена другие, и граф Витте может спокойно доживать свой век…
Почему же, однако, граф так изволит утруждать себя? Во имя чего он себя обеспокоивает? То произнесет в государственном совете полную тревоги речь в защиту «прерогатив», против дерзновенных посягательств нынешнего министерства; то поручит сообщить Европе и Америке, что он, граф Витте, как был, так и остается не только против «парламентов», «конституций», «дебатов», но и против «аргументов».
– Но ведь, кажется, вы же сами, ваше сиятельство… – почтительнейше недоумевает человек для американских поручений.
– Оставим это пока. Тут вопрос для историков будущего… Но я все это предвидел.
Граф Витте всегда и все «предвидел». Это единственная счастливая черта, которую он пронес через все свои перевоплощения. И когда события выбрасывали его из канцелярии, поднимали на своей волне вверх и затем беспощадно бросали навзничь, он выжидал первой передышки, чтобы поманить пальцем одного из своих телеграфистов и заявить ему: «Я все это предвидел»… Gouverner c'est prevoir. (Управлять, значит предвидеть.) Но зачем же все-таки навзничь?
Однажды даже старик Суворин[61] не утерпел и сказал сердитое слово. «Мне кажется, – писал он в декабре 1905 года, – что гр. Витте сам себя не понимает. Он думает, что он – гений. Ему об этом твердили так часто иностранные газеты, что он поверил и стал поступать совсем не как гений, а как самый обыкновенный бюрократ, влюбившийся в себя».
На самом деле вовсе не нужно дожидаться историков будущего, чтобы самым несомненнейшим образом убедиться в том, что гр. Витте никогда и ничего большого не предвидел и всегда оказывался жалкой игрушкой тех сил, которые, как ему казалось, он по своей воле создавал. Его преимущества состояли не в том, что он предугадывал будущее, а в том, что он ничем не был связан в прошлом: ни программой, ни нравственными обязательствами, ни происхождением. Удачливый плебей среди родовитых рядов высшего сановничества, недоступный, как и все оно, влиянию общих политических или моральных принципов, Витте имел пред своими соперниками неоценимые преимущества выскочки, не связанного никакими родословно-кастовыми традициями. Это позволило ему развиться в идеальный тип бюрократа – без национальности, без отечества, но с огромной ловкостью рук. Среди закоснелых егермейстеров он казался себе и бирже государственным гением…
Граф недаром напоминал в последнем интервью, что он служил самому самодержавному из российских императоров – Александру III.[62] Его «служение» было насквозь проникнуто воззрениями самого черного фискального византийства. В своем первом всеподданнейшем отчете (на 1893 г.) гр. Витте утверждал, что в России, по особым историческим условиям ее государственного сложения и развития, «финансовое хозяйство не может замкнуться в строго определенных рамках, предустанавливаемых потребностями государственными в общепринятом (!) значении этого слова». И отстаивая этот московско-вотчинный взгляд на достояние государства, гр. Витте не имел никакого понятия о том, что его собственная грюндерско-биржевая политика порождает неотразимую потребность в установлении парламентарного бюджета. И судьба захотела впоследствии именно гр. Витте сделать вестником первой капитуляции вотчинно-византийской государственности пред государственностью европейски-буржуазной. Он принял это поручение – его ничто не связывало.
Во втором своем всеподданнейшем отчете (на 1894 г.) гр. Витте пророчески указывает на сосредоточенные в собственности казны 17 тысяч верст жел. дор., как на «могучее орудие» в руках правительства «для управления экономическим развитием страны». Финансовый делец – без политического образования, без исторического чутья, – он думал, что экономическим развитием можно управлять, как департаментом чиновников или штабом продажных журналистов. История посмеялась над ним. Как раз казенные железные дороги явились «могучим орудием», нанесшим старому порядку жесточайший удар. И не кто иной, как Витте, вел переговоры с представителями железнодорожного союза, именуя их «лучшими силами страны». Он и тут явился посредником – его ничто не связывало.
Вступив с министром внутренних дел, тогдашним ведомственным «либералом» Горемыкиным,[63] в борьбу по поводу введения в неземских губерниях земских учреждений, гр. Витте составляет, т.-е. поручает составить (не Гурьеву ли?)[64] историческую записку на тему о несовместимости самодержавия с земством."… Глухое недовольство, молчаливая оппозиция – говорит записка – живут несомненно и будут жить до тех пор, пока не умрет всесословное земство". Гр. Витте все предвидел. Он даже был убежден, что если заткнуть губернаторской рукавицей маленькую земскую отдушину цензового либерализма, то глухое недовольство само собою превратится в благодарное спокойствие. Увы! скоро, очень скоро, гр. Витте пришлось идею несовместимости абсолютизма и земства истолковывать в том смысле, что знак минуса нужно ставить пред абсолютизмом, а знак плюса пред самоуправлением.
С 1902 г., под влиянием целого ряда весьма выразительных событий, гр. Витте начинает эволюционировать, не лучше ли сказать: передвигаться? – влево. Он открещивается от временных правил, порывает с князем Мещерским[65] и свою записку о земстве поручает своим молодцам истолковывать в конституционном смысле. Он ведет в то же время неутомимую кампанию – не точнее ли сказать: интригу? – против Плеве,[66] созывает комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности и выражает твердое намерение дать им «совершенно откровенно» высказаться.
Но министр финансов давал обещания без хозяина. За высказанные в комитетах – по ведомству Витте – умеренно-конституционные мнения лояльнейшие земцы, как, напр., Мартынов, были – по ведомству Плеве – притянуты к ответу. Высланный из Воронежской губ. в Архангельскую, Мартынов в энергичном письме разъяснил гр. Витте его истинную роль. «Репрессии над членами комитетов, – писал он, – накладывают на правительство и на ваше с-ство тяжкий упрек в бестактности и провокаторстве… Чтобы выйти из унизительного положения, вашему с-ству предстоит или настоять на полном прекращении всяких репрессий… или отказаться от своего поста». Гр. Витте не сделал ни того, ни другого. Очень может быть, что уже тогда он впервые обратился к своим ухмыляющимся собеседникам со словами, предназначенными для «историков будущего»: «Воронежское земство зашевелилось, и вот я прописал ему слабительное».
В тяжбе Витте с Плеве последний был в своем роде принципиальнее и потому оказался сильнее. Гр. Витте пришлось 16 августа 1903 г. потерять портфель министра финансов и перейти на декоративный пост председателя комитета министров. Он принял это «повышение» без всякого удовольствия. Осведомленное в этих делах «Освобождение»[67] сообщало, что «Витте сильно осунулся и похудел». Совершенно напрасно. Это поражение спасло его. Оставаясь активным министром, он вынужден был бы механически развить далее ту политику фискальной диктатуры, которую возвестил в своем первом всеподданнейшем отчете, и в октябре отошел бы в сторону вместе с другими. Оказавшись же фактически не у дел, он превращается в полуопального наблюдателя: критикует все ведомства и своей сановной фронде сообщает форму либеральной оппозиции. Задним числом он старается придать своему ведомственному поражению принципиальный характер. Через своих Гурьевых он открыто выставляет себя противником войны с Японией – после первых больших неудач. Он при этом, однако, умалчивает, «предвидел» ли он, что его собственное дальневосточное грюндерство фатально вело к кровавой развязке. Оставляя всегда quelque chose a deviner (кое-что недосказанным), гр. Витте все настойчивее выдвигает себя на роль спасителя России. Его конфиденты передавали со значительным видом, что он поддерживает все либеральные шаги князя Святополк-Мирского.[68] Накануне 9 января Витте многозначительно разводит руками, отвечая перепуганной либеральной депутации: «Вы знаете, господа, что я… но власть не у меня». После этого дня Витте умывает руки. Биржа должна знать, что он тут не при чем. Он, Витте, все предвидел. Он всегда был против зубатовщины, про которую другие вообразили, что это «квадратура круга». Теперь они видят, что он был прав, как всегда. Через корреспондента «Echo de Paris» («Парижское Эхо») Витте уже прямо ставит свою кандидатуру на пост канцлера империи; при этом условии он обещает сохранить самодержавие. Путем ли введения конституции или путем упразднения земств, он не договаривает. Но он берется разрешить эту неразрешимую «квадратуру круга»…
…Из Портсмута,[69] где он подписался под трактатом, предписанным мировой биржей и ее политическими агентами, он возвращался, как триумфатор. Ему, вероятно, казалось, что не маршал Ойяма, а он, Витте, одержал все победы на азиатском Востоке. На провиденциальном человеке концентрировалось внимание всего буржуазного мира. Все лучи русских событий, отраженные зеркалами мировой биржи, сосредоточивались в одном фокусе, и этим фокусом был Витте. С одинаковой тщательностью регистрировались счета его прачек, как и число расточаемых им демократических рукопожатий. Парижская газета «Matin» («Утро») выставила в витрине кусок промокательной бумаги, которую Витте приложил к своей портсмутской подписи. У зевак общественного мнения все вызывало интерес… Его аудиенция у императора Вильгельма еще более закрепила за ним ореол государственного человека высшего ранга. С другой стороны, его конспиративная беседа с эмигрантом Струве свидетельствовала о том, что ему удастся приручить крамольный либерализм…
По возвращении в Россию, Витте, отныне граф, с уверенным видом занял свой безвластный пост, произносил неопределенно-либеральные речи в комитете и, явно спекулируя на смуту, подмигивал «лучшим силам страны». На этот раз он не ошибся в расчетах: октябрьские события сделали его главой конституционного кабинета.



