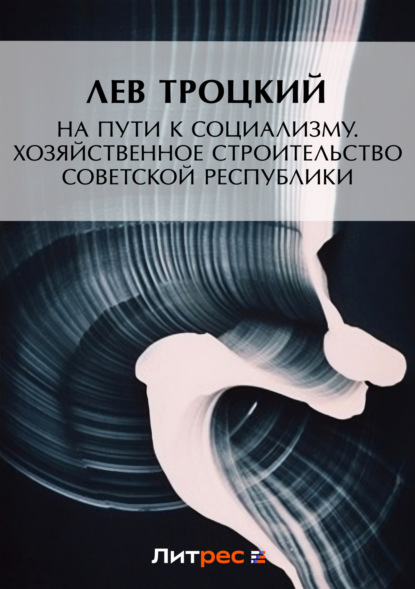 Полная версия
Полная версияНа пути к социализму. Хозяйственное строительство Советской республики
Такова, товарищи, задача, поставленная приказом N 1042: развернуть фронт массового ремонта на заводах, которые специализировались бы по отдельным частям так, чтобы ремонт в конце концов превратился в новое паровозостроение, в производство новых однотипных советских паровозов. Это – грандиознейшая задача, разрешение которой, конечно, составляет величайшую эпоху в жизни не только Советской России, но и в жизни человечества вообще. Каждый подход должен начаться с малого. Этот новый подход и является величайшим завоеванием с точки зрения техники ремонта. Строго говоря, нормализация есть социализм, проведенный в области техники. До сих пор мы начинали с социализма как собственности трудящегося народа, но это – социализм формальный, социализм поверхностный. Мы сказали, что мы переходим к плановому хозяйству, для того чтобы ремонтировать всю страну по единому плану. Нормализованные паровозы – это плановое явление, это новые мелкие толчки, направляющие нас на путь социализма. Но настоящий социализм начинается с нормализацией техники. И только внесение социализма в технику, только нормализация, только научное обобществление в постановке технических сил и средств страны, – только все это будет обозначать подлинную подкладку социалистического фундамента нашей Республики.
Товарищи, от ремонта и перспектив паровозостроения я перехожу теперь к вопросу об эксплуатации железных дорог. План эксплуатации базируется главным образом на том паровозном парке, который мы, в результате выполнения приказа N 1042, имеем в каждый данный момент. Я должен, однако, отметить, что одним капитальным и средним ремонтом по этому приказу мы наш транспорт на полную надлежащую высоту поставить не можем. Нам нужны новые паровозы, которые нам придется покупать за границей, и наши заграничные заказы обещают быть уже скоро выполненными, если, разумеется, не наступят неблагоприятные условия. Наши заграничные заказы уже во второй половине наступающего 1921 года обещают нам дать партию мощных паровозов нашей серии «Э». Они начнут поступать в середине наступающего 1921 года, если не будет, конечно, неблагоприятных международных отношений. Это будет большая помощь для нас и даст нам возможность несколько больше нажать на капитальный ремонт, для того чтобы восстановить необходимое равновесие в нашей ремонтной работе и в нашем паровозном парке.
Вот товарищи, на этих данных и основывается работа эксплуатации. В области эксплуатации за этот период достигнуты, несомненно, значительные успехи. Они выражаются языком цифр: в феврале ежедневная погрузка на нашей сети составляла менее 6.000 вагонов (5.900), в ноябре она составила 12.000 вагонов. Правда, наша сеть за это время возросла, но если мы возьмем работу вагонов на 100 верст, стало быть, независимо от размера сети, то мы получим, что в феврале погрузка на 100 верст составляла 12, а в сентябре 23 вагона, т.-е. возросла на 90 %. Если мы возьмем и проверим работу сети с точки зрения выполнения тех заданий, которые даются междуведомственным органом – Высшим Советом по перевозкам, то мы получим следующие данные, опубликованные на странице 82-й розданного вам печатного отчета: за апрель – 85 %, за май – 104 %, за июнь – 99 %. Затем наступают июль и август – наилучшие месяцы в работе путей сообщения, которые дают, однако, значительное понижение процента выполнения, а именно: в июле – 77 %, в августе – 70 %. Но это не по вине железнодорожного ведомства. В это время у нас имеется значительный резерв подвижного состава, и если говорить о вине, то это происходит по вине тех ведомств, которые являются перевозчиками: невыполнение наряда было вызвано непредъявлением грузов в июле и августе. В сентябре выполнено 110 %, в октябре – 108 % и в ноябре – 105 %. В общем и целом мы имеем превышение выполнения над заданием. Конечно, это говорит о несовершенстве плана. Но превышение лучше невыполнения плана. Если говорить о том, какой план хорош, то, разумеется, тот, который выполняется точка в точку. План не должен быть превышаем в работе. Я уже не говорю о том, что план должен быть выполняем. Но план хорош тот, который, предполагая максимум нагрузки, т.-е. максимум напряжения технических сил и живой рабочей силы, выполняется фактически точка в точку, ибо это значит, что план построен на точном знании всех реальных обстоятельств и условий. Конечно, мы до такого плана еще не доросли. Мы будем идти к нему постепенно. Мы пошли по линии составления плана, не зная, будет ли он исполнен на 100 или на 110 %, и только по результатам полугодовой работы мы увидали, что приказ N 1042 будет выполнен фактически не в 4, а в 3 1/2 года, при условии если работа пойдет дальше не хуже, чем шла до сих пор. Вместе с тем будет развертываться и фронт нашей эксплуатации железных дорог, которая опирается на работу ремонта и паровозостроения, играющего пока что очень малую роль.
Этот фронт будет развертываться также и под влиянием своих собственных причин, т.-е. при помощи применения более точных, правильных и научных методов в использовании каждого живого паровоза. И вот здесь вопрос об учете работы каждого отдельного паровоза является большой и самостоятельной задачей. Паровоз мало построить, мало отремонтировать – нужно следить за его применением в каждый час его жизни. Для этого Комиссариатом Путей Сообщения разрабатываются и уточняются методы более полного использования сил паровоза. Они сводятся к тому, что вводятся более точные системы учета часов работы паровоза. А так как не может быть речи о том, чтоб из единого центра и из единого эксплуатационного или технического управления следить за каждым паровозом на всей сети из часа в час его жизни, так как не может быть речи и о том, чтобы следить за каждым паровозом из управления дорог, то это предполагает известную децентрализацию в области эксплуатации паровозов. Паровоз передается участку движения, или, точнее, не один паровоз, а некоторая сумма, комплекс паровозов, – и за эту группу паровозов отвечает участок, получающий от управления дороги наряд и обязанность следить за жизнью каждого паровоза по часам и вести ему такой текущий счет, чтобы каждый час его жизни был в него занесен. Управление же дороги следит за работой не каждого паровоза, а каждой группы паровозов по участкам. Это избавляет дороги от лишнего бюрократизма и ненужной централизации, и вместе с тем дорога управляет твердо, ибо знает работу двух десятков паровозов со всей точностью. Центр же следит за работой всех комплексов паровозов, которые объединяются по отдельным дорогам, подчиненным центру. Таким путем вся работа, чем дальше, тем больше, должна развиваться в таком направлении, что центр ведет учет всего и вырабатывает общий план; в области же исполнения его дается местам очень большая свобода движения, значительная самостоятельность округам, дорогам и даже участкам дорог. Только высшая централизация, общее руководство, централизация плановых заданий при такого рода децентрализации исполнения обеспечивают полный успех. Это – вывод, к которому Комиссариат Путей Сообщения пришел и на основании старого опыта и исходя из опыта последних месяцев своей работы, в результате чего мы в области эксплуатации железных дорог пришли к необходимости построить более или менее законченный и целостный план на длительный период времени. Сейчас такого рода планы строятся на месяц. Это, в сущности, не планы, а примерные расчеты текущих потребностей разных ведомств и наличия подвижного состава. Накануне первого числа каждого месяца за несколько дней составляется такого рода текущее распределение подвижного состава железных дорог между разными перевозящими ведомствами и утверждается Высшим Советом по перевозкам как верховным органом по распределению перевозной силы железнодорожной сети. Но это тоже эксплуатационное кустарничество, жизнь со дня на день, без широкого хозяйственного плана, без широкой перспективы.
И вот мы поставили перед собой такую задачу: учтя наш паровозный парк за 1921 год, на основании приказа N 1042, и присоединив к этому все улучшения в области эксплуатации паровозных и вагонных парков, учтя все особенности движения на наших железных дорогах в разное время года, мы решили создать план эксплуатации на весь 1921 год, т.-е. сказать: мы сейчас работаем не на отдельный рынок, наша задача сводится к тому, чтоб определенное количество грузов в порядке плановом передвинуть с одного места на другое. Это количество нужно заранее предвидеть и необходимо наметить те месяцы, когда эти грузы будут перевозиться. Нужно иметь точную годовую календарную программу перевозок. Но для этого ведомство должно сказать, какова его перевозочная мощь. И вот, подсчитав парк паровозного состава, прибавив к этому некоторый коэффициент на улучшение его эксплуатации, Комиссариат Путей Сообщения первый раз не только у нас в России, но и вообще в истории транспорта сделал попытку разработать план эксплуатации на 1921 год. На методах этого плана я не буду останавливаться: кто поинтересуется ими, может получить все сведения от наших начальников эксплуатационно-технических управлений. Результат этого плана выражается в следующем: Комиссариат Путей Сообщения говорит всем хозяйственным ведомствам и всей стране: в 1921 году мы сможем вам дать 4 миллиарда 600 миллионов вагоно-верст. Если взять в пудах и не считать военного ведомства, которому предоставляется около 23 % всей перевозочной работы, то получится, что страна в течение года получит от Комиссариата Путей Сообщения 17 1/2 миллионов пудо-верст. Это количество пудо-верст разбито на 3 периода: первый период – равен 3 месяцам года; средний период – следующие 6 месяцев, когда работа дорог гораздо живее, и последний период – 3 месяца поздней осени и начала зимы. Так как не может быть речи о том, чтобы в этом первом плане мы дали совершенно точное исчисление работ, и еще менее возможно, чтобы каждое ведомство в состоянии было точно сказать, сколько именно пудо-верст оно должно будет провезти, бронируется в качестве резерва 25 % всей перевозочной мощи, и этот процент мы включаем как известный резерв на всякие непредвиденные случаи, хотя бы, например, на случай возможной войны, от которой да упасет нас история. Мы, впрочем, предоставляем военному ведомству и так 23 % всей перевозочной способности, – это очень высокий процент. В течение этого последнего года, когда военное ведомство нещадно эксплуатировало транспортную сеть, эта эксплуатация колебалась от 17 до 35 %, и бывали периоды в 35 % – когда из каждых трех паровозов и каждых трех вагонов один паровоз и один вагон состояли на военной службе. Средняя цифра дала 22,8 %, т.-е. около 23 %. Эту среднюю цифру мы сохраняем и на следующий год. Остальное, за вычетом 25 % на непредвиденные потребности, предоставляем всем ведомствам, которые нуждаются в путях сообщения для перевозок. Исходя из этого, Комиссариат Путей Сообщения потребует от других ведомств, чтоб они предъявляли свои перевозочные заказы на весь 1921 год. Таким образом НКПС дает отчет в своих вагонах, в своих паровозах, а затем Экономическое Совещание из месяца в месяц контролирует, в какой мере ведомствами действительно предъявляются грузы и в какой мере НКПС оказывается способным эти грузы перевозить. Мы получаем, таким образом, возможность широкого общегосударственного контроля, проверки всех ведомств в этой области, где они друг с другом соприкасаются и тем самым друг друга контролируют.
На первые 3 месяца 1921 года установлено по плану 12.370 вагонов, в следующие 6 месяцев – по 23.000 ежедневной погрузки и наконец в конце года – 20.000 вагонов погрузки в день. Сейчас мы в день погружаем приблизительно 12 1/2 тысяч вагонов на всей сети дорог. Общая сумма – четыре миллиарда шестьсот миллионов вагоно-верст, предположенная в 1921 году, представляет собою большой шаг вперед, если принять во внимание, что в течение истекающего года мы погрузили не более двух миллиардов двухсот миллионов вагоно-верст. Мы имеем, таким образом, превышение в два раза с лишним. Это превышение опирается исключительно на дальнейшую работу по приказу N 1042, при сохранении того темпа работ, каким мы работаем в настоящее время. Таковы основные положения в области ремонта и в области эксплуатации. Здесь есть еще ряд других вопросов, как, например, вопрос топлива, которого касаться я не буду, равно как и ряда других практических неотложных вопросов, о которых нам доложит тов. Емшанов, нынешний Народный Комиссар путей сообщения, с которым мы совместно выработали тезисы, вам предложенные.
От транспорта железнодорожного я перехожу теперь к вопросу о водном транспорте, который играет у нас роль, не уступающую роли железных дорог, но который сейчас все еще находится, несмотря на принятые меры и приложенные усилия, в еще более тяжелом состоянии, чем железнодорожный. Водный транспорт до войны совершал у нас значительную работу. Если взять среднюю цифру, то в год перебрасывалось 2 1/2 миллиарда пудов по водным путям, в то время как по железным дорогам перебрасывалось около 6 миллиардов пудов. Выходит, что по железным дорогам перевозили почти в три раза больше, но по водным путям перевозили на гораздо более длинные расстояния, и если учесть не только массу груза, но и расстояние, то оказывается, что по водным путям выполнялась работа в 2.000 миллиардов пудо-верст; а по железным дорогам всего 2.700 миллиардов пудо-верст; разница, следовательно, уже не так велика. Мы получили после войны едва ли более 40 – 50 % подвижного состава водного транспорта. Но кроме этого печального факта на состоянии водного транспорта сказалось не менее тяжело и то, что от прошлого мы не получили здесь никаких навыков и методов централизованного государственного управления, ибо огромные принципиальные технически-административные отличия водного транспорта от железнодорожного состоят в том, что последний и в буржуазном обществе был уже глубоко централизован, ибо самая техника железных дорог с прокладкой дорого стоящих путей требует приложения больших капиталов, которые могут быть по силе либо государственной власти, либо могущественной капиталистической ассоциации. Так, например, в России железнодорожный транспорт на 2/3 принадлежал государству, а на 1/3 – частным капиталистам, связанным между собой железнодорожными компаниями. При этом не только казенные пути, но и частные железные дороги входили в общую систему государственной централизации, подлежали контролю государства и в военном отношении находились под прямым командованием централизованной государственной власти. На водных же путях отсутствует необходимость прокладки железных дорог, капиталы применяются гораздо меньшие, и наш водный транспорт в значительной части благодаря этому имел промыслово-кустарный характер. Средства водного транспорта находились в руках отдельных предпринимателей, и никаких почти методов объединенного централизованного управления водным транспортом не было. Их пришлось создавать в труднейших условиях разрушения техники, которая чрезвычайно пострадала во время гражданской войны, и первым требованием разума являлось перенесение опыта централизованной эксплуатации железных дорог в область водного транспорта.
Вместо того чтобы заниматься здесь самодельщиной, отсебятиной, творчеством по изобретению первых букв технического и эксплуатационного алфавита, правильнее было посмотреть в уже готовую азбуку железнодорожного транспорта и взять оттуда все, что может быть пригодно для транспорта водного.
Вот почему объединение бывшего Главода с НКПС не только в области эксплуатации, но и в области общих методов управления явилось элементарным требованием государственного разума. Несмотря на некоторые противодействия части водников дальнейшему организационному сближению, можно с полным основанием сказать, что сближение обоих видов транспорта является условием жизни и смерти для самого водного транспорта. Внесение централизации в водный транспорт дало положительные результаты. Правда, здесь эти результаты труднее иллюстрировать, так как учет работы водного транспорта стоит на более низкой ступени, чем учет работы железнодорожного транспорта. Но вот две грубые цифры: в навигацию 1919 г. перевезено 341 милл. пуд., а в 1920 г. – 583 милл. пуд. Эти цифры не выражают действительных данных по работе в первые 2 года, ибо здесь дано только количество грузов, но не даны расстояния. Правда, в этом году мы имели более благоприятные условия: главнейшие водные артерии были уже вне фронтовой полосы, и, кроме того, в нашем распоряжении имелась нефть. Тем не менее результаты новых методов управления водным транспортом очень значительны.
Товарищи, раздавались голоса и в печати и со стороны советских учреждений, что перенесение методов железнодорожного ведомства – в основе, не в деталях, разумеется, – на ведомство водного транспорта не отвечает интересам дела, что это перенесение до сих пор захватило только верхушки и не отразилось на всей работе. Такого рода соображения и возражения высказывались, и с ними нужно раз навсегда здесь покончить. Нужно уяснить себе, что так как в области железнодорожной мы ушли вперед, то водному транспорту необходимо во что бы то ни стало выравниваться по транспорту железнодорожному, а не наоборот. Я думаю, что, поскольку имеются еще на этот счет сомнения и предрассудки, Всероссийский Съезд Советов скажет твердым голосом, что водный транспорт как более отсталый, менее совершенный, как кустарнически-раздробленный, должен в дальнейшем тесно примкнуть к транспорту железнодорожному и равняться по его более совершенным научным методам.
Нечего и говорить, что в области эксплуатации для нас не существует вообще водного и железнодорожного транспорта, а существуют только пути сообщения, грузы и пассажиры. Мы должны такое-то количество грузов перебросить из одного места в другое, а необходимые для этого пути – река, море, железная дорога, шоссе – все они являются разновидностями одного и того же объединенного и централизованного транспорта. Разумеется, мой доклад был бы полнее, если бы я мог доложить о состоянии наших подъездных путей, шоссейных дорог и местного транспорта. Но эти области транспорта не входят в Наркомпуть, и, насколько я осведомлен, профсоюз этого местного транспорта имеет в виду внести известное предложение на ваше одобрение.
В заключение я остановлюсь на общей организации Комиссариата Путей Сообщения. Здесь, товарищи, мы в центре усилили централизацию в том смысле, что над техническим, эксплуатационным, административным, материально-хозяйственным, финансовым и другими центральными органами поставили Главное Управление как центральный штаб путей сообщения, с начальником этого штаба в лице выдающегося транспортного работника тов. Борисова. И этот всероссийский центральный штаб путей сообщения объединяет в своих руках работу всех путей, всех управлений, всю их текущую повседневную работу. Нам указывали на то, что такая централизация может превратиться в чрезмерную бюрократизацию, может создать волокиту, рутину и пр. Я этого не думаю, потому что в этом организационном аппарате есть все необходимые предохранительные клапаны, которые открывают выход из ведомственных рамок на все наше хозяйственное поле в целом. У нас есть Техническое Управление, Эксплуатационное Управление – важнейшие управления, которые непосредственно подчинены Главному Управлению путей сообщения. Наряду с работой Наркомпути транспорт регулируется еще Основной Транспортной Комиссией в одном отношении и Высшим Советом по перевозкам в другом отношении.[225] Это как бы два крыла наряду с нашим централизованным механизмом. Эти два крыла, более широкие и междуведомственные, в дальнейшем будут непосредственно подчинены Экономическому Совещанию Совета Труда и Обороны. Основная Транспортная Комиссия представляет собой междуведомственный военный совет по вопросам транспорта в области ремонта, паровозостроения и вообще материального снабжения. И этот военный совет по делам транспорта, это боевое совещание в области технической и материально-хозяйственной, являясь междуведомственным, обозревает транспорт не в его внутренней замкнутости, а с точки зрения хозяйства страны в целом.
Высший Совет по перевозкам рассматривает транспорт как орудие перевозок в том виде, в каком транспорт имеет значение опять-таки с точки зрения хозяйства страны в целом. Таким образом, если мы имеем высокую централизованную башню управления транспортом, которая увенчивается в области аппарата этим единым центральным штабом – Главным Управлением, то, с другой стороны, в этой башне есть два широко открытых окна: одно в области ремонта паровозостроения, другое – в области перевозок. Эти окна широко открыты на все наше хозяйство республики в целом. И эти два междуведомственных органа являются совершенно незаменимыми регуляторами, спасающими ведомство от разобщения, от замкнутости и внутренней бюрократизации.
Наконец, то, о чем я уже говорил ранее – централизация, чем дальше, тем больше применяется в области выработки общих норм и заданий, и этой централизации, более могущественной и, если позволено так сказать, более централистической, можно нам только пожелать, ибо железнодорожный транспорт вообще никогда не знал плановых заданий. Но поскольку речь идет об исполнении, центр тяжести у нас переносится на округа, на области, на реки, и чем богаче мы станем, чем больше будет подвижного состава, тем значительнее будет самостоятельность мест. Вначале железные дороги еле-еле могли справляться с задачами центра, и весь подвижной состав гнался по указке центра. Но чем богаче мы станем подвижным составом, в особенности же углем и топливом, тем больше округа и дороги смогут удовлетворять местные потребности за выполнением потребностей общегосударственных. Это значит, что каждый округ будет не только получать плановые задания из центра и их выполнять, но будет строить свои планы для окружных перевозок. Дороги и участки будут иметь планы местных перевозок, которые будут регулироваться там же, на местах. Это относится ко всей нашей хозяйственной жизни в целом.
Наконец, товарищи, у нас есть еще одно противоядие против всевозможных бюрократических увлечений ведомств. И это противоядие будет крепнуть, чем дальше, тем больше. Это противоядие есть работа профсоюза работников транспорта. До сих пор, в частности в своем новом составе, в течение последнего полугодия он работал рука об руку с лучшими руководителями железнодорожников и водников и больше в области железнодорожной, ибо сюда направлялись наши первые и главнейшие усилия. Здесь был создан временный подсобный орган в виде Главполитпути, руководимый нашим выдающимся военным работником тов. Розенгольцем. Выполнивший свою миссию и ныне упраздненный, Главполитпуть сыграл – смею сказать это пред всем Съездом – решающую роль в деле возрождения железнодорожного транспорта. Если бы в известные трагические месяцы у нас не было Главполитпути, который привлек тысячи видных, испытанных в разных работах работников, внесших методы жестокие, временные, исключительные, но без которых транспорт наш погиб бы, – если бы не было Главполитпути, созданного Советом Народных Комиссаров, то ведомство – со старым своим аппаратом, со старыми методами работы – с возложенными на него задачами справиться не смогло бы. Но, разумеется, все мы и Советская власть в целом смотрели на Главполитпуть как на аппарат временный, вызванный исключительными условиями пережитой зимы и осени. И как только на транспорте стало легче дышать, немедленно был поставлен и ныне разрешен вопрос об упразднении Главполитпути.
Отныне вся выполнявшаяся им работа переходит, естественно, в профессиональный союз транспортных рабочих, и здесь для меня, на основании истекшего опыта, нет никакого сомнения в том, что, чем дальше, тем более, работники в деле возрождения транспорта будут работать на новых производственных основах. Ибо, товарищи, если Главполитпуть, Цекпрофсож и Цектран сослужили огромную службу Советской России в области спасения транспорта, то, с другой стороны, благодаря опыту своей работы, они установили новые принципы дисциплины, чем, главным образом, смогли и сумели поднять трудовой энтузиазм среди широких рабочих кругов. Это особенно нами чувствуется в области выполнения приказа N 1042. Вы знаете, что этот приказ и его выполнение были поставлены как бы под стеклянный колпак, так что за работой каждой мастерской имела возможность следить вся страна. Были сотни тысяч собраний, конференций, совещаний и т. д. – я не говорю уже о статьях, воззваниях, в которых идея приказа популяризировалась и таким путем вводилась в сознание каждого мыслящего и честного железнодорожника. Если бы нам не удалась эта агитация и пропаганда если бы нам не удалось задеть за живое каждого честного железнодорожника, – никогда никакие усилия, никакой трибунал, никакая военная дисциплина не могли бы добиться того, чтобы был поднят средний ремонт в 4 раза и чтобы понизился процент больных паровозов. И если и далее пропаганда – в чем я ни минуты не сомневаюсь, в чем я не имею основания сомневаться – будет развиваться, если она и впредь будет продолжаться, опираясь на твердые и испытанные методы работы и принципы дисциплины, на основе сознательного и активного участия организованных рабочих в деле транспорта, то, несомненно, профессиональный союз будет справляться с работой по возрождению транспорта, и не только с этой работой, но и с другими задачами, в частности с улучшением материального благополучия как рабочих, так и служащих путей сообщения. Эту сторону, материальную, незачем прикрашивать перед настоящим Всероссийским Съездом: надо сказать, что положение работников транспорта в материальном отношении очень тяжелое. И те комиссии, которые следили за ремонтом, в конце каждого своего доклада отмечали, что положение как рабочих, так и служащих в отношении жилищном, продовольственном, а также в отношении одежды в высшей степени тяжелое. Пусть же следующий 1921 год будет годом исключительных забот о каждом рабочем, в том числе и о железнодорожных тружениках. Здесь необходимо привлечение местных советов и местных советских учреждений к большим заботам, чем это было до сих пор, о работниках железнодорожного и водного транспорта. Как мы ни бедны, как мы ни истощены, но в этой области можно достигнуть достаточного улучшения, если внести сюда элементы инициативы и коллективизма.



