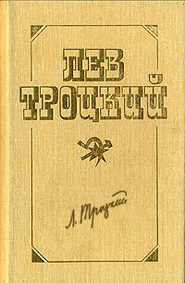 Полная версия
Полная версияМежду империализмом и революцией
Великая империалистская бойня внесла резкие изменения в этот вопрос: все буржуазные и социал-патриотические партии ухватились за национальное самоопределение, – но с другого конца. Воюющие правительства изо всех сил стремились овладеть этим лозунгом, сперва в войне друг с другом, потом в борьбе с Советской Россией. Германский империализм играл с национальной независимостью поляков, украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, финнов, кавказских народов сперва против царизма, затем более широко – против нас. Антанта вместе с царизмом держала курс на «освобождение» народов Австро-Венгрии, Германии и Турции, а затем, лишившись сотрудничества царизма, перешла к «освобождению» окраинных народов России.
Советская Республика, унаследовав насилием и гнетом скованную царскую империю, открыто провозгласила свободу национального самоопределения и свободу национального отчленения. Понимая огромное значение этого лозунга в переходную эпоху к социализму, наша партия ни на минуту не превращала демократический принцип самоопределения в абсолют, господствующий над всеми остальными историческими потребностями и задачами. Хозяйственное развитие современного человечества имеет глубоко централистический характер. Капитализм создал основные предпосылки для планового хозяйства в мировом масштабе. Империализм есть только хищное капиталистическое выражение этой потребности в объединенном руководстве всем хозяйством земли. Каждой из могущественных империалистских стран тесно в пределах национального хозяйства, и она хочет более широкого рынка. Ее целью, по крайней мере идеальной, является монополия хозяйства всего мира. На языке капиталистического хищничества и разбоя здесь находит свое выражение основная задача нашей эпохи: установление соответствия между хозяйствами всех частей света и построение в интересах всего человечества гармонического мирового производства, проникнутого началом наивысшей экономии сил и средств. Это и есть задача социализма.
Совершенно очевидно, что принцип национального самоопределения ни в каком случае не стоит над объединительными тенденциями социалистического хозяйственного строительства. В этом отношении он занимает в ходе исторического развития то подчиненное место, которое отведено демократии вообще. Социалистический централизм не может, однако, прийти непосредственно на смену централизму империалистическому. Угнетенные народности должны получить возможность свободно расправить свои члены, отекшие под цепями капиталистического принуждения. Как долго затянется период самоудовлетворения национальной независимостью Финляндии, Чехо-Словакии, Польши и проч. и проч., – зависит прежде всего от общего хода развития социальной революции. Но хозяйственная несостоятельность отдельных национально-государственных клеток, изолированных друг от друга, со всей остротой сказывается уже на второй день после рождения на свет каждого нового национального государства.
Пролетарская революция не имеет ни в каком случае своей задачей или своим методом механическое национальное обезличение и принудительное сплочение. Борьба в области языка, школы, литературы, культуры ей безусловно чужда, так как ее руководящим началом являются не профессиональные интересы интеллигенции и «национальные» интересы лавочников, а самые основные интересы рабочего класса. Победоносная социальная революция каждой национальной группе предоставит полную возможность нестесненного разрешения задач национальной культуры, объединив в то же время – к общей выгоде и с общего согласия трудящихся – хозяйственные задачи, которые требуют планового разрешения в зависимости от естественно-исторических и технических данных, но никак не от национальных группировок. Советская федерация создает для соподчинения национальных и хозяйственных потребностей наиболее подвижную и эластичную государственную форму.
Между Западом и Востоком Советская Республика выступила во всеоружии двух лозунгов: диктатуры пролетариата и национального самоопределения. В отдельных случаях эти две ступени могут оказаться отделенными друг от друга всего несколькими годами или даже месяцами. По отношению к великому царству Востока этот промежуток будет измеряться скорее десятилетиями.
В революционных условиях России оказалось достаточным девяти месяцев демократического режима Керенского – Церетели, чтобы подготовить условия победы пролетариата. По сравнению с режимом Николая и Распутина[83], режим Керенского – Церетели был историческим шагом вперед: в этом признании, от которого мы, разумеется, никогда не отказывались, заключается не формальная, профессорская, поповская, макдональдовская, а революционная, историческая, материалистическая оценка действительного значения демократии. Свое самостоятельное прогрессивное значение она успела исчерпать в течение трех четвертей года революции. Это, конечно, не значит, что можно было в октябре 1917 года путем референдума получить формально точный ответ от большинства рабочих и крестьян на вопрос о том, считают ли они, что с них достаточно подготовительного демократического курса исторической школы. Но это значит, что после девяти месяцев демократического режима завоевание власти пролетарским авангардом уже не рисковало наткнуться на отпор непонимания и предрассудков большинства трудящихся, а, наоборот, сразу получало возможность расширять и укреплять свои позиции, активно привлекая и завоевывая сознание все более широких трудящихся масс. В этом, с разрешения тупоголовых педантов демократии, и состоит великое значение советской системы.
Национальное отделение бывших окраин царской империи и их превращение в самостоятельные мелкобуржуазные республики имело то же относительно прогрессивное значение, как и демократия в целом. Только империалисты и социал-империалисты могут отказывать угнетенным народам в праве на отделение. Только фанатики и шарлатаны национализма могут видеть в этом самоцель. Для нас национальное самоопределение являлось и остается исторически неизбежной во многих случаях ступенью к диктатуре рабочего класса, который уже силою законов революционной стратегии развивает в процессе гражданской войны, в противовес национальному сепаратизму, глубоко централистические тенденции, вполне совпадающие в дальнейшем с потребностями планового социалистического хозяйства.
Как скоро классовый отпор иллюзии «самостоятельного» государственного существования сделает возможным завоевание власти рабочим классом, зависит как от общего темпа революционного развития (об этом уже сказано), так и от специальных внутренних и внешних условий данной страны. В Грузии фиктивная национальная независимость держалась три года. Нужно ли было трудовым массам Грузии действительно три года на то, чтобы в достаточной мере износить национальные иллюзии, – и достаточно ли было трех лет, – на этот вопрос нельзя дать академический ответ. Референдум и плебисцит в обстановке ожесточенной борьбы империализма и революции на каждом клочке мировой территории превращаются в фикцию. Как они устраиваются, об этом можно навести справку у господ Корфанти[84], Желиховского[85] или в соответственных комиссиях Антанты. Для нас вопрос разрешается не методами формально-демократической статики, а методами революционной динамики. В чем действительная сущность дела? В том, что советский переворот в Грузии, совершенный, несомненно, при активном участии Красной Армии – было бы предательством не помочь рабочим и крестьянам Грузии вооруженной силой, раз она у нас была! – разыгрался после политического опыта трех лет «независимости» Грузии в таких условиях, которые вполне обеспечили ему дальнейший политический, а не только временный военный успех, то есть дальнейшее расширение и укрепление советского фундамента самой Грузии. А в этом именно, с позволения тупоголовых педантов демократии, и состоит революционная задача.
Политики II Интернационала, вслед за своими наставниками из буржуазно-дипломатических канцелярий, делают гримасы убийственной иронии по поводу признания нами права на национальное самоопределение. – Ловушка для простаков! Приманки красного империализма! – На самом-то деле приманки расставляет на пути сама история, которая не решает задач прямолинейно. И уж, во всяком случае, не мы превращаем зигзаги исторического развития в ловушки. Ибо, делом признавая право на национально-государственное самоопределение, мы всегда открыто выясняем массам его ограниченное историческое значение и ни в каком случае не подчиняем ему интересы пролетарской революции.
Признание права на самоопределение со стороны рабочего государства есть тем самым признание того, что революционное насилие не является всемогущим историческим фактором. Советская Республика ни в каком случае не собирается заменять своей вооруженной силой революционные усилия пролетариата других стран. Завоевание им власти должно вырасти из его собственного политического опыта. Это не значит, что революционные усилия трудящихся, хотя бы той же Грузии, не могут найти вооруженную поддержку извне. Нужно только, чтоб эта поддержка явилась в такой момент, когда потребность в ней подготовлена предшествующим развитием и назрела в сознании революционного авангарда, имеющего за собой сочувствие большинства трудящихся. Это вопросы революционной стратегии, а не формального демократического ритуала.
Реальная политика сегодняшнего дня требует от нас всемерного согласования интересов рабочего государства с условиями, вытекающими из его окружения большими и малыми буржуазными национально-демократическими государствами. Именно этими соображениями, вытекающими из учета фактических сил, определялась наша уступчивая, терпеливая, выжидательная политика по отношению к Грузии. Но когда это соглашательство, исчерпав себя политически, не давало даже элементарных гарантий безопасности; когда принцип самоопределения в руках генерала Уоккера и адмирала Дюмениля стал юридической гарантией контрреволюции, подготовлявшей новый удар против нас, мы не видели и не могли видеть никаких принципиальных препятствий к тому, чтобы, по призыву революционного авангарда Грузии, ввести в нее красные войска и помочь рабочим и беднейшим крестьянам опрокинуть в кратчайший срок и с минимальными жертвами ту жалкую демократию, которая сама погубила себя своей политикой.
Мы не только признаем, но всемерно поддерживаем принцип самоопределения там, где он направлен против феодальных, капиталистических, империалистических государств. Но там, где фикция самоопределения превращается руками буржуазии в орудие, направленное против революции пролетариата, у нас нет никакого основания относиться к этой фикции иначе, чем к другим «принципам» демократии, превращенным капиталом в свою противоположность.
Что в отношении Кавказа советская политика оказалась правильной также и в национальном отношении, об этом лучше всего свидетельствуют нынешние взаимоотношения закавказских народов.
Эпоха царизма была эпохой варварских национальных погромов на Кавказе. Армяно-татарская резня вспыхивала периодически. Кровавые взрывы под чугунной крышкой царизма являлись продолжением вековой борьбы закавказских народов между собой.
Эпоха так называемой демократии придала национальной борьбе гораздо более резко выраженный и организованный характер. Стали создаваться на первых же порах национальные армии, враждебные друг другу и нередко открывавшие друг против друга военные действия. Попытка создания буржуазной федеративно-демократической Закавказской республики потерпела жалкий и постыдный крах. Через пять недель после создания федерация распалась. Через несколько месяцев «демократические» соседи уже открыто воевали друг с другом. Один этот факт решает вопрос. Ибо, если демократия, вслед за царизмом, оказалась неспособной создать условия хотя бы только мирного сожительства народов Закавказья, необходимо было, очевидно, вступить на новый путь.
Только Советская власть внесла умиротворение в национальные взаимоотношения. При выборах в Советы бакинские и тифлисские рабочие выбирают татарина, армянина или грузина, не справляясь об их национальности. В Закавказье бок-о-бок живут мусульманские, армянские, грузинские и русские красные полки. Они себя чувствуют и сознают единой армией. Никакая сила не двинет их друг против друга. Зато все они будут отстаивать Советское Закавказье против всякого внешнего или внутреннего покушения.
Национальное умиротворение Закавказья, достигнутое советской революцией, есть само по себе факт огромного политического и культурного значения. Тут творится действительный и живой интернационализм, который мы можем спокойно противопоставить пустопорожным пацифистским речам героев II Интернационала, дополняющим шовинистическую практику его национальных составных частей.
Требование увода советских войск из Грузии и организации референдума «под контролем смешанных комиссий из социалистов и коммунистов» представляет собой одну из самых низкопробных империалистских ловушек под демократическим флагом национального самоопределения.
Мы оставляем в стороне ряд кардинальных вопросов: на каком основании демократы хотят нам навязать демократическую форму опроса населения вместо более высокой, с нашей точки зрения, советской формы? Почему применение референдума ограничивается одной Грузией? Почему такое требование предъявляется только Советской Республике? Почему социал-демократы хотят проводить референдум у нас, тогда как они не производят ничего похожего у себя дома?
Станем на позицию наших противников, если у них есть подобие позиции. Выделим вопрос о Грузии и рассмотрим его изолированно. Задачей ставится: создание условий свободного (демократического, а не советского) волеизъявления грузинского народа.
1. Кто с кем договаривается? Кто обеспечивает действительное выполнение договорных условий: с одной стороны, очевидно, союзные советские республики; а с другой? Не II ли Интернационал? Но где его материальная сила, которая могла бы обеспечить соблюдение условий?
2. Если даже принять, что договаривается рабочее государство с… Гендерсоном и Вандервельде, и что в соответствии с этим контрольные комиссии создаются из коммунистов и социал-демократов – как быть с «третьей» силой, – с империалистскими правительствами? Не вмешаются ли они? Или социал-демократические приказчики ручаются за своих хозяев? Но где материальные гарантии?
3. Советские войска должны быть уведены из Грузии. Но западная граница Грузии омывается Черным морем. А на нем безраздельно господствуют военные корабли Антанты. Белогвардейские десанты, высаживавшиеся с кораблей Англии и Франции, достаточно знакомы населению Кавказа. Советские войска уйдут, а империалистский флот останется. Для грузинского населения это будет означать, что оно должно какой угодно ценой искать соглашения с действительным хозяином положения, с Антантой. Грузинский крестьянин должен будет сказать себе, что, хотя он и предпочитает Советскую власть, но так как она вынуждена почему-то (очевидно потому, что слаба) очистить территорию, несмотря на постоянную угрозу со стороны империализма, то ему, грузинскому крестьянину, нужно искать посредников между собою и этим империализмом. Не таким ли путем хотите вы учинить насилие над свободной волей грузинского народа и навязать ему меньшевиков?
4. Или нам предложат увести военные корабли Антанты из Черного моря? Кто предложит: правительства Антанты или мистрис Сноуден? Этот вопрос (см. п. 2) имеет некоторое значение. Просим разъяснений!
5. Куда будут уведены военные корабли: в Мраморное море? или в Средиземное? Но при господстве Англии над проливами эта дистанция не имеет никакого значения. Какой же выход?
6. Может быть, запереть проливы на ключ? И, может быть, уж заодно вручить ключ Турции? Ибо из принципа национального самоопределения никак не вытекает, что Великобритания должна господствовать над турецкими проливами, над Константинополем, над Черным морем и тем самым над его побережьем, особенно если напомнить, что наш черноморский флот уведен белыми бандитами и находится в руках Антанты.
И прочее, и прочее, и прочее.
Мы согласились поставить вопрос так, как пытаются его ставить наши противники, то есть в плоскости демократических принципов и гарантий. И оказалось, что нас пытаются самым бесцеремонным образом обмануть; от нас требуют материального разоружения советской территории, а в качестве гарантии против империалистских и белогвардейских захватов и переворотов нам предлагают… резолюцию II Интернационала.
Или, может быть, никаких империалистских опасностей Кавказу не грозит? Мистрис Сноуден ничего не слышала о бакинской нефти? Возможно, возможно. Можем сообщить ей по этому поводу, что путь в Баку ведет через Батум-Тифлис. Этот последний пункт является стратегическим фокусом Закавказья, что не безызвестно английским и французским генералам. На Кавказе существуют и сейчас белогвардейские заговорщические организации, под очень торжественными именами «комитетов освобождения», что не мешает им получать денежные субсидии со стороны английских и русских нефтепромышленников, итальянских марганцепромышленников и пр. Морским путем белым бандам доставляется оружие. Борьба идет из-за нефти и марганца. Нефтепромышленникам совершенно все равно, как дорваться до нефти: через Деникина, через мусульманскую партию мусават или через ворота «национального самоопределения» с привратниками из II Интернационала. Если Деникину не удалось разбить Красную Армию, может быть, Макдональду удастся увести ее мирным путем? Результат был бы тот же самый.
Но Макдональду не удастся. Такие вопросы не решаются резолюциями II Интернационала, даже если бы эти резолюции и не были так жалки, противоречивы, вороваты и косноязычны, как резолюция о Грузии.
БУРЖУАЗНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, КОММУНИЗМ
Остается еще спросить, на каком собственно основании они, люди II Интернационала, требуют от нас, от Советской Федерации, от коммунистической партии, чтоб мы очистили Грузию. Во имя каких начал? Допустим, что Грузия действительно насильственно оккупирована, и что в этом нашел свое выражение советский империализм. Но что дает Гендерсону, члену II Интернационала, бывшему великобританскому министру, право требовать от нас, от организованного в государство пролетариата, от III Интернационала, от революционного коммунизма, чтобы мы, ради его благочестивых глаз, разоружили Советскую Грузию? Когда этого требует г. Черчилль, он показывает рукою на длинные хоботы морских пушек и на колючую проволоку блокады. Ну, а на что указывает рукою г. Гендерсон: на священное писание, на партийную программу или на свои дела? Но священное писание есть наивный миф; программа г. Гендерсона – миф, но без наивности; а дела его всецело свидетельствуют против него.
Не так давно Гендерсон был министром одной из демократий – своей собственной, великобританской. Почему же он не настоял, чтоб эта демократия, в защиту которой он готов на всякие жертвы и даже на принятие министерского портфеля из рук либерально-консервативного Ллойд-Джорджа, – почему же он не настоял и даже не пробовал настоять, чтобы эта демократия начала осуществлять – не наши, о, нет! – а свои собственные и его, Гендерсона, принципы? Почему он не требовал эвакуации Индии и Египта? Почему он не поддержал в свое время требования ирландцев о полном освобождении их от великобританского ига? Мы знаем, что Гендерсон, как и Макдональд, в положенные для этого дни протестует в меланхолических резолюциях против излишеств великобританского империализма. Но этот бессильный и безвольный протест никогда не грозил и не грозит действительным интересам колониального владычества английского капитала, никогда не вел и не ведет к мужественным и решительным действиям и имеет своей задачей облегчить угрызения совести «социалистическим» гражданам правящей нации и дать выход недовольству английских рабочих, а вовсе не разбить цепи колониальных рабов. Господство Англии над колониями Гендерсоны считают не вопросом политики, а фактом естественной истории. Они никогда и нигде не заявляли, что индусы, египтяне и прочие порабощенные народы имеют право, более того, обязаны перед своим будущим восстать с оружием в руках против английского владычества, и никогда не брали на себя, как «социалисты», обязательства при первой же возможности с оружием в руках помочь освободительной борьбе колоний. Уж тут-то, во всяком случае, не может быть сомнения, что дело идет об элементарнейшем архидемократическом долге, притом в двойном смысле: во-первых, колониальные рабы составляют, несомненно, подавляющее большинство по сравнению с ничтожным господствующим британским меньшинством, во-вторых, само это меньшинство и прежде всего его официальные социалисты признают принципы демократии руководящими началами своего существования. Вот Индия! Почему Гендерсон не поднимает мятежного движения в пользу увода из Индии британских войск? Ведь более явного, чудовищного, вопиюще бесстыдного попрания законов демократии, чем господство британского капиталистического спрута над огромным телом этой несчастной, порабощенной страны, нет и быть не может! Казалось бы, что Гендерсон, Макдональд и прочие должны бы изо дня в день, и не только днем, но и ночью, бить тревогу, требовать, призывать, обличать, проповедовать восстание индусов и всех английских рабочих против бесчеловечного попрания принципов демократии. Но нет, они молчат или, еще хуже, время от времени, скрывая зевок, подписывают резонерскую, пустую и пресную, как английская проповедь, резолюцию, имеющую своей целью показать, что, оставаясь целиком на почве колониального господства, они предпочитали бы иметь его розы без шипов, и что во всяком случае они не согласны исколоть об эти шипы свои руки лояльных британских социалистов. Когда это вызывается будто бы демократическими и патриотическими соображениями, Гендерсон спокойно усаживается в кресло королевского министра, и ему как бы и в голову не приходит, что это кресло опирается на самый анти-демократический в мире пьедестал: господство численно ничтожной капиталистической клики, через посредство нескольких десятков миллионов британского народа, над несколькими сотнями миллионов цветных рабов Азии и Африки. Более того, во имя защиты этого чудовищного господства, прикрытого формами демократии, Гендерсон вступил в союз с открытой военно-полицейской диктатурой русского царизма. Вы были министром русского царизма, г. Гендерсон, поскольку вы были министром войны. Не извольте забывать! И уж, конечно, Гендерсону и в голову не приходило требовать от царя, своего патрона и союзника, чтобы он уводил русские войска из Грузии, или из других порабощенных им территорий. Предъявление такого рода требований он объявил бы в то время услугой германскому милитаризму. Всякое революционное движение в Грузии против царя он рассматривал так же, как восстание в Ирландии, т.-е. как результат немецкого подкупа и немецкой интриги. Поистине, голова может пойти кругом от этих чудовищных, вопиющих противоречий и несообразностей! И однако же они в порядке вещей. Ибо господство Великобритании, т.-е. ее правящих верхов, над одной четвертью человечества Гендерсоны считают не вопросом политики, а фактом естественной истории. Анти-демократический, эксплуататорский, плантаторский, паразитический взгляд на расы, которые отличаются цветом кожи, не читают Шекспира и не носят глаженых воротничков, пропитал насквозь этих демократов, которые были и останутся пленниками буржуазного общественного мнения вместе со всем своим социализмом фабианским, худосочным и немощным.
И вот, имея за спиной царскую Грузию, Ирландию, Египет, Индию, они отваживаются требовать от нас, своих противников, а не союзников, очищения Советской Грузии! В этом сумбурном, насквозь несостоятельном требовании есть, однако, – как это ни неожиданно на первый взгляд, – невольная дань уважения пролетарской диктатуре со стороны мещанской демократии. Сами того не сознавая, или сознавая это только наполовину, Гендерсон и K° говорят: «Разумеется, от буржуазной демократии, министрами которой мы становимся, когда она нас к этому призывает, нельзя требовать, чтобы она серьезно считалась с демократическим принципом самоопределения; от нас, социалистов этой демократии, респектабельных граждан господствующей нации, прикрывающей свое рабовладельчество демократическими фикциями, нельзя требовать, чтоб мы всерьез и делом помогали колониальным рабам восстать против рабовладельцев. Но вы, воплотившаяся в государство революция, обязаны сделать то, чего мы, по трусости, по лживости и лицемерию, сделать не можем».
Другими словами, формально ставя демократию выше всего, они вольно или невольно признают, что к диктатуре пролетариата можно и должно предъявлять такие высокие требования, которые показались бы смешными и просто глупыми, если бы их адресовать буржуазной демократии, у которой они сами состоят в министрах или в лояльных депутатах.
Но этому своему невольному уважению отвергаемой ими пролетарской диктатуре они придают ту форму, какая свойственна их политическому косноязычию. Они требуют, чтобы диктатура утверждала и защищала себя не своими собственными методами, а теми, какие они признают на словах обязательными для демократии, но которых они никогда не осуществляют. Мы уже говорили об этом в первом манифесте Коммунистического Интернационала: наши враги требуют от нас, чтобы мы защищали свою жизнь не иначе, как по условным правилам французской борьбы, то есть по тем правилам, которые созданы нашими врагами, но которые они же считают для себя в борьбе с нами необязательными.



