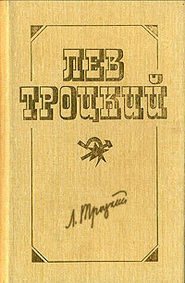 Полная версия
Полная версияИсторическое подготовление Октября. Часть II: От Октября до Бреста
ЗАТРУДНЕНИЯ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ
Внутреннее положение тем временем осложнялось и ухудшалось. Война тянулась без цели, без смысла и без перспектив. Правительство не делало никаких шагов, чтобы вырваться из порочного круга. Был выдвинут смехотворный план посылки меньшевика Скобелева в Париж для воздействия на союзных империалистов. Но этому плану ни один здравомыслящий человек не придавал серьезного значения. Корнилов сдал немцам Ригу, чтобы терроризировать общественное сознание и в этой атмосфере утвердить палочную дисциплину в армии. Опасность грозила Петрограду. И буржуазные элементы встречали эту опасность с явным злорадством. Бывший председатель Думы Родзянко открыто говорил о том, что сдача немцам развращенного Петрограда не составит большой беды. Он ссылался на пример Риги, где после вступления немцев были упразднены Советы Депутатов и вместе со старыми городовыми водворился твердый порядок. Погибнет Балтийский флот? Но флот развращен революционной пропагандой: потеря, стало быть, не столь велика. В этом цинизме болтливого барина выразились затаенные мысли широких кругов буржуазии. Сдача Петрограда немцам ведь не означает еще потери его. По мирному договору Петроград вернется, но вернется, помятый немецким милитаризмом. Революция тем временем останется обезглавленной, с ней легче будет справиться. Правительство Керенского не думало о серьезной обороне столицы. Наоборот, общественное мнение подготовлялось к ее возможной сдаче. Из Петрограда в Москву и другие города эвакуировались правительственные учреждения.
В этой обстановке собралась солдатская секция Петроградского Совета. Настроение было напряженным и тревожным. – Правительство неспособно защитить Петроград? В таком случае пускай заключает мир. А если неспособно заключить мир, пускай убирается прочь. – В таком постановлении выразилось настроение солдатской секции. Это была уже зарница Октябрьской Революции.
На фронте положение ухудшалось с каждым днем. Надвигалась холодная осень с дождями и грязью. Впереди вырисовывалась четвертая зимняя кампания. Продовольствие создавало все большие затруднения. В тылу забыли о фронте – ни смены, ни пополнений, ни необходимой теплой одежды. Дезертирство возрастало. Старые армейские комитеты, выбранные еще в первый период революции, оставались на своих местах и поддерживали политику Керенского. Перевыборы были запрещены. Между комитетами и солдатскими массами образовалась пропасть. В конце концов солдаты стали относиться к комитетам с ненавистью. Из окопов все чаще и чаще приходили в Петроград делегаты и на заседаниях Петроградского Совета ставили в упор вопрос: Что дальше делать? Кто и как кончит войну? Почему молчит Петроградский Совет?
НЕИЗБЕЖНОСТЬ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ
Петроградский Совет не молчал. Он требовал немедленного перехода всей власти в руки Советов в центре и на местах, немедленного перехода земель в руки крестьян, контроля рабочих над производством и немедленного открытия мирных переговоров. Пока мы оставались партией оппозиции, лозунг – вся власть Советам – был лозунгом пропаганды. Но с того времени, как мы оказались во всех главнейших Советах в большинстве, этот лозунг возлагал на нас обязательство прямой и непосредственной борьбы за власть.
В деревне положение запуталось и усложнилось до последней степени. Революция обещала крестьянину землю, но в то же время руководящие партии требовали, чтобы крестьянин не прикасался к этой земле до Учредительного Собрания. Крестьянин сперва терпеливо ждал, а когда начал терять терпение, коалиционное министерство обрушило на него репрессии. Учредительное Собрание тем временем отодвигалось вдаль. Буржуазия настаивала на том, чтобы Учредительное Собрание созвать после заключения мира. Крестьянские массы все больше и больше теряли терпение. То, что мы предсказывали в самом начале революции, начало осуществляться: крестьянин приступил к захвату земли собственными средствами. Репрессии усилились, пошли аресты революционных земельных комитетов. В некоторых уездах Керенский ввел военное положение. Из деревень потекли ходоки в Петроградский Совет. Они жаловались на то, что их арестовывают, когда они приступают к выполнению программы Петроградского Совета и забирают помещичью землю в руки крестьянских комитетов. Крестьяне требовали у нас защиты. Мы отвечали им, что защитить их мы могли бы только в том случае, если бы власть была у нас в руках. Отсюда, однако, следовал тот вывод, что Советы, если они не желают превратиться в говорильни, должны брать в свои руки власть.
– Бессмысленно бороться за власть Советов за полтора-два месяца до Учредительного Собрания! – так говорили нам наши соседи справа. Мы, однако, ни в малой мере не были заражены этим фетишизмом Учредительного Собрания. Прежде всего, не было никаких гарантий того, что оно действительно будет созвано. Распад армии, массовое дезертирство, продовольственная разруха, аграрная революция – все это создавало такую обстановку, которая мало благоприятствовала выборам в Учредительное Собрание. Сдача Петрограда немцам вообще грозила снять с очереди вопрос о выборах. А затем, если бы даже Учредительное Собрание и было созвано под руководством старых партий, по старым спискам, оно явилось бы только прикрытием и освящением коалиционной власти. Ни с.-р., ни меньшевики не были способны взять в свои руки власть без буржуазии. Только революционный класс призван был разбить порочный круг, в котором вращалась и разлагалась революция. Власть нужно было вырвать из рук тех элементов, которые, прямо или косвенно, служили буржуазии и пользовались государственным аппаратом, как орудием обструкции против революционных требований народа.
БОРЬБА ЗА СЪЕЗД СОВЕТОВ
– Власть Советам! – требовала наша партия. В предшествовавшую эпоху это, в переводе на партийный язык, означало – власть с.-р. и меньшевикам, в противовес коалиции с либеральной буржуазией.
Теперь, в октябре 1917 г., тот же лозунг означал передачу всей власти революционному пролетариату, во главе которого стояла в этот период партия большевиков. Дело шло о диктатуре рабочего класса, который вел за собою или, вернее, способен был повести за собою многомиллионные массы беднейшего крестьянства. В этом состоял исторический смысл октябрьского восстания.
Все вело партию на этот путь. Мы проповедовали с первых дней революции необходимость и неизбежность перехода власти к Советам. Большинство Советов, после большой внутренней борьбы, усвоило это требование, встав на нашу точку зрения. Мы подготовляли второй Всероссийский Съезд Советов, на котором ожидали полной победы нашей партии. Центральный Исполнительный Комитет под руководством Дана (осторожный Чхеидзе заблаговременно уехал на Кавказ) всячески противодействовал созыву Съезда Советов. После больших усилий, опираясь на советскую фракцию Демократического Совещания, мы, наконец, добились назначения срока Съезда – 25 октября. Это число вошло затем величайшей датой в историю России. Предварительно мы созвали в Петрограде съезд Советов Северной области с привлечением Балтийского флота и Москвы. На этом съезде мы имели твердое большинство, заручились некоторым полу-прикрытием справа в лице фракции левых социалистов-революционеров и заложили серьезные организационные предпосылки октябрьского восстания.
КОНФЛИКТ ПО ПОВОДУ ПЕТРОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА
Но еще раньше, до съезда Северных Советов, произошло событие, которому суждено было сыграть крупнейшую роль в дальнейшей политической борьбе. В начале октября на заседание Петроградского Исполнительного Комитета явился представитель Совета при штабе Петроградского военного округа и сообщил, что из Ставки требуют вывода на фронт двух третей петроградского гарнизона. Для чего? Для обороны Петрограда. Выводить будут не сейчас, но необходимо немедленно же подготовиться. Петроградскому Совету предлагалось штабом одобрить этот план. Мы насторожились. В конце августа также были выведены из Петрограда полностью или частями 5 революционных полков. Это было сделано по требованию тогдашнего верховного главнокомандующего Корнилова, который как раз в те дни готовился бросить на Петроград Кавказскую дивизию с намерением раз навсегда справиться с революционной столицей. Таким образом, мы уже имели опыт чисто политических перемещений полков под предлогом оперативных задач. Забегая вперед, скажу, что из обнаруженных после Октябрьской Революции бумаг выяснилось с полной несомненностью, что предполагавшийся вывод петроградского гарнизона действительно не имел ничего общего с военными целями и был навязан главнокомандующему Духонину против его воли не кем иным, как Керенским, который стремился очистить столицу от наиболее революционных, т.-е. наиболее враждебных ему, солдат. Но тогда, в начале октября, наши подозрения вызвали справа бурю патриотического негодования. Из штаба нас торопили: Керенскому не терпелось, почва слишком нагрелась под его ногами. Мы же медлили с ответом. Петрограду, несомненно, угрожала опасность, и вопрос об обороне столицы стоял перед нами во всем своем грозном значении. Но после опыта корниловщины, после слов Родзянко о спасительности немецкой оккупации, – откуда было взять доверчивости, что Петроград не будет злонамеренно сдан немцам в наказание за свой мятежный дух? Исполнительный Комитет отказался поставить вслепую свой штемпель под приказом о выводе двух третей гарнизона. Необходимо проверить, – заявили мы, – действительно ли за этим приказом стоят военные соображения, и необходимо создать орган такой проверки. Так родилась мысль о создании наряду с солдатской секцией Совета, т.-е. политическим представительством гарнизона, чисто оперативного органа в виде Военно-Революционного Комитета, который получил впоследствии могущественную силу и стал фактическим орудием октябрьского переворота. Несомненно, уже в те часы, когда мы выдвинули идею создания органа, в руках которого сосредоточивались бы нити чисто военного руководства петроградским гарнизоном, мы отдавали себе ясный отчет в том, что именно этот орган может стать незаменимым революционным орудием. В то время мы уже открыто шли навстречу восстанию и организационно готовились к нему.
На 25 октября был назначен, как сказано, Всероссийский Съезд Советов. Не могло уже быть сомнения, что Съезд выскажется за переход власти в руки Советов. Но такое решение должно быть немедленно же проведено в жизнь, иначе оно превратится в недостойную платоническую демонстрацию. По логике вещей выходило, что мы назначили восстание на 25 октября. Так именно понимала дело вся буржуазная печать. Но судьба Съезда зависела, в первую очередь, от петроградского гарнизона, – позволит ли он Керенскому окружить Съезд Советов и разогнать его при помощи нескольких сот или тысяч юнкеров, прапорщиков и ударников? Самое покушение на вывод гарнизона не означало ли, что правительство готовится к разгону Съезда Советов? И было бы странно, если бы оно не готовилось, видя, как мы открыто, перед лицом всей страны, мобилизуем советские силы, для того, чтобы нанесть коалиционной власти смертельный удар.
Таким образом конфликт в Петрограде развертывался на вопросе о судьбе гарнизона. В первую голову вопрос этот захватил за живое всех солдат. Но и рабочие относились к конфликту с живейшим интересом, так как боялись, что с выводом гарнизона они будут задушены юнкерами и казаками. Конфликт приобретал, таким образом, в высшей степени острый характер и развертывался на почве, крайне неблагоприятной для правительства Керенского.
Параллельно шла охарактеризованная уже выше борьба за созыв Всероссийского Съезда Советов, причем от имени Петроградского Совета и Северного Областного съезда мы открыто провозглашали, что второй Съезд Советов должен отстранить правительство Керенского и стать подлинным хозяином русской земли. Восстание фактически было уже налицо. Оно развертывалось совершенно открыто, на глазах всей страны.
В течение октября вопрос о восстании играл большую роль во внутренней жизни нашей партии. Ленин, который скрывался в Финляндии, в многочисленных письмах настаивал на более решительной тактике. На низах шло брожение и накоплялось недовольство по поводу того, что партия большевиков, оказавшаяся в большинстве в Петроградском Совете, не делала практических выводов из собственных лозунгов. 10 октября произошло конспиративное заседание Центрального Комитета нашей партии с участием Ленина. В порядке дня стоял вопрос о восстании. Большинством всех против двух голосов решено было, что единственным средством спасти революцию и страну от окончательного распада является вооруженное восстание, которое должно передать власть в руки Советов.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОВЕТ И ПРЕДПАРЛАМЕНТ
Демократический Совет, выделившийся из Демократического Совещания, впитал в себя всю беспомощность последнего. Старые советские партии, социалисты-революционеры и меньшевики, создали для себя в этом Совете искусственное большинство, но только для того, чтобы тем ярче обнаружить свою политическую прострацию. Церетели вел за кулисами Совета путаные переговоры с Керенским и с представителями «цензовых элементов», как начали выражаться в Совете – для того, чтобы не употреблять «обидного» имени буржуазии. Доклад Церетели о ходе и исходе переговоров был чем-то вроде надгробного слова целому периоду революции. Оказалось, что ни Керенский, ни цензовые элементы не согласились на ответственность перед новым полу-представительным учреждением. С другой стороны, вне пределов кадетской партии не удалось найти так называемых «деловых» общественных деятелей. Пришлось организаторам предприятия капитулировать по обоим пунктам. Капитуляция вышла тем более красноречивой, что Демократическое Совещание созывалось ведь именно для того, чтобы устранить безответственный режим, причем Совещание формальным голосованием отвергло коалицию с кадетами. На нескольких заседаниях Демократического Совета, которые состоялись до переворота, царила атмосфера напряженности и полной недееспособности. Совет отражал не движение революции вперед, а разложение партий, отставших от революции.
Еще во время Демократического Совещания был поставлен в нашей партийной фракции вопрос о демонстративном уходе с Совещания и о бойкоте Демократического Совета. Нужно было действием показать массам, что соглашатели завели революцию в тупик. Борьба за создание Советской власти могла вестись только революционным путем. Нужно было вырвать власть из рук тех, которые оказались неспособными на добро и чем дальше, тем больше теряли способность даже на активное зло. Необходимо было наш политический путь – через мобилизацию сил вокруг Советов, через Всероссийский Съезд Советов, через восстание – противопоставить их пути – через искусственно подобранный Предпарламент и гадательное Учредительное Собрание. Это можно было сделать только путем открытого разрыва, на глазах всего народа, с учреждением, созданным Церетели и его единомышленниками, и путем сосредоточения всего внимания и всех сил рабочего класса на советских учреждениях. Вот почему я предлагал демонстративный уход с Совещания и революционную агитацию на заводах и в полках против попытки подтасовать волю революции и снова ввести ее развитие в русло сотрудничества с буржуазией. В том же смысле высказался и Ленин, письмо которого мы получили несколько дней спустя. Но на партийных верхах еще наблюдались колебания в этом вопросе. Июльские дни оставили глубокий след в сознании партии. Рабочая и солдатская масса оправилась от июльского разгрома гораздо скорее, чем многие из руководящих товарищей, которые опасались срыва революции новым преждевременным натиском масс. Во фракции Демократического Совещания я собрал за свое предложение 50 голосов против 70, которые высказались за участие в Демократическом Совете. Опыт этого участия скоро, однако, укрепил левое крыло партии. Становилось слишком очевидным, что путем близких к плутням комбинаций, которые имели своей задачей обеспечить дальнейшее руководство революцией за цензовыми элементами, при посредстве потерявших в народных низах почву соглашателей, нет выхода из того тупика, в который загнала революцию дряблость мещанской демократии. К тому моменту, когда Демократический Совет, пополненный цензовыми элементами, превратился в Предпарламент, в нашей партии уже назрела готовность порвать с этим учреждением.
СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ И МЕНЬШЕВИКИ
Перед нами стоял вопрос, последуют ли за нами на этом пути левые социалисты-революционеры. Эта группа находилась в процессе образования, причем процесс этот развивался, на наш партийный масштаб, слишком медленно и нерешительно. В начале революции партия с.-р. оказалась господствующей на всем поле политической жизни. Крестьяне, солдаты, даже рабочие в массе своей голосовали за социалистов-революционеров. Сама партия не ожидала ничего подобного, и не раз казалось, что ей грозит опасность захлебнуться в волнах собственного успеха. За вычетом чисто капиталистических и помещичьих групп и цензовых элементов, все и вся голосовали за партию революционных народников. Это отвечало начальной стадии революции, когда классовые грани не успели обнаружиться, когда стремления так называемого единого революционного фронта находили свое выражение в расплывчатой программе партии, которая готова была дать одинаково приют и рабочему, боявшемуся оторваться от крестьянина, и крестьянину, искавшему землю и волю, и интеллигенту, который стремился руководить обоими, и чиновнику, который пытался приспособиться к новому строю.
Когда Керенский, который в эпоху царизма числился трудовиком, перешел после победы революции в партию социалистов-революционеров, популярность ее стала возрастать, по мере того как сам Керенский восходил по ступеням власти. Из почтительности, не всегда платонической, к военному министру многие полковники и генералы спешили записываться в партию недавних террористов. Старые с.-р., революционного закала, уже тогда с некоторым беспокойством взирали на все увеличивающееся число «мартовских» социалистов-революционеров, т.-е. таких членов партии, которые открыли в себе революционную народническую душу лишь в марте – после того как революция низвергла старый режим и поставила революционных народников во главе власти. Таким образом, эта партия в рамках своей бесформенности включала не только внутренние противоречия развивавшейся революции, но и предрассудки отсталости крестьянских масс, сентиментализм, неустойчивость и карьеризм интеллигентских слоев. Было совершенно ясно, что партия в таком виде долго продержаться не может. В идейном смысле она оказалась беспомощной с самого начала.
Политически руководящая роль принадлежала меньшевикам, которые прошли чрез школу марксизма и извлекли из нее некоторые приемы и навыки, помогавшие им ориентироваться в политической ситуации настолько, чтобы «научно» фальсифицировать смысл совершающейся классовой борьбы и в наивысшей, при данных условиях, степени обеспечивать гегемонию либеральной буржуазии. Поэтому-то меньшевики, прямые адвокаты прав буржуазии на власть, израсходовали себя так быстро и ко времени октябрьского переворота почти окончательно сошли на нет,
С.-р. также все больше и больше утрачивали влияние – сперва среди рабочих, затем в армии, под конец и в деревне. Но они оставались ко времени октябрьского переворота численно еще очень могущественной партией. Однако классовые противоречия подтачивали их изнутри. В противовес правому крылу, которое в лице своих наиболее шовинистических элементов, как Авксентьев, Брешко-Брешковская, Савинков и др., окончательно перешло в лагерь контрреволюции, складывалось левое крыло, которое стремилось сохранить связь с трудящимися массами. Если учесть тот факт, что социалист-революционер Авксентьев в качестве министра внутренних дел арестовывал за самовольное разрешение аграрного вопроса крестьянские земельные комитеты, состоявшие из социалистов-революционеров, то амплитуда «разногласий» внутри этой партии станет для нас достаточно ясной.
В центре стоял традиционный вождь партии Чернов. Опытный писатель, начитанный в социалистической литературе, набивший руку во фракционной борьбе, он неизменно оставался во главе партии в ту эпоху, когда партийная жизнь концентрировалась в эмигрантских заграничных кружках. Революция, которая первой своей неразборчивой волной подняла партию с.-р. на огромную высоту, автоматически подняла и Чернова, но только для того, чтобы обнаружить полную его беспомощность даже в ряду руководящих политических деятелей первого периода. Те маленькие средства, которые обеспечивали Чернову перевес в заграничных народнических кружках, оказались слишком легковесными на весах революции. Он сосредоточился на том, чтобы не принимать никаких ответственных решений, уклоняться во всех критических случаях, выжидать и воздерживаться. Такого рода тактика обеспечивала за ним до поры до времени положение центра между все дальше расходившимися флангами. Но сохранить надолго единство партии не было уже никакой возможности. Савинков, бывший террорист, участвовал в заговоре Корнилова, находился в трогательном единении с контрреволюционными кругами казачьего офицерства и подготовлял разгром петроградских рабочих и солдат, в среде которых было немало левых с.-р. В качестве жертвы левому крылу, центр исключил из партии Савинкова, но на Керенского не решался поднять руку. В Предпарламенте партия обнаружила величайший разброд: три группировки выступали самостоятельно, хотя и под знаменем одной и той же партии; при этом ни одна из группировок не знала точно, чего хочет. Формальное господство этой «партии» в Учредительном Собрании означало бы только продолжение политической прострации.
ВЫХОД ИЗ ПРЕДПАРЛАМЕНТА. ГОЛОС ФРОНТА
Прежде чем выйти из состава Предпарламента, где на нашу долю, по политической статистике Керенского и Церетели, причиталось около полусотни мест, мы устроили совещание с группой левых с.-р. Они отказались следовать за нами, ссылаясь на то, что им еще необходимо на практике обнаружить перед крестьянством несостоятельность Предпарламента. «Мы считаем нужным предупредить вас, – сказал один из руководителей левых с.-р., – если вы хотите выйти из Предпарламента, чтобы сейчас же выступить на улицу для открытой борьбы, мы за вами не пойдем». Буржуазно-соглашательская печать обвинила нас в том, что мы стремимся сорвать Предпарламент именно для того чтобы создать революционную ситуацию. На собрании нашей фракции в Предпарламенте было решено не дожидаться левых с.-р., а действовать самостоятельно. Оглашенная с трибуны Предпарламента декларация нашей партии, объяснявшая, почему мы порываем с этим учреждением, встречена была воем ненависти бессилия со стороны группировок большинства. В Петроградском Совете депутатов, где наш выход из Предпарламента был одобрен подавляющим большинством, лидер маленькой группки меньшевиков-"интернационалистов" Мартов разъяснял нам, что выход из Временного Совета Республики (таково было официальное название этого малопочтенного учреждения) имел бы смысл в том только случае, если бы мы предполагали перейти немедленно в открытое наступление. Но дело в том, что мы это-то именно и предполагали. Прокуроры либеральной буржуазии были правы, когда обвиняли нас в том, что мы стремимся создать революционную ситуацию. В открытом восстании и прямом захвате власти мы видели единственный выход из положения.
Опять, как в июльские дни, печать и все другие органы так называемого общественного мнения были мобилизованы против нас. Из июльских арсеналов было извлечено наиболее отравленное оружие, которое было временно сдано туда после корниловских дней. Тщетные усилия! Масса приливала к нам неотразимо, и настроение ее повышалось с часу на час. Из окопов приходили делегаты. «До каких же пор, – говорили они на заседаниях Петроградского Совета, – будет тянуться это невыносимое положение? Солдаты приказали нам заявить вам: если до первого ноября не будет сделано решительных шагов к миру, окопы опустеют, вся армия бросится в тыл». Такое решение действительно широко распространялось на фронте. Солдаты передавали там из одной части в другую самодельные прокламации, в которых призывали не оставаться в окопах дольше, как до первого снега. «Вы забыли о нас! – восклицали окопные ходоки на заседаниях Совета. – Если вы не находите выхода из положения, мы сюда придем сами и штыками разгоним наших врагов, но и вас вместе с ними». Петроградский Совет в течение нескольких недель стал центром притяжения для всей армии. Его резолюции, после смены в нем руководящего направления и переизбрания президиума, внушали истощенным и отчаявшимся войскам на фронте надежду на то, что выход из положения может быть практически найден на пути, предлагавшемся большевиками: опубликование тайных договоров и предложение немедленного перемирия на всех фронтах. «Вы говорите, что власть должна перейти в руки Советов, – берите же ее в ваши руки. Вы опасаетесь, что фронт не поддержит вас. Отбросьте всякие сомнения, солдатская масса в подавляющем большинстве за вас».



