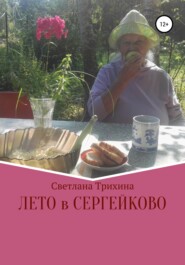 Полная версия
Полная версияЛето в Сергейково
Увы, мы едем дальше, через деревню Талицы. Останавливаемся справа на обочине у подземного храма Дмитрия Солунского, к его зарешёченным входам ведёт плиточная дорожка, обсаженная бархатцами. Храм закрыт. Возвращаемся к машине и по зебре переходим на подворье монастыря, купить выпечки.
Но такой уж день: ни течь не залатать, ни выпечки не купить. Повар отдыхает, у повара сегодня выходной. Мы выбираем себе баночку цветочного мёда и идём посмотреть на житьё сестёр. кукольные жёлтые домики, цветники. На подворье Стефано-Махрищского монастыря возведён новый белый храм Рождества Богородицы, на пять куполов. Спрашиваем про пещеры.
– Сёстры там с четверга по воскресенье бывают, тогда открыто, а в понедельник никак нельзя.
Ладно, почитаем у Шмелева "На богомолье". Раньше старая Ярославская дорога была единственным путём в Троице-Сергиеву Лавру, и паломники шли через Талицы, а теперь новая дорога уводит всех стороной.
Ещё на минуточку останавливаемся перед восстановленной усадьбой купцов Аигиных, одной из немногих сделанных по губернаторской программе возрождения заброшенных усадеб Подмосковья, если быть точной, то двух: ещё дом Круминга в Люберцах. А сколько их! Погибает прекрасная маленькая усадьба в Ляхово, где снимался фильм "Формула любви". Осташево в руинах. Ну, хоть с Аигиными всё в порядке. Правда теперь так просто не зайдёшь, но это лучше, намного лучше. Графские развалины только в торте хороши.
Покончив с историей, принимаемся за современность: едем по новой Ярославке в Москву.
Мураново
Мы заранее знали, что усадьба Мураново совсем близко от Сергейково, места наших летних вакаций. Правда, Абрамцево вышло посетить первым. В этом не было никакого резона или продуманного плана. Просто раз в неделю дела отзывали нас в Москву и мы, как в Скуби-Ду, разделялись: умные и удачливые оставались на даче с Дафной и Велмой, а Шегги и Скуби, в данном случае – я и Жора, пускались в приключения.
По дороге в Москву мы оббродили усадьбы Софрино. На обратном пути рванули в Мураново.
– Ох не рано, ох не рано мы
въехали в Мураново!
Времени и правда было многовато, поэтому «нашим» мы наврали, что стоим на Ярославке в пробке, а сами улизнули побродить по полям и лесам, подобрать последние солнечные деньки.
У усадьбы большая стоянка для машин – вся на солнце, поэтому мы заткнулись к обочинке, к самому забору, как раз напротив красивого лимонного цвета флигеля с верандой и ажурными наличниками. На зелёнке стоит жёлтое девичье Пежо, о чём можно судить по висячему бело-голубому ангелу, вязанному крючком. Нет, я не осуждаю, у меня у самой за задним подголовником принцесса-зайка в розовой с бусинками на зубчиках короны, Машуня Евтягина связала. Я к тому, что мы долго думали, как правильно припарковаться за стоящим уже БМВ, чтобы дама выехала, паче ей приспичит. Вроде, всё было правильно, но беспокойство, что в случае форс-мажоров придётся врать вторично, не покидало.
Дремавший водитель БМВ убедил, что он тут и никуда не уйдёт, телефон у лобового стекла мы оставили и двинулись отдыхать.
Чтобы попасть ко входу, надо обогнуть усадьбу по половине периметра. Всё подстрижено, ухожено, касса. Вдали, за речкой Талицей возвышаются ровные распаханные поля, с нашего, более пологого берега, скошенный луг. Талица, как и у Софрино, запружена плотиной.
В усадьбе большое количество построек: сенной сарай, ледник, кучерская, амбар, в котором сейчас кафе. Совершенно прелестная церковь Спаса Нерукотворного, чья историческая икона до сих пор в храме. Здесь тихо и уютно. Милая домашняя церковка. И список с чудотворной иконы «Умиление Пресвятой Богородицы» из Дивеева. Слева от входа в храм ажурная отдельно стоящая деревянная звонница в два этажа, крашенная в жёлтую краску. Старый, но скромный парк.
Музей «Усадьба «Мураново» носит имя Федора Ивановича Тютчева, хотя он сам здесь не жил, а жил со своей семьёй другой русский поэт – Евгений Боратынский , женатый на Анастасии Энгельгард, отцу которой и принадлежало имение. После внезапной смерти Боратынского в Италии от разрыва сердца, имение отошло семье Путят. Семья же Тютчевых жила здесь с 1870-х гг., когда в 1869 году единственная дочь владельцев, Путят Ольга Николаевна, вышла замуж за Ивана Фёдоровича Тютчева, младшего сына поэта. Усадьбе повезло, наследники передали её государству, и литературный музей был открыт здесь аж на год раньше, чем в Ясной Поляне. Не разорённая усадьба обладает богатейшими архивами Тютчева и Боратынского, и родственных с ними семейств.
Главный усадебный дом представляет собой геометрический ребус из двух- и одноэтажных построек, составленных вместе, как детские кубики. Цвета, в которые он выкрашен, очень приятны по сочетанию: кирпичные части дома – розовые, деревянные – серые. Мне всегда мечталось о шифоновом платье мышиного серого цвета с розовой отделкой, поэтому я сразу полюбила Мураново. Рядом крокетная площадка и детский домик. Здесь всё, как в большом деревенском доме, даже свой огородик. Дети любили его невероятно.
Народу немного, день будний, но вот на горизонте замаячила группа. Экскурсия по главному усадебному дому. Всё, бегом отсюда! Знаний нам и так девать некуда. Хватит тёплого чувства. Возвратившись, мы застаём стоянку абсолютно пустой; а в хвост нам припаркованную здоровенную Инфинити, с инвалидным значком. Выезд перекрыт не только Пежо. Издали группа являет собой малый кубинский бриллиант, ненадолго, как бабочка, присевший на траву.
Возникает ещё одно тёплое чувство, так знакомое московским драйверам.
В Троице-Сергиевой Лавре
Трудно сказать, с чем это связано, но у меня трудные отношения с Лаврой. Всякий приезд – какой-нибудь сумбур.Скорее всего это не из-за самой Лары, а из-за Преподобного. Какая-то боязнь что ли с моей стороны, некий официоз. Да, я обращаюсь к нему по учебным поводам, свечи ставлю, но чувствую себя, как в кабинете директора, стеснённо, неловко как-то. Вот и в прошлый раз сбежали из Лавры в Черниговский скит. Это – не боязнь, нет, это какое-то душевное разгильдяйство как раз там, где должна быть сосредоточенность и понимание.
Ну, что же? Как вернулись с Жорой из Москвы в Сергейково, так и поехали на следующий день в Лавру, пытать счастье ещё раз. Прогноз оптимистично наврал нам хорошую погоду, мы по дурости взяли лёгкие кофты, разоделись и поехали уже знакомой дорогой: мимо Озерецкого, где в отверзтые двери коровников видны ряды послушно стоящих животин, мимо Старо-и- Ново-Жёлтиковых и на подъезде к Мостовику и Васильевскому за красным светофором увидели лиловое небо, раздираемое молниями.
Ещё мгновение, и вошли в полосу позёмочно несущихся листьев, косых крупных капель и рвущего воздух ветра. Проскочили мы эту полосу быстро и полетели дальше по залитой водой дороге с радостным чувством избегнутой опасности, с трудом огибая моря в прогибах асфальта. Вот и круговая развязка, улицы имён писателей и прочая, несколько поворотов и проспект Красной Армии, бывшая Большедорожная, мы соответственно с Московской, а не с Переяславской стороны через пару светофоров увидим по левую руку Лавру.
Сначала заезжаем на Блинную гору, напротив Лавры, посмотреть стелу «Чудо о птицах», это, когда ночью к Сергию в снопах света слетелись невиданные птицы и сладко пели; и был глас с небес, что это его будущие ученики. Да, учеников в Лавре предостаточно. Не зарастает народная тропа. Паркуем машину, как всегда, на самом проспекте, справа у заборчика, ближе уже никак. Стоянка у Торговых рядов на Красногорской площади (местный уменьшенный ЦУМ) – служебная. Всё для людей, как и в центре Москвы; ни одной бесплатной муниципальной парковки – платные, служебные, камеры, штрафы. Вчера проехал, сегодня – разрыли. Водитель постоянно живёт в состоянии стресса. Нет знакомых дорог. Каждый день – что-то новое: знак, разметка, режим светофора, перекопали, украли пару полос на чистку, мойку, ремонт. Господи, хватит улучшать! Дайте пожить спокойно в том, что есть. Это, как затянувшийся на годы домашний ремонт: будет красиво, а сейчас – бедлам. И так красиво было!
Для успокоения нервов идём посмотреть пруд с лебедями, решаем обойти Лавру снаружи (вот Вам здрасти, всегдашний сумбур), но, дойдя до Утиной башни, слышим отдалённый гром, поворачиваем назад и мимо Конного двора направляемся, наконец, на вход. Уже ясно, что будет гроза, поэтому решаемся на главное – сначала в Троицкий, к которому мы подошли почему-то со стороны Никоновской церкви и Серапионовой палаты. Табличка «закрыто» на приотворённой двери. Робко всунули свои любопытные носы, служитель и спрашивает:
– У Преподобного были? Нет?! Уж извольте сначала к нему, как к первому, так правильно будет!
– Не бойтесь. Раз обещал – подожду, пущу.
Окунулись в полумрак и непрерывное чтение Троицкого. Приложились. Вышли.
Небо занавешено косыми полосами от серого до черного, друг из-под друга, как образцы тончайших тканей, на выбор – для апокалиптической грозы. Когда вынырнули обратно из Серапионовой, остановились на миг перед мощью надвигавшейся стихии. Никогда не видела такого невероятного и быстрого неба, густо- чёрное за колокольней, оно текло через просветы этажей, приподнимая, тускло отблескивающий крабообразный купол, диковинную многоярусную шапку, надетую прямо на грозу. Как красива была на фоне этого страшного течения ладная Свято-Духовская церковь, строенная мастерами из Пскова. Одежда всех бывших под этим падающим небом превратилась во флаги, силящиеся улететь в небо.
С секунду мы думали куда: в Успенский собор или в «Келарский дворик»? До надвратной церкви Рождества Иоанна Предтечи мы добежали по начавшемуся дождю, по ступенькам вниз в кофейню, и вот они горячие пироги и чай. С нами успели ещё человек пять, самых резвых, и ливень ударил в Лавру. Именно ударил; и каждый, вздрогнув, почувствовал этот удар. А дальше на целую вечность глухая стена воды, и мы в своём келарском ковчеге.
Поездка в Пузино
Вот и собрались мы в Пузино. Название деревни давно запало в душу. Стишок даже написан был про дачников из Пузина, которые идут на Свиное озеро, расположенное, кстати, тут же неподалёку. Однако, это было так – художественное допущение, ходят ли они туда в действительности, и какие там в округе леса, мы не знали, а сие нехорошо. Автор не должен отрываться от действительности.
Ну, и поехали. Поворачивать надо в Лавровки, мимо нашего любимого сельмага, с двумя подмосковными поставщиками всяких немыслимых выпечек и сладостей, – я боготворила римский нарезанный кусками пирог, – и под горочку, где по обочинам тьмы жёлтых с красными язычками свечек льнянки. Мама любит из них букетики, поэтому – остановка. Далее на горку, в деревню «Горки». Шутники приписали лишнюю палочку, и получилось «Порки», что лишний раз напомнило нам о Свином озере (англ. pork). Километра полтора за «Порки» – и надо сворачивать в еловый лес, на грунтовку. Лес роскошный, чистая ель, видимо посадка. Неподалёку таблички о других посадках в честь выдающихся людей. Движение автомобилей очень активное.
Пузино расположено, на водоразделе рек Яхромы (правый приток Волгуши) и Вори высота центра деревни над уровнем моря – 203 м. На 2016 год в деревне зарегистрировано два садовых товарищества, у юго-западной окраины Пузино находится железнодорожная станция Костино Большого кольца МЖД.
Эту информацию мы вынесли из Википедии. А пока едем через садовое товарищество «Полесье». Дорога узкая, тяжело разъезжаться со встречкой, жмёшься в заезды дач. По другую руку поросшее всяким сором болотце. На одном участке, за воротами, много людей за длинным уличным столом, надеешься, что свадьба или хотя бы юбилей. А вот и серый с красными полосами высокий забор МЖД и с. Костино. Чуть в горочку, по щебёнке, и табличка – деревня Пузино, у которой мы и сфотографировались.
Дома все в Пузино добротные, под ними иномарки хорошие. Доезжаем до пожарного водоема и видим на нём первые капли начинающегося дождя. Значит Свиное озеро откладывается, туда подъезда нет, только пешком.
Ну, что ж – обратно домой, в Сергейково.
В Николо-Пешношском
Этот незабываемый летний отдых в Подмосковье. Столько впечатлений, удовольствий: и всё рядом с домом. Мы настойчиво стремимся в дальние страны и не замечаем того, что творится у нас под носом, в сотне километров от Москвы. Правда в этом есть резон: дальние страны могут и уплыть из зоны доступа, а стокилометровый диаметр, он всегда под рукой; и когда недоступные страны уплывают, тогда приходит Шмелёвское лето. – Почему Шмелёвское? – спросите Вы. А потому что богомолье, монастыри, от которых невозможно оторваться, даже если и не планировал посещать. Целый месяц жизнь наша полнилась этими чудными поездками, но вот остались последние деньки – и прощай Дмитровский городской округ.
Ещё в самом начале, когда мы поднимались в Дмитрове на земляные валы Кремля, манила видневшаяся впереди справа блестящая арка моста. Хотелось увидеть её вблизи. Мост этот перекинут через канал Москвы, и сегодня мы едем по нему в Николо-Пешношский монастырь.
Поднимаемся на мост не сразу, приходится постоять перед переездом, но вот пошли мелькать пролёты, машина подскакивает на неровностях дороги, взбирается на гору с въездной бетонной стелой «Дмитров» и катит дальше среди полей и церквушек, простаивая от времени до времени у светофоров.
Перед въездом в Рогачево сворачиваем вправо, где дорога затейливо вьётся километров пять среди серебристых ив до села Лугового, и сразу же упираемся в монастырь и стояночку с грунтовым покрытием возле лебединого пруда, по преданию выкопанного Сергием Радонежским.
Сейчас редко встретишь старые вётлы. Разве Перовский парк в Москве с вековыми ивами вокруг пруда, частью паркового ансамбля усадьбы «Перово» елизаветенских времён.
Всё наше лето неразрывно сплелось с житием Сергия Радонежского. Вот и Николо-Пешношский монастырь заложен учеником его Мефодием, он тоже вместе с Сергием пруды копал и пешим носил через речку лес для строительства, отсюда и название – «пешношский».
Сейчас монастырь полностью отреставрирован и выглядит великолепно, в закатном солнце пылают кресты. Основной цвет монастырских строений жёлто- красный с белыми башнями и зелёными крышами. Выглядит ярко и нарядно.
Мы заходим через центральный вход, Спасскую башню, за спиной, у дороги, остаётся монастырская трапезная. Солнце щедро льёт закат на гряды астр, на куртины роз, на прожорливых разноцветных рыб в пруду. На стене храма Сретения Господня солнечные часы. Голубой полукруг на жёлтой штукатурке. Солнце слепит глаза. На куполок часовни Иоанна Предтечи, что над источником, больно смотреть. Всё в этот час дышит довольством, радостью и безлюдием. Красно-белый низенький Никольский храм закрыт. Служба идёт в Сергиевском – ладный небольшой из терракотового кирпича с белым чешуйчатым куполом. Правый его бок греет мощная белая на восемь граней призма колокольни, нижняя её часть – это церковь самого преподобного Мефодия. Она крошечная. Сюда из южной части Сергиевского храма ведёт узкий ход-нырок. Здесь полумрак и покой, на службе почти безлюдно.
Покупаем иконку Богоматери «Прежде Рождества и по Рождестве Дева», довольно редкий образ. Появился он в монастыре с московском купцом Алексеем Макеевым, принявшем в монастыре иноческий постриг, а широкое распространение получил после чудесного спасения императора Александра III и его семьи, возвращавшихся из Крыма. Катастрофа на железной дороге с многими погибшими случилось 17 октября 1888 года, в день праздника иконы. С тех пор царь постоянно носил образ с собой и приказал сделать с него списки для других церквей.
Сейчас в обители подлинная икона утрачена, есть только список, писаный в Троице-Сергиевой Лавре. Сделав самые важные дела, идём побродить по аллейкам. Сначала к павлину и двум его дамам, которых он безуспешно пытается обольстить. Мы садимся на качель, в окружение весёлых воробьёв, слушаем её скрип, дикие крики павлина и шорох трясомых его страстью перьев. За стеной слышен гогот домашний птицы, маленькая окованная железом дверь ведёт в местный зоопарк, весьма обширный и пользующийся популярностью у приходящих.
Правда ровно в пять заветная дверка закрывается на ключ. Пора и нам ехать домой, готовить ужин, собираться в город. Кончилось лето, тёплое пушистое шмелёвское счастье. «Чёрный бархатный шмель, золотое оплечье…», как сказал бы Бунин Иван.
Пора и за труды.

