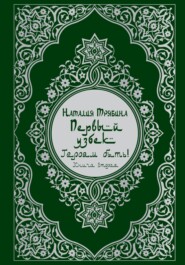скачать книгу бесплатно
Но пока у Али и Ульмаса врагов не было. С ребятами и подростками в махалле делить было нечего. Да и что делить, если с раннего утра до вечерней молитвы все окрестные мальчишки с восьми-десяти лет чем-то заняты. Либо по хозяйству в родном доме, либо находятся в обучении у ремесленников. А жизнь шагирда-ученика очень нелегка! «Подай, принеси, сделай, повтори, помоги, отнеси, запомни» – очень много слов-приказов и мало свободного времени у отрока. Уже с детства было ясно, кто из махаллинских детей как будет жить в зрелые годы. Кто-то пловом с утра до вечера будет лакомиться, а кто-то редиску с кислым молоком на ужин за счастье почитать будет. Понятно было, кого родители женят к двадцати годам, а кто, собирая деньги на калым, в бобылях проходит до сорока лет. Потом женится на перестарке или на девушке с изъяном. Спору нет, всякое в жизни может случиться, но уже в 10 – 15 лет было видно, кто чего достигнет на широкой дороге жизни, а кто останется на её обочине.
Конечно, всё это происходило тогда, когда жизнь была мирная, никаких набегов и войн не было. А если вдруг ханам и султанам пришла охота помахать саблями и пограбить города и селения, принадлежащие его соседу, то ни о какой благополучной судьбе рассуждать уже нечего. Останется мальчишка сиротой. Чтобы выжить вынужден будет браться за любую работу. Хорошо, если какие-то родственники живут в нетронутом усобицами месте. Но и те за просто так кормить не станут, потребуют работу. Попрёки будут сыпаться за каждый кусок лепёшки и пиалу чая. Горек сиротский хлеб, ох как горек!
Али старался не думать о том, что сейчас с Ульмасом, что с его глазами и головой. Он думал лишь о том, что скоро, очень скоро они отправятся в Бухару. Там отец обязательно найдёт для них хорошего учителя. Али старался не думать, что устод Санджар никуда не делся и шагирд обязан отработать долг. К удивлению Али это его совсем не расстраивало. Он решил, что больше даже глаз на учителя не поднимет и будет говорить лишь два слова: «Да, учитель!». А потом они с Ульмасом построят дом, построят такой дом, каких ещё никто не строил.
Али понимал, что ни дворца, ни медресе они не соорудят. Но сделать жилище красивым и удобным они смогут, не без труда, конечно. Надеясь, мечтая и проворачивая в голове все части будущего дома, мальчик боялся того, что упустит какую-либо мелочь, о чём никогда не говорил устод, а они с Ульмасом не обсуждали. На ошибки своего неудачливого устода они насмотрелись за эти пять лет. Даже при своей исключительной памяти они иногда ошибались при подсчёте. Получается, что не все мастера такие добросовестные, как брат Карим, как батюшка или тётушка Нафиса.
Вчера вечером, засыпая на балахане, Али вспомнил, что мать и тётушка о чём-то долго шептались. Выходя из дома, он видел их обоих, спящих рядом в нижней комнате. Мать так сильно уставала за день, что засыпала сразу же, как только её голова касалась подушки. А тут разговоры, затянувшиеся на полночи. Правда говорили они тихо, а Али старался не прислушиваться. Свои секреты он никому не выдавал, а в чужие, особенно в женские, никогда не лез. Женские секреты были такие глупые, такие бестолковые и бессмысленные, что их и секретом трудно назвать. Для чего их хранить, Али не понимал.
Секрета тётушки Нафисы никто не знает, может быть, только Лола знала её тайну. Такой проныры Али никогда не встречал, хотя в доме полно и женщин и девчонок самого разного возраста. В соседних домах девчонок тоже хоть отбавляй. Он ешё не задумывался о женитьбе, но если бы родители начали сватать ему невесту, то он захотел бы жениться на девушке, похожей на Лолу. Он не любил тех, кто может только поддакивать и кланяться в ответ на замечания. Лола никому не дерзила, но втихомолку всё делала по-своему. Это было незаметно, поэтому все окружающие были уверены, что Лола самая уважительная и послушная девочка в округе. Это было далеко не так.
Только Али с Ульмасом заметили, что Лола могла бы стать прекрасной вышивальщицей, но их сестрёнка не любила сидеть целыми днями за пяльцами. Она искусно показала себя неумелой криворучкой. Вот это секрет так секрет. Братья решили не выдавать её: не хочет вышивать, ну и не нужно. Зато Лола коров любит и лучше курта, чем делает сестричка, не делает даже их с Ульмасом матушка. Она всегда очень точно отмеряет соли на закваску, и выдерживает молоко ровно столько, сколько нужно, чтобы оно не перекисло. А сушит его особым способом. Если бы сестра была бездельница или врунишка, Али первый бы поучил её правильному поведению, но та просто молчала. Молчала и собирала секреты по всему дому. Она наверняка знает, о чём шептались мать с тётушкой.
Но пора возвращаться, давно пора посмотреть, как там Ульмас, а потом к мастеру. И надо ещё раз внимательно посмотреть на чертёж. Новая мысль, возникшая у Али, когда он разглядывал две ветки, растущие от ствола вправо и влево, привели к тому, что он решил сделать в доме один вход – со стороны гостиной. В другие комнаты вход должен быть тоже из гостиной, а не с улицы. «Будет теплее – думал он, – и в окна можно вставить стёкла».
В своё время стёкла привели братьев в изумление своими свойствами —через них всё было видно, как сквозь воду. Стекло очень хорошо задерживало холодный воздух, не пропускало его в комнату. В гостиной их дома были окна со стёклами. Эта роскошь появилась несколько лет тому назад. Маленькие, размером в две ладони кусочки льдистого стекла были вставлены в панджары. Тогда братья были помладше и устроили глупую по их нынешним понятиям игру. Али забрался в гостиную, а Ульмас устроился во дворе под окном. Они, громко хохоча от восторга, корчили друг другу рожицы. Когда за этим совершенно бессмысленным и непонятным занятием их застал Карим, он, несмотря на всю свою любовь к братьям, сам отходил обоих хворостиной: одного по тощему заду, а другого по жирной спине. Да так, что потом братья неделю на стёкла смотреть не могли.
Наказаны они были не за то, что могли стекло испортить, поцарапать или не приведи Аллах разбить, а за совершенно бестолковое озорство, недостойное таких взрослых ребят. С тех пор братья прониклись к стеклу большим уважением и изделия из него почитали как самые красивые и нужные в доме. Так же они относились к стеклянным вазочкам, стоящим в нишах гостиной комнаты. Али размышлял, почему он ни разу не спросил у взрослых, где и как изготавливают стекло. Он хорошо знал, что оно дорогое, очень дорогое, безумно дорогое. Разбить его равносильно добровольной и страшно болезненной смерти.
Обратная дорога до дома заняла столько же времени, сколько и к обломанному карагачу. Взрослые уже не запрещали ходить на другой берег. Видимо поняли, что запретные яблоко или груша, сорванные в чужом саду намного вкуснее, чем та, которая растёт под собственным окном. Карим аккуратно перепрятал драгоценности в другое место. О нём не знал даже отец. Халил сам настоял на этой тайне, объяснив сыну, что ему до смерти осталось не так уж много дней. Али с Ульмасом, невозбранно бегая везде, где заблагорассудится, очень скоро перестали думать о непонятных запретах и выбрали приметную площадку местом своих странных занятий.
Халил, пришедший вечером к Зумрад, долго, со вкусом пил чай со слоёной лепёшкой, нахваливал лакомство, приготовленное младшей снохой, и долго говорил. Разговор был обо всём, что произошло в этот беспокойный день. Но больше всего о том, что он на некоторое время должен будет уехать в Бухару.
– Слава Аллаху, что сейчас в Бухаре правит просвещённый государь Абдулазиз-хан. Его поддержали Джуйбарские шейхи. От его милостей зависит и правитель Афарикента Искандер-султан. Абдулазиз-хан покровительствует поэтам и учёным и сам пишет стихи. – Обо всём этом ранней весной этого года рассказывали погонщики верблюдов из посольского каравана, отправлявшегося в Китай. – Я сам всё слышал, люди из посольства сильно хвалили хана. Они говорили, что это достойнейший владыка. Он даже снизил налоги. Правда, их с нас собирают той же меркой. Хорошо, что не увеличивают. Именно поэтому я и решился ехать в Бухару, сердце моё. – Зумрад вздыхала с самого утра, с того мига, когда Халил с родственниками вернулся от казия, но мужа не донимала просьбами остаться.
Они давно мечтали о том, как сделать так, чтобы в Бухаре был второй дом. Как устроить Закира более удобным образом, не отдаляя его от семьи, а пытаясь приблизить. И тут такой случай! Неприятный, но именно используя переезд братьев в Бухару, не насовсем, на время, можно восстановить с нелюдимым племянником родственные отношения и покрепче привязать его к себе.
– Муж мой! Вы всегда всё делаете правильно, вы думаете на несколько ходов вперёд. Как это делается в игре «Четыре рода войск». Её бобо Одыл привёз из Хиндустана. Все наши мужчины прекрасно научились играть. Я ни словом, ни делом, ни мыслями ничего не имею против Бухары. Я понимаю выгоду того, что у нас в Бухаре будет свой дом. – Хорошо, что мечтания осуществляются!
– Сердце моё, не рви мне душу. Я и так страдаю…
– Но я так буду тосковать без вас, я так буду горевать каждый день, проведённый без вас! Волосы на моей голове давно все седые, и ночи, которые мы проводим вместе, безгрешны. Но я не могу даже подумать о том, что вас полгода не будет дома. Я за это время могу умереть. Мне уже почти пятьдесят лет. Многие мои подруги уже давно гуляют в садах Аллаха. Но я, несмотря на болезни, ещё надоедаю людям в этом мире. Умоляю вас, берегите себя, помните каждое мгновение, что мы с Лайло молимся за вас, мы вас любим больше своей жизни. – Зумрад изо всех сил старалась не проронить ни единой слезинки: она сможет вдоволь поплакать потом, а сейчас она должна быть сильной и мужественной.
Халил понимал, как тяжело даётся старшей жене это напускное спокойствие, это показное равнодушие. Он решил не бередить раны преждевременно, а заниматься повседневными делами.
– Душа моя, как вы считаете, справится ли Карим со всеми делами? Не будет ли урона нашей мастерской и заказам, что поступают на различные вышивки и другие безделушки? – Халил хорошо понимал, что работа вышивальщицы оплачивается намного дешевле, чем работа плотника, но является хорошим подспорьем для блага семьи.
Ни один мужчина никогда не скажет, что он ценит работу женщины наравне с мужской. Поэтому отношение к вышивке было несколько пренебрежительным. Вот если бы вышивкой занимался мужчина, тогда другое дело. О его работе говорили бы уважительно, и стоила она в два-три раза дороже, чем работа Нафисы. Зумрад ласково взглянула на мужа.
– Думаю, что справится. А если не справится, то рядом всегда стоит Лайло. Уж она не только ни одного медного фельса не упустит, она ни одной пылинки зря не потратит. Всё сметёт в кучку и сложит в сундук! Вы же знаете свою младшую жену.
Халил усмехнулся. Во всём Афарикенте не было более скупой женщины, чем Лайло. Она могла подать милостыню, могла раздать подарки во время курбан-хаита. Но попробуй попросить у неё взаймы до лучших времён несколько монет, или какой-либо инструмент денька на два: кетмень, лопату, урак. Лайло мгновенно становилась глухой. Хорошо, если просто глохла. Она могла так высмеять человека, пришедшего с нелепой просьбой, что любой был готов провалиться не просто сквозь землю, а в самую преисподнюю.
Она наперечёт знала, у кого в махалле какие заработки. Кто проиграл дневную выручку в чайхане, поставив на незнакомую перепёлку большой заклад. Кто купил в долг украшение для жены, не подумав о том, что в хозяйстве нужнее новый кетмень. Кто побоялся потребовать причитающиеся ему деньги за выполненную работу. Для всех находилось острое словцо. По всем обычаям в доме деньгами распоряжались мужчины, но так повелось в семье Халила, что Лайло знала о каждом таньга, отложенном и спрятанном в надёжное место. Она видела своими кипчакским глазами каждый фельс, что лежал и дожидался того мига, когда его на базаре обменяют на нужную вещь. Или на все те вкусные приправы, без которых в семье не готовили ни одно блюдо.
Трудно было узнать в этой упитанной круглолицей женщине худую замарашку, много лет тому назад появившуюся в доме. Даже спустя столько времени старшая жена ни на одно мгновение не пожалела о своём решении. Не жалела она и о том, что её любимый Халил, её муж женился на тощенькой девчушке. Теперь никто не мог попрекнуть вторую жену тем, что она сиротой пришла в дом. Да если не Лайло, то половина заработанных мужчинами денег уходила бы на пропитание.
Для Зумрад было великой тайной, как с одного танаба земли можно собрать столько необходимых овощей и фруктов? Как можно с того же танаба земли кормить двух коров, два десятка баранов, пятьдесят кур и несколько десятков уток, не считая перепёлок. И совсем уже непонятным было то, как весь навоз превращается в удобрение. А у соседей из него кроме кизяка ничего не делают. Лайло приказывала собирать навоз, мешать с рублеными сорняками, а осенью раскидывать по вспаханной земле.
Все овощи у Лайло были в полтора раза крупнее, сочнее и вкуснее, чем у остальных соседей, а фрукты слаще мёда или сахара. Злые кумушки утверждали, что навоз, раскиданный по пашне, противен Аллаху и это только вредит посадкам. Но все эти разговоры затихали, как только злоязыкая соседка усаживалась за дастархан и пробовала шурпу из этих овощей. Многие хотели перенять приёмы, используемые в доме у Халила, но не у всех получалось. Вот и злословили от неумения, незнания и зависти… Лайло же объясняла всё это простым заимствованием у китайцев. Они в земледелии не делали никаких секретов. Но многие дехкане, не желая лишний раз подняться с курпачи, получали со своих участков довольно скудные урожаи.
К сожалению, была ещё одна причина нежелания работать. Это были заоблачные налоги. Такие, что чем больше человек работал, тем больше он должен был платить. Зачем надрываться? Получишь десять мешков риса – из них четыре надо отдать. Соберёшь двадцать мешков риса – отдашь девять мешков. Получается, что лучше меньше работать и меньше отдавать. Многие привыкли жить впроголодь, как привыкли к жалобам на тяжёлую жизнь, на высокие налоги, на неурожаи и бескормицу…
Но страшнее всего были войны и набеги. Вот тут уже никто не спрашивал, сколько ты должен отдать – захватчики загребали всё подчистую. Лучше было не сопротивляться, а то можно распроститься с жизнью. Некоторые, те, что поумнее, делали схроны, куда ссыпали семенное зерно, прятали крупы, а в открытых кладовках стояли полупустые хумы, на дне тонкой плёнкой плескалось масло или лежали горстки круп. Этого было не жаль. Труднее было со скотиной, прятать её негде. Можно отогнать за реку, но и там она не была в безопасности. Каждый хозяин приспосабливался, как мог.
Вот уже семь лет в Мавераннахре никто ни с кем не воевал. Незначительные стычки беков в счёт не шли. Абдулазиз-хан и правитель Самарканда, не поделив Бухарский престол и помахав саблями, вскоре помирились и больше не воевали. В Бухаре был свой правитель, в Самарканде свой. Но та маленькая война обошла Афарикент стороной. Не зря про Искандер-султана говорили, что он как дервиш – лучше омон-пули* заплатит, чем станет воевать. Поэтому и налоги были большие. В семье Халила работы никто не боялся, от того не голодали. Но богатством никогда не хвастались. Опасно было это делать и все понимали: «У длинного языка жизнь коротка».
Утро принесло Халилу новые волнения. На пути в мастерскую его ждала Лайло и упросила зайти поговорить. Потупив глаза, она заявила, что разговаривать при всех за чаем или на айване ей неловко. Халил был крайне удивлён: Лайло никогда не стеснялась говорить обо всём как при своих, так и при чужих. Усадив мужа на курпачу и подоткнув ему под спину самую мягкую подушку, она налила свежего чая и опустила голову, собираясь с мыслями.
Такой растерянной Халил видел свою жену лишь на свадьбе, когда она узнала, что выходит замуж именно за него. Помявшись немного и покрутив пальцами кончики платка, она выложила странные новости своим гортанным голосом, стараясь умерить его силу. Небывалая и непредсказуемая новость о сестре Нафисе и её просьбе о поездке в Бухару сначала развеселила Халила. Вскоре он понял, что это не шутка. Мысли плотника разбежались испуганными тараканами в разные стороны.
Чего? Куда? Зачем? Да чего только эти глупые женщины не придумают? Какая любовь? Какое замужество? У Нафисы от усталости всё в голове смешалось, и она сама не понимает, что говорит! А кто здесь будет заказы выполнять, кто будет работать вместо Зумрад? Халил, не допив чай, поднял глаза на Лайло и сообразил, что его жена в такой же растерянности. Вот отчего были все эти рыдания и слёзы, когда Одылу приходилось отказывать свахам! А Халил-то здесь при чём? И только тут он ухватил суть дела – жена просит его поговорить с Одылом и посватать Нафису за Закира.
Объяснение простое: жить-то в новом доме в Бухаре будут одни мужчины. Согласие должен дать отец девушки, а просить за неё должен будущий кудо! Ну до чего же хитрые эти женщины, до чего изворотливые! Даже улитки не такие скользкие, как эти плутовки. Получается, что его племянник женится на двоюродной сестре его второй жены. Вот уж точно, думай-думай, а нарочно такого не придумаешь. Надо ещё и племянника уговаривать, чтобы женился на такой взрослой невесте, а если честно сказать, попросту старой.
Конечно, Одыл будет рад выдать наконец-то свою Нафису замуж. Сам Халил привык считать сестрёнку жены чем-то совершенно незаменимым в семье. Именно она заменила Зумрад в рукоделии и все пяльцы-шмальцы, напёрстки-отвёрстки полностью перешли к Нафисе. Старому плотнику было трудно сразу понять, что всех изменений будет намного больше. Дом в Бухаре действительно нужен большой. Неужели Али что-то знал про это, ведь вчера так уверенно говорил о женитьбе Закира? Но нет, этого, судя по всему, никто не знал и никто не догадывался. А вышивальщица-то много лет точила слёзы по его приёмному сыну.
Лайло сидела на курпаче, понурив голову, не смея взглянуть в лицо мужа. Вроде это она виновата, что недосмотрела за сестрёнкой. Не виновата ни в чём, у той отец есть. Если Одыл вовремя не позаботился выдать дочку замуж, то теперь пусть вкладывается в строительство дома в Бухаре. У Халила разгладилась морщинка между бровей. Нечего страдать, всё идёт как надо: Нафиса девушка хозяйственная, послушная, своё ремесло знает хорошо. Судя по тому, что так долго хранила привязанность к Закиру, верная и постоянная. Улыбнувшись своим мыслям, он погладил жену по волосам, провёл тыльной стороной руки по круглой смуглой щеке. Скользнул пальцами по подбородку и обрадовался пришедшей ему сейчас мысли, что сегодня он ночует у Лайло.
– Женщина, можешь сообщить своей сестре, что если её отец согласится на то, что она выйдет замуж за моего племянника, то она переедет в Бухару. Но тогда расходы на дом будут пополам. – Добавил Халил. Не мог упустить, чтобы хоть как-то не сэкономить на стройке. Родня роднёй, но расходы, связанные с переездом довольно большие. Просить денег у Одыла было неловко, а тут такой случай подвернулся! Лайло поняла и мысли мужа, и безмолвную ласку, и то, что «женщиной» он называл её лишь тогда, когда собирался провести с ней счастливую ночь. – Пойду к Одылу, нужно обо всём переговорить. Но вот что делать с калымом и приданным, ума не приложу. Ладно, мы всё-таки родня, договоримся как-нибудь!
Сказать, что Одыл обрадовался приходу Халила и нежданному разговору – значит, ничего не сказать! Он сначала растерянно слушал своего кудо, потом вскочил, начал обнимать его и целовать. Потом бросился танцевать, тряся в руках дойру*, совершенно не умея на ней играть. Одыл смеялся, а по лицу его катились старческие слёзы. Поэтому сообщение о том, что не мешало бы дом строить вдвоём, не вызвало у купца никакого неудовольствия. Вернее он даже не заметил, что на его кубышку с деньгами позарился один из близких родственников.
Он так был рад, что единственная дочка наконец-то выйдет замуж, и за кого – за слушателя медресе, за умного человека, за сына Халила. Одыл был готов целиком возводить дом на свои деньги. Прибежавшая на шум и крики Айгуль быстро всё поняла и включилась в общее веселье. Её старшая дочка Дильбар перебежала через дорогу и тут же сообщила новость старшей женщине Зумрад. Вдруг веселье Одыла сошло на нет:
– Халил, брат мой! А вдруг Закир не захочет жениться на Нафисе, она уже такая взрослая! Да что я сам себя обманываю, старая она для невесты. А в Бухаре не в пример больше красивых рукодельниц, куда там моей дочке! Я хоть и люблю её безмерно, но не могу не понимать, что товар-то залежалый. Не порченый, не битый молью, но старый, ой какой старый! – он сгорбился, сел на подушки свесил голову на грудь, размазывая невысохшие слёзы счастья по плоскому лицу.
– Одыл, брат! Не о том ты беспокоишься. Закир женится на той невесте, на какой я велю. А Нафиса девушка очень хорошая. Старая, говоришь? У неё что, седые волосы, или она хромает на обе ноги? Или у неё кривые руки и она не может приготовить вкусную шурпу или плов? Или она слепая, косая, кривая, рябая? Или она не самая лучшая вышивальщица в Афарикенте? Только в Бухаре есть мастера-мужчины, которые могут быть искуснее, чем она! И то лишь потому, что вышивают золотом! А может быть у неё какая-то скрытая болезнь? Она живёт в моём доме вот уже двенадцать лет, и я не заметил ни одного изъяна! Нет, она красивая, молодая девушка. Это ты мне должен такие слова говорить, а не я тебе. По рукам?– Халил торопился завершить сватовство и сделку по строительству дома, чтобы Одыл не опомнился и не пришёл в себя, поняв, в какие расходы втравил его кудо.
– По рукам брат! Сегодня барана режем, помолвку отмечаем. – И Одыл опять полез к Халилу обниматься. Халил уже не сопротивлялся, это надо же такому случиться. Вчера с утра полумёртвый сын и суд, а сегодня повторное родство. Ведь его дочка давно замужем за сыном Одыла. Не мог он подумать пятнадцать лет тому назад, что этот кочевник станет для него самой крепкой опорой и поддержкой в жизни. Давно пора родниться кочевникам с осёдлыми дехканами и ремесленниками. Только так в Мавераннахре наступит спокойствие – не будут же одни дяди резать и вешать своих племянников, а другие насиловать племянниц и вспарывать им животы.
Домой Али прибежал, когда все уже разошлись по делам. Слишком много он раздумывал, а то сидел бы за дастарханом раньше всех. На айване было пусто, а на скатерти оставались несколько кусочков лепёшек и тёплый чай в чайнике. Глаза Али обежали двор. Отца нигде не было, голоса его не слышно. Мать почему-то до сих пор на своей половине. В это время она давно распекает за плохую работу работников. Она всегда находила к чему придраться. Иногда она сидит с матушкой-сестрицей на её половине и чешет языком в своё удовольствие.
Что-то не так, но не это главное, быстро посмотреть, что с Уьмасом. Зайдя в комнату, он увидел, что братишка проснулся, рядом с ним на маленькой скатёрке стояла глиняная коса с разными орехами и кишмишом, пиала с чаем и небольшой чайник. Лайло ласково гладила Ульмаса по его бритой голове, обвязанной свежей тряпкой. Увидя Али, махнула рукой и отправилась на задний двор. Без хозяйского догляда и редиска расти не будет. Али поёжился «Как это я утром про брата забыл, я же думал, что быстро вернусь, но задумался». Ему стало стыдно, но брат ничего не сказал. Лицо у него было чрезвычайно довольное.
– Это чему ты с утра улыбаешься? И скажи мне, что ты видишь и как? И где лоханка под отбросы? – Али решил, что если брат улыбается, то всё хорошо.
– Али, ты вот ночью на балахане спал, а я здесь. А в соседней комнате матушка с Нафисой шептались. Оказывается Нафиса влюблена в Закира, и сегодня батюшка пошёл к дедушке Одылу договариваться насчёт свадьбы. Дедушка Одыл тоже будет с нами новый дом в Бухаре строить. Они вместе будут строить. Вот. Они мне всю ночь мешали спать своими шептаниями. Утром ещё матушка с батюшкой долго разговаривали, но уже громко. Никаких секретов в доме нет, вечером шепчутся, а утром во всё горло кричат! Вот мы с тобой можем секреты хранить, а они все какие-то неразумные, как дети. – Безбородые молодые лица двух хитрецов склонились друг к другу и воспоминания о больших и малых секретах, хранящихся в их головах, заставили обоих улыбаться! – А про меня все забыли. Я чего ещё хотел сказать, мы точно сами дом будем строить. Если бы один батюшка решал, то он мог и передумать. А дедушка Одыл нас сильно любит, будет всегда защищать и позволит нам всё сделать самим.
Круглое лицо Ульмаса с крохотной горошиной носа, зажатого пухлыми щеками, было таким довольным и умиротворенным, что Али опять заулыбался.
Да, дедушка Одыл всегда на их стороне. У него самого уже трое внуков, потому что их сестрица Айгуль родила двух девочек и мальчика. Но они ещё маленькие, старшей дочке Дильбар всего одиннадцать лет, а внуку Киличу десять. Про Бахор и говорить нечего, мелочь пятилетняя, даже разговаривает ещё плохо. Бобо их любит. Дедушкин охранник научил их драться. Бобо всегда с ними разговаривает, про разные страны рассказывает, про большие красивые здания. Жаль, что он рисовать не умеет, а то бы нарисовал всё то, что когда-то видел. Дедушка Одыл рассказывает так понятно, что и без картинки всё видно.
Эх, если бы Ульмасу можно было вставать, они бы побежали вдвоём в дом к деду, там Айгуль. Она уже вчера прибегала, сидела возле Ульмаса, гладила того по голове, вздыхала и говорила разные ласковые слова. И Гульчехра приходила, это та, которая повитуха. Её так сильно уважают все в махалле! Она всегда занята, но всё-таки нашла время и забежала проведать младшего братика. Только Ойнисы не было, но она редко приходит в гости. Далеко и некогда ей. Четверо детей и она опять беременная, скоро родить должна. Дядя Анвар не любит, когда его молодая жена уходит из дома, есть такое слово смешное. Он свою жену ревнует, так матушка говорит. Это значит, что муж, то есть дядя Анвар, боится, что их сестрица Ойниса на какого-то другого мужчину посмотрит. А что, неужели замужней женщине нельзя смотреть на мужчин, она же не слепая?
– Ульмас, смотри что я придумал с домом. – Али разложил на курпаче чертёж и стал показывать братишке. Тот быстро понял, что новый план удобное, чем те, по каким строят сейчас. У каждой комнаты есть свой выход на улицу, зимой холодно, всё тепло будет выходить через двери. – А если пристроить к дому совсем маленькую комнатку и через неё заходить в гостиную, то тепло выходить не будет совсем.
– Ты это про какую комнатку говоришь? Для чего она нужна? – Ульмас повертел головой и решил. – Ты прав, туда можно повесить на стену крючки для верхней одежды, чтобы она в комнате не валялась на сундуках. И поставить разные подставки для обуви. Для каждой пары будет своё место, а то всё время путается обувь. Ты же всегда мои чорики обуваешь…
– Неправда, твои чорики мне велики, у тебя такие же большие ноги, как и у брата Карима, а у меня ноги меньше, чем у тебя. – Али действительно обувал чорики брата, свои пока найдёшь, пока натянешь, а эти растоптанные.
– Если они тебе и велики, то зачем обуваешь не свою обувь? Если так будешь делать, я твои праздничные кавуши обувать буду. Это те, что брат Карим подарил в прошлом году на Навруз. – Несмотря на то, что семья не считалась бедной, все вещи носили поколениями, от отца к сыну, от старшего брата к младшему. Многие вещи служили десятилетиями. Новые вещи были редкостью и обновки были дорогие. – Да, эта маленькая пристройка будет хорошим подспорьем. Сразу два удобства тепло будет сохраняться зимой, а так же будет место для верхней одежды и обуви.
Халил был доволен всеми разговорами с кудо Одылом и младшими сыновьями. Те поспешили похвастать своими новыми изобретениями в строительстве. Всё это привело в радужное расположение духа. Его любовная возня с Лайло затянулась намного дольше, чем обычно. Лайло, умиротворённая приятными новостями, отвечала на его ласки, радуясь тому, что пока он дома и ещё не скоро уедет. Но из дневного разговора с матушкой-сестрицей поняла, что отъезд дело решённое и неизбежное. Поэтому пока он здесь, не нужно отказываться от такого блага, как совместная ночь. Когда Халил заснул, она полежала какое-то время на спине. Потом свернулась клубочком рядом с мужем и заснула под его мерное посапывание.
Ей приснился странный сон. Она редко видела сны. От безмерной дневной усталости Лайло по ночам спала как убитая, даже редко ворочалась. Ей снилось, что от их ворот между дувалами* едут три арбы. В них были запряжены не быки и не лошади, а ящеры. Она никогда не видела варанов, те водились в пустыне. Но представляла себе, какими они должны быть, потому что в вечерних сказках главными героями часто были драконы. Ящеры из сна были большие, их головы поднимались выше тополей, растущих вдоль арыка. Жуткие перепончатые лапы заканчивались корявыми и страшными когтями, взрывающими землю при каждом шаге.
Несмотря на нелепость увиденного ею, ящеры были взнузданы, а поводья держали в руках сидящие на козлах Ульмас, Али и как ни странно Лола, её дочка. В арбах, держась за узлы и разнообразный скарб, сидел её муж Халил, дядюшка Одыл, сестрица Нафиса и Зия-ака. Они смеялись, переговаривались друг с другом и с возницами, но совершенно не обращали внимания на людей, окруживших несуразные повозки. Кроме соседей на улице было много незнакомых людей. Некоторые из них были одеты в золототканые халаты. Другие в совсем нелепые кургузые то ли жилеты, то ли куйнеки*. Все весело и шумно переговаривались и показывали на мальчиков, сидящих в повозках.
Грохот колёс был такой громкий, что Лайло невольно проснулась. За окном бушевала весенняя гроза, молнии прорезали небо из конца в конец. Грохот стоял такой, что во всех окнах большого дома загорался свет. Лайло старалась вспомнить, не осталось ли во дворе что-то такое, что должно находиться под крышей. Нет, вроде всё хорошо спрятано. Халил не проснулся, и Лайло решила досмотреть интересный сон, но тот не возвращался. Капли дождя стучали по крыше балаханы, построек, по голым пока ещё веткам виноградника и кряжистой чинары. Лайло радовалась – весенние дожди очень полезные для урожая, тем более что вся земля была уже перепахана. Засыпая, Лайло похвалила себя за предусмотрительность. Не хотели работники пахать, но она их заставила. Подсохнет земля и можно сеять, урожай будет богатый.
Сильнее всех желанным новостям радовалась Нафиса. Она так настрадалась за последние годы от собственной глупости и молчания, что теперь тараторила не переставая. Как она будет любить своего ненаглядного жениха, как она постарается угождать ему во всём, да что она для этого будет делать. Старшая матушка, послушав этот лепет, зазвала её к себе и строго одернула:
– Да ты совсем глупая курица! Это кто же мужу во всём угождает? – строго шипела она, старясь, чтобы ни один мужчина в доме не услышал этих откровений. – Любить мужа тебе никто не запрещает, но только полоумная дурочка будет ползать перед мужчиной на коленях. Ты перед отъездом погости у Ойнисы да посмотри, как она своим мужем вертит. Тот словно волчок в разные стороны крутится, только бы её улыбку увидеть. А та не очень-то щедра на ласки! Зато муж у неё в кулаке, как бусинка в поясе! А ты – угождать, любить! Хочешь, чтобы он об тебя ноги начал вытирать, а потом вторую жену завёл? Если дом большой будет, а Закир станет мударрисом*, почему бы и нет? – умела Зумрад вразумить любого. Жизненного опыта у неё было больше, чем во всех сундуках добра. Нафиса внимательно слушала, понимая, что старшая женщина ей только добра желает.
– Как я могу это сделать? – у Нафисы задрожали губы…
– Мужчины ни в коем случае не должны догадываться, что мы ими вертим. Запомни, женщина – шея, а мужчина голова, куда шея поворачивается, туда голова и смотрит!
– Спасибо, матушка, большое спасибо! – впервые Нафиса назвала Зумрад матушкой, а не тётушкой. – Она решила, что сначала поговорит с сестрицей, та тоже все уроки Зумрад переняла в полной мере. А потом у Ойнисы и погостить можно будет. Новую вышивку ей покажет. Ойниса совсем перестала вышивать на заказ, но для себя всегда выдумывала новые узоры и щеголяла по Афарикенту в таких платках, что у всех остальных дух от зависти захватывало!
Белая, чёрная, серая – какая полоса будет следующей в жизни семьи плотника Халила…
Глава 2. Ветра перемен
– Великий хан, тебе налить ещё кумыса*? – невозможно спутать голос Зульфикара с голосом другого человека. В нём соединились интонации близкого друга, единственного брата, любящей женщины, учителя, болеющего всей душой за талантливого шагирда, да просто обеспокоенного человека. А ещё это был голос требовательного кукельдаша*, тщательно выполняющего свои обязанности по сохранению жизни и здоровья великого хана. Особых причин ни у него, ни у других окружающих бояться за меня не было. Я несколько дней нахожусь в странном состоянии – вроде бы жив, здоров, полностью осознаю, где нахожусь и что делаю. Но я сам на себя не похож и хорошо это понимаю. Мне всегда было смешно слышать обращение «Великий хан» и «ты», но вот уже дней десять я не улыбаюсь, когда Зульфикар это произносит. Мне не смешно и неинтересно, как меня называют и для чего ко мне обращаются. Я ничего не хочу слышать, не желаю ни с кем разговаривать и никому ни на какие вопросы не стану отвечать. Скучно…
Я смотрю на букашку, ползущую по зелёной травинке, и думаю о том, что наступит осень и эта букашка, так же как многие другие насекомые отправится на тот свет. Некоторые значительно раньше. Ими позавтракают или пообедают майны*, воробьи, возможно другие птицы. Таков круговорот жизни: либо ты кого-то съешь, либо тобой кто-то поужинает. А для жучков и других насекомых есть рай или ад? И что они там делают? Неужели в раю они не должны ползать в поисках пищи, а только греться на солнышке и слизывать нектар? А чем? У них есть язык или его подобие? Рот есть, по крайней мере имеется отверстие, похожее на рот. Жёсткие оранжевые крылья маленького насекомого трепетали. По обе стороны от них лохматые суставчатые лапки резво шевелились, неся жука прямо к моим сапогам. Если сейчас я не отвечу Зульфикару, он заползёт в палатку и раздавит моего жука.
– Нет, не хочу. У меня скоро этот кумыс из ушей польётся. Сколько же можно его пить? – я отвлёкся от ленивого разглядывания жука. Впервые за долгие годы, а может быть, единственный раз в жизни Зульфикар слышит, что я не хочу кумыса. Но я не хочу не только кумыса, я ничего не хочу. Я хочу сидеть в палатке с откинутым пологом, бездумно смотреть наружу. Мне тоскливо наблюдать розовеющую полоску на горизонте. Она осталась от показавшегося на краю земли солнца. Полоса постепенно тает, не оставляя после себя даже воспоминаний. Небо вдали постепенно становится чисто-голубым, без примеси других оттенков. А ещё я невольно сквозь туман глухого равнодушия замечаю, что наступает весна.
– Ты не хочешь кумыса? Почему? Кумыс свежий, холодный, правда, немного кисловатый, но ты именно такой любишь! Что случилось? Ты уже не первый день сидишь у входа в палатку и выходишь из неё только по нужде! Ты же сам хотел сюда приехать. Почему теперь тебе всё вокруг не нравится, и ты ничего не делаешь? – Ещё немного и Зульфикар позовёт табиба*. Он не понимает, что я совершенно здоров.
Это не болезнь, у больного человека что-то обязательно ноет, зудит, тянет, свербит, мешает. У меня ничего такого нет. Разве что душа? Но я и её не ощущаю. Может умереть душа, если тело живо? Но даже над этим мне не хочется размышлять. После сражений я часто наблюдал, как вырвавшись живым из круговерти боя, молодой воин сидит, судорожно сжимая в руках окровавленную саблю, и молчит. Он ничего не видит вокруг, слух его отключился. Можно кричать ему в ухо всё что угодно, поносить самыми последними словами, он не услышит. Он ничего не помнит из того, что с ним произошло. Он даже не осознаёт, что остался жив. Но я уже далеко не молод и давно сам не скачу впереди войска навстречу неминуемой гибели. Моё нынешнее состояние очень похоже на ледяное спокойствие палача, пытающего жертву. У того нет чувств. У него есть работа.
Последние полгода я не брал саблю в руки, не сражался, хотя тщательно готовился к войне. Я приказал казнить немногих, но это были преступники и лиходеи. Да и тех за доказанные беззаконные злодеяния. Странно, что именно сейчас я потерял вкус к жизни. Я всегда что-то созидал, производил, творил, куда-то бежал, торопился, подгонял других. Кроме этого ел, пил, спал, навещал гарем, смеялся, иногда плакал. Всё это делал, как хорошо отлаженные, навсегда заведённые часы.
В какой-то миг завод кончился и пружинка ослабла. Но никто не удосужился взять в руки ключик и запустить часы моей жизни. Обычно я сам себя гоню вперёд, как тороплю всех вокруг. Но пока что мне хочется сидеть и беспечно смотреть на проплывающие по весеннему небу облака. Я не хочу ни во что вникать, не хочу созерцать бурлящую вокруг меня жизнь. Сам себе я напоминаю не совсем нормального человека. Я просто старик, впавший в детство. Осталось начать пускать слюни.
По вечерам я не снимал халата и лежа на боку, сворачивался в клубок. Подтягивал под себя ноги и даже не всегда снимал сапоги. Так я раньше не делал даже на поле сражения. Ноги обязательно должны отдыхать. Вдруг придётся на следующий день много ходить или скакать верхом? В темноте в палатку заползал Зульфикар и стаскивал с меня сапоги. Я понимал, что ему тяжело и неудобно это делать. Он пыхтел и даже ругался свистящим шёпотом. Но я совершенно не помогал ему, даже специально выворачивал ногу, чтобы ему было ещё труднее снимать обувь.
Утром я упорно ждал, когда слуга обует меня и польёт на руки воды. Дожился. Скоро я заставлю умывать себя. Я скупо усмехался и ждал, когда мне подадут полотенце. Раньше я всегда сам его брал и тщательно вытирался. Я не любил капли воды, оставшиеся в жидких волосах на подбородке. Они создавали ощущение чего-то нечистого, холодного и неприятного. Теперь мне было всё равно есть вода в волосах или нет. Безразличие медленно убивает меня.
Нет, я не потерял остатки того, что мы называем разумом, но я нахожусь в безучастно-холодном состоянии. Оно меня почему-то вполне устраивает, и я не хочу его нарушать, хотя неотвратимо умираю душой.
О, вот букашка доползла до носка моего сапога и решила своим скудным умишком взобраться по голенищу выше! Да ничего там нет для тебя интересного, лучше ползи туда, где зелень, трава, цветы и покой. Я могу нечаянно придавить тебя и погубить чью-то безгрешную душу. Говорят, что индусы завязывают рот тряпкой, чтобы не проглотить какую-то мошку и не стать пожирателем божественной сути.
Глотать это насекомое я не стану. Наступила ранняя весна, этой крохе надо успеть оставить после себя потомство. Я осторожно поддел ногтем мизинца жука, подбросил на руке. Он взмахнул своими крохотными оранжевыми крылышками и улетел. А я сижу, смотрю, думаю… Возможно, потом всё это сменится кипучей деятельностью, но сейчас я, пожалуй, выпью кумыс.
Уже две недели я на свободе. Если кому сказать, что хан вырвался на волю, то любой человек тут же подумает, что враги государства захватили правителя в плен. Заточили в самое глубокое и сырое подземелье. Но он, ковыряя ногтями глину и вгрызаясь в монолитную стену жуткой темницы зубами, сумел вырваться из каменного мешка и сбежать от своих мучителей. Это почти похоже на правду. В Арке*меня окружает множество людей. Всем от меня что-то нужно. Некоторые чиновники действительно приходят по делу. С такими людьми приятно поговорить и ещё приятнее помочь!
Но чаще всего сардар* хочет в очередной раз напомнить о себе. О том, что у него восемь сыновей от трёх жён и двух наложниц. Не мешало бы каждому из них подарить если не вилоят*, то хотя бы икту*. За заслуги их прадедушки, оказанные моему предку в давно забытые времена. От изобилия знакомых, полузнакомых и просто благополучно забытых лиц у меня начинает болеть голова. Перед уставшими глазами мелькают цветные круги. Но никуда от людей не денешься, и даже если я собираюсь уехать на время из Бухары по делам, то в дороге меня непременно сопровождают те же беки. Изрядно докучают пустые разговоры и непременные просьбы сардаров. Из кабинета я могу просителя удалить, а куда его деть в дороге?
Что самое красноречивое у просителя? Глаза. Глаза умоляющие, ждущие, просящие, взывающие к сочувствию! Они следят за малейшим изменением моего лица, готовые тут же подать необходимый сигнал языку: работай, настаивай, умоляй, хнычь и плачь! И язык начинает свою ноющую, требовательную песню. Он такой же неутомимый, как и зеркало души, так же заклинает, но уже не подспудно, а явно. Голос просителя вибрирует, возвышается до трели соловья или опускается до бурливого потока горного водопада.
Всё это делается для того, чтобы я отыскал для его бездельника-сына подходящее имение. Этот лежебока даже одеться сам не может, а я должен отыскать богатое безнадзорное, никому не принадлежащее имение поближе к Бухаре. Если отбросить суть дела любого просителя, а обращать внимание на одни глаза и голос, то я давным-давно остался бы не только без ханства и Бухары, но без халата, и даже без исподнего! Про Арк и драгоценности я молчу, они первые ушли бы просителям в их бездонные сундуки.
Не пойму до сих пор, хотя часто об этом говорю, и ещё чаще думаю – почему многие мои братья и племянники с неистребимой страстью и верой в свои скудные силы и возможности рвутся занять ханский престол? На трон, на тяжелейшую долю в мире? Воюют, губят жизни своих приближённых, детей и внуков, жён, наложниц и просто хороших людей, окружающих их в этом мире. Неужели только возможность жрать в три горла и упиваться запрещенным вином, день-деньской валяться на мягком, так привлекает желающих занять ханский трон? Почему они не думают о том, что трон, или то место, которое мы называем троном это череда неприятных обязанностей. Их никто, кроме хана выполнить не может?
Но самая неприятная из всех обязанностей, это бремя отказывать просителям. Любой из моего окружения чрезвычайно удивится тому, что у меня есть множество неприятных дел! Все уверены, что у хана есть приятные и необременительные права. Но самое привлекательное в жизни хана, по мнению окружающих, это право ничего не делать, ни о чём не думать! Если какой-то дерзкий эмир* добился желаемого, то он не спешит выполнять свои обязанности. Он даже не догадывается об их существовании. В этом случае его ждёт досадная неприятность. Его зад недолго будет греть подушки на троне. Быстро найдётся не один сообразительный родственник, желающий поменяться местами с более удачливым братом или дядей.
Исчезнуть из Бухары без обычного сопровождения, состоящего из кучи сардаров и чиновников, мне удалось после долгой обстоятельной подготовки, проведённой кукельдашем. Я оставил в ханских покоях Арка очень похожего на меня человека. Ему велели притвориться больным. Зульфикар строго наказал табибу Нариману не выпускать подставного хана из спальни. Караульному десятку запретили впускать посетителей в мои покои. Такого человека долго и тайно искали по всем кишлаками и городам нашей благодатной земли. В закатных странах у подобных людей и обозначение есть, их называют «двойниками».
Это не брат-близнец. Такое чудо природы встречается достаточно часто, но в нашей семье их не было. Двойника нашли совсем недалеко, в кишлаке Каныш. Мухаммад-кули-бий кушчи всё таки решился поехать к своим кудолари*. Конечно, он постарался обставить своё посещение как можно скромнее. Оделся попроще, на конюшне взял не скакунов, а рабочих лошадок, чтобы не было заметно, что тех кормят лучше, чем едят жители кишлака. В один из дней месяца раби аль-авваль приехал в селение. В это время отмечался наиболее почитаемый праздник всех мусульман – день рождения Пророка. Кушчи пригнал небольшую отару. Двух овец с соблюдением всех обычаев принесли в жертву. Мясо раздали беднякам и нуждающимся. Лучшие куски приберегли для угощения близких родственников и друзей.
Жители кишлака догадывались, что пропавшая больше года тому назад дочка Юсуфа-праведника Гульнар приглянулась какому-то уж очень важному богачу. Догадывались, но о своих догадках помалкивали: «Мало знаешь, тихо говоришь, долго живёшь». Молодой богатый джигит по странному стечению обстоятельств не просто побаловался с дочкой дехканина и выгнал взашей, а женился и даже калым заплатил. Жители кишлака, нещадно битые жизнью, обиженные судьбой, разуверившиеся не только в справедливости, но потерявшие веру в шариат*, были поражены случившимся. Но не тем, что Юсуф женил своих сыновей на соседских девушках, таких же обездоленных, каким был сам когда-то. Юсуф поразил соседей тем, что не стал задирать нос, а стал помогать жителям кишлака.
Не деньгами, деньги у него закончились через две луны. Юсуф-праведник выручал в работе, одалживал беспроцентно семена, кетмени, лопаты, грабли. Покуда были деньги, он заказал у местного кузнеца три омача. У него было два взрослых сына и когда омачи в доме были не нужны, их тоже одалживал соседям, не заставляя отрабатывать. А ещё собирал мужчин кишлака на хашар*– поправить арыки и каналы, питающие водой Заравшана их неухоженные земли. Сказать, что после этого в кишлаке Каныш сразу же исчезли бедные и нищие конечно нельзя, но у народа появилась какая-то крохотная надежда на полуголодную жизнь.
На этом празднике Мухаммад-кули-бий углядел босоногого старика, скоромно сидевшего среди гостей. Тот был одет в выцветший потёртый халат как все остальные. Но не это удивило кушчи*. Как он потом рассказал, этот старик был похож на пресветлого хана «Как две капли воды». Старик сидел не на почётном месте среди родственников, а среди тех, кому раздавали куски жертвенного барана. Поначалу мой кушчи заподозрил, что это я так над ним шучу, переоделся в дехканина* и наблюдаю со стороны, как он себя ведёт. Но потом заметил, что со стариком запросто разговаривают жители кишлака и сам хозяин дома. Оказалось, что этот очень пожилой человек – дядя Юсуфа-счастливчика и живёт в его доме всю жизнь. Удивлённый Мухаммад-кули-бий исподволь, не показывая своего особого интереса, вызнал всю подноготную жизни неприметного деда.
Ни жены, ни детей у того не было. Пока был молодой, то работал в поле, но на калым денег так и не накопил.
Дехканин был младшим братом отца Юсуфа и полностью от него зависел. Состарившись, начал выполнять женскую работу, поскольку на дехканскую сил уже не хватало. Радовался тому, что из дома не гонят и даже кормят. Привалившее Юсуфу счастье в виде зятя Изатали, не сильно измелило его жизнь. Хотя немощного старика перестали корить, бранить, костерить и клясть по поводу и без повода, а также попрекать куском лепёшки. Такое часто происходило, но не со зла на него – от безысходности. Не зря Мухаммад-кули-бий был моим кушчи: взгляд имел орлиный. Он тут же смекнул, что несомненное сходство может мне пригодиться. По возвращении в Бухару доложил, кому следует, о предполагаемом двойнике хана. А следовало доложить лично кукельдашу, то есть Зульфикару.
Достаточно долго, почти луну* Зульфикар и его самые сообразительные подчинённые тщательно высматривали, так ли старик похож на меня или я на него. Для этого один из нукеров под видом бойбочи* остановился в кишлаке якобы для охоты. Его сопровождали друзья и старый слуга. Несчастного забитого прислужника достоверно изображал Зульфикар. Избалованный родителями бойбочи нещадно гонял слугу в Бухару и обратно то за соколом, то за собаками, то за какими-то пряностями. В кишлаке о них слыхом не слыхивали. Всё это была игра, но настолько искусная, что сельчане даже собрались побить бойбочи и его прихлебателей за неуважение к старости. Это намерение все благополучно позабыли после того, как сын бека накрыл богатый дастархан и накормил всех пловом.
Вдоволь наглядевшись на «хана» в старых обносках, день-деньской занимающегося женской работой и утирающего сопли рукавом драного халата, они решили, что наше сходство несомненно. Я подозревал, что оно было обнаружено намного раньше, просто Зульфикару доставляло удовольствие видеть хана в таком незавидном положении. Это была одна из шуточек моего молочного брата, а не гнусные происки против меня. Могу сказать одно – если бы я был на месте Зульфикара, я бы три луны в кишлаке просидел! Тем временем старика осторожно переселили из кишлака на окраину Бухары. За невысоким дувалом из саманного кирпича теснилось несколько неприметных кибиток для тайных дел.
Старик, по словам Зульфикара, несмотря на телесную немощь, оказался сообразительным и понял, что можно жить по-разному. Разбогатевший ненадолго племянник не очень-то тратил деньги на своих родных, поэтому жизнь одинокого дядюшки почти не улучшилась. Хотя бобо чаще стал ложиться спать не на голодный желудок, а после того, как получал на ужин лепёшку с катыком, а иногда и горячую шурпу. Когда старому человеку объяснили, что только потеря голоса и полное отсутствие любопытства продлят его жизнь до бесконечности и будет зависеть лишь от расположения Всевышнего, он всё понял.
Но меня удивило, почему это он раньше не был более сметливым, и оставался бедняком? Старик вразумительно объяснил Зульфикару, что в кишлаке особенно не из чего было выбирать. Тот участок земли, где он работал молодым, принадлежал его старшему брату. Его сыном был Юсуф, не похожий на своего отца, ни внешностью, ни характером. Юсуф-праведник, несмотря на такое красивое прозвище, унаследовавший участок после смерти отца, не захотел отдавать его своему амаки: у самого было трое детей. Пожилой человек скрепя сердце отказался от того, что наполовину принадлежало ему.
Да у самого старика уже не было сил обрабатывать землю и платить налоги, вот и остался приживалом. Таких историй много, хорошо, что племянник не выгнал его и продолжал кормить. Дядя в благодарность по мере сил выполнял домашнюю работу, не требующую усилий как при вспашке земли. Когда глазастый кушчи на празднике увидел старика, и выяснил, кто это такой, оказалось, что лет ему не так уж много. Но сколько, дехканину было всё равно, эти странные вопросы о возрасте его удивили. Старик знал, что племянник моложе его, но насколько моложе, не представлял. Он был неграмотный, как и все в округе, но считать мог. Я не знаю ни одного узбека, который не может считать хотя бы до ста.
В доме, раскинувшемся за унылым невысоким дувалом, старика отмыли, подкормили, чтобы тот не выглядел измождённым нищим. Через три луны он стал почти такой же загугастый*, как и я. Затем старика переодели в привычную для меня одежду и показали мне. Зеркала у нас не очень хорошие и я не думаю, что был похож на него – или он на меня, как две капли воды или дети, рождённые женщиной в один день. Но Зульфикар уверял, что отличает нас только по запаху и голосу. А ещё по некоторым моим особенным движениям. Последняя мелочь, отличающая нас, была несущественной – старик не успел растолстеть до моих размеров.
Пожилого дехканина звали Касым, Кары-Касым, и звали так достаточно давно. Я с огромным интересом разглядывал его, хотя старик меня не видел. В конце-концов Зульфикар сказал ему, что тот должен пожить в закрытой комнате некоторое время. Изредка, если понадобится, показывать своё лицо посторонним. Но должен прижимать руки к горлу и ничего не отвечать, словно его скрутила болезнь. Касым согласился с нижайшими поклонами и величайшей благодарностью. Наши голоса и речь разительно отличались. Дехканин говорил грубым, низким голосом простолюдина, а я более высоким и выразительным голосом образованного человека. Зульфикар решил на две недели сделать его немым.
Кары-Касым неприлично шумно радовался изменениям в своей жизни. Не каждому на склоне лет привалит такое счастье. Поэтому не задавал никаких вопросов и старательно повторял за молодыми учителями всё, что от него требовалось. Он научился, по распоряжению Зульфикара, ходить, как я это делаю. Я шагаю, широко расставляя ноги, поскольку полжизни провёл на коне. Так ходят все, кто часто передвигается верхом и простому дехканину не выучится этому. Но Хамид придумал простую вещь – взял табурет, которым у нас почти не пользовались, приделал к нему планку и попросил старика сесть на него, раздвинув ноги и держась за спинку. Это помогло, но Кары-Касым сам помог своим наставникам:
– Вам нужно, чтобы я ходил как джигит-наездник? Чего проще! В молодости у меня был ишак. Это, конечно не ваши скакуны-ахалтекинцы*. Я помню, как ходил после этого. Вы увидите, что не зря кормите меня три раза в день вкусной едой. – После этого дело пошло на лад. Старик начал переваливаться с ноги на ногу, как жирная утка, которую вот-вот зажарят с яблоками. Спустя некоторое время я поинтересовался у Зульфикара, действительно ли я так передвигаюсь? На что тот лукаво усмехнулся в усы и успокоил меня:
– Великий хан переваливается с ноги на ногу намного изящнее! Куда до него простому старому дехканину! – странно, я никогда не думал о том, как я хожу, ходил и всё тут.
Оказывается и движения руками, манера кушать, пристрастия в еде могут выдать, что перед вами не истинный хан, а его двойник. Конечно, если обращать внимание на мелочи, они от меня всегда ускользали. Пришлось Кары-Касыму привыкать к кумысу, а то бакавулбаши* безмерно удивится отсутствию с моей стороны интереса к этому благородному напитку. Хорошо, что скудная жизнь приучила его к воздержанию в пище, так как я всегда ел немного. Хамид возразил:
– Он всю жизнь голодал, а сейчас будет нагонять упущенное. Я когда попал к нукерам*, то полгода не ел – жрал. Мне было стыдно, но я не мог остановиться.– Его соратники грустно кивали опущенными головами. Соглашались.