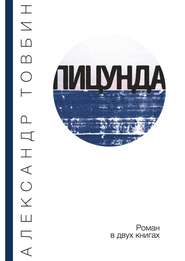
Полная версия:
Пицунда
Прогромыхала сквозь водосточную трубу льдина, разбилась о бетонную отмостку, брызнула во все стороны, и тут же, как назло, споткнулся, встряхнул калейдоскоп сознания, и новый узор из сиюминутных соображений плеснул в глаза кислотою упрёков: безответственная позиция наблюдателя? Полёт над схваткой? Спасаясь от ветра, закутаться в мантию духоборца, одержимого более чем неясной программой? Опять туман в голове… Или водянка мозга? И до чего удобен ныне новоиспечённый гражданин, борец с рутиной, ниспровергатель, нацепивший добровольно намордник! А текст – закольцевать, чтобы конец мог без промедлений слиться с началом: у попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, он её убил… и по кругу, по кругу, разгоняя частицы смыслов, как в ускорителе.
Пилообразная стена металлических гаражей, разлившаяся широко лужа, поделённая надвое тонким бетонным поребриком; намёк на дамбу, которую грозят построить, чтобы спасти нас наконец от наводнений, перегородив Финский залив? Жалкие гаражи – прибежище кустарей, рукастых умельцев, так и не подковавших блохи, ничего общего не имеющих с преуспевающими автомобилистами, встроенными в систему теневого сервиса. Гаражи эти – последнее и нередко счастливое убежище квартальных люмпенов, по призванию – технарей, дрыхнущих или играющих в домино, прислонившись к колёсам убогих, как треснувшие мыльницы, самоделок. И окутывает железные ящики со щипцовыми крышами, скооперированные с помойкой, какой-то тёмный, таинственно-жалкий быт. Одержимые, копошащиеся в тесноте люди вызывают симпатию, напоминая своей любовью к мотору и колёсам платоновских машинистов-механиков. Они живут в моторе, прислушиваются к его чиханию и кашлю, роются, точно прозекторы, в его кишках. Страсть к технике замещает крестьянскую тоску по хозяйству? Обмывая уродливые тела угловатых своих машин, они на самом деле чистят скребком старую кобылку-кормилицу. А заодно здесь же и мастерская, где можно выкраивать жесть огромными ножницами, орудовать напильником или припадать к верстаку, сгоняя рубанком тёплую стружку. Чёрт знает что это за место – крохотный, со стенками толщиной в полтора миллиметра гараж! В воскресенье была Пасха, воротца были распахнуты: сидели у машин, смазывали, скребли, фукали краской, закусывая матерком, попивали портвейн, разгоряченная полная женщина громко пела под гармошку – не в комнатке с ковриком, у гарнитура, а в железной, тёмной, с блеском склянок на полках пещере. Замена церкви? Новая молельня? Но порой, проходя мимо, можно поймать настороженный взгляд исподлобья, в котором, вырвавшись из мрачных глубин, вспыхивает неприязнь к чужаку, живущему как-то иначе, пьющему что-то другое; и столько пламени в этом взгляде, будто в каждом зрачке взорвалась канистра. И если булыжник – законное орудие пролетариата, то что же останется в его арсенале? Испуганные взмахи или безвольные опускания рук? Лишь бы уцелела голова, чтобы думать, выдумывая себе ужасы и приключения… Вдалеке, меж стволов, угадывалась прорезающая россыпи панельных брусков магистраль с мельканием машин и автобусов; туда, к помеченному светофором переходу, грязными ручейками стекались люди…
Холодный прозрачный воздух – солнце и прощальные заморозки с ворсом инея на бурой земле, перекинутая с пятиэтажной коробки на продрогшую вербу радуга.
Из-под радуги вынырнул самолётик. Лина? Нет, военный… Продев тянущуюся следом белую нитку в ушко слухового окна на ближайшей пятиэтажке, круто взмыл вверх…
Пропуская выехавшую из крайнего гаража, фырча и вихляя колесами, тарахтелку мордастого инвалида, заглянул вместе со световым лучом внутрь, за приоткрывшиеся воротца – на полках банки нитроэмали, молотки, щипцы, разнокалиберные клещи, блеснули топор, пила, ещё какие-то орудия пыток, странный сосуд с оранжевой грушей – старомодный распылитель или лошадиная клизма, куча промасленного тряпья скрывала освежёванную тушу или что-нибудь совсем страшное (из-под тряпок торчал в мир носок резинового сапога), но стриженный бобриком подельник инвалида – смывшийся из кунсткамеры экспонат в монументальном ватнике и отвисших на заду штанах уже выметал на наклонный дощатый настил окурки, красно-жёлто-голубые ошмётки яичной скорлупы, выволакивал из гаража рюкзак с пустыми бутылками, накладывал щеколду, копался в страшном, как боксёрская перчатка, замке. Сизое облачко бензинного перегара вернуло на фантастический перекрёсток, ещё чуть-чуть – и сшибутся бамперы, а от него останется лепёшка с запёкшейся кровью… Вонючий дымок тем временем мирно оседал на прутьях, которые ждали чудесного превращения в кусты смородины, а наш герой зашагал дальше, провожаемый остекленелым взглядом старухи с по-рембрандтовски тёмного портрета, заключённого в раму кухонного окна.
Наступил на крышку канализационного люка: надо же такому привидеться! Голый, на тумбе, наподобие ущербной садовой скульптуры, пытающейся прикрыть ладонью упругий комок плоти с драгоценными генами. Вторая серия сновидений? Едва прихлопул будильник, как снова забрал в когтистые объятия сон, уплотняющий время, умудряющийся вместить уйму слов и движущихся картин в ничтожный промежуток меж двумя позициями минутной стрелки, – картин, восстанавливающих развалившийся было чудо-перекрёсток, и слов, продолжающих поспешно прерванную коротышкой в круглых очках беседу, которая потекла теперь по другому руслу.
Сначала беседа потопталась на том же месте. «Илья… ээ-э-э-э, – блеял, будто бы и не уходил, коротышка, выдавливая на отвислой щеке жировик, – вот вы, молодой ещё человек, серьёзный, целеустремлённый и не без искры, да-да, – заискивающе заглядывая в глаза, тараторил, – да-да, я всегда так считал и всем, кому следует, это говорил, хотя однажды, признайтесь, что-то вас потянуло в сторону… Нежданное легкомыслие? Наврали безбожно расстояние между карнизными модульонами, а что бы стоило приложить рулеточку и записать правильное число на бумаге. И что вас тогда отвлекло на лесах соборного портика? Может, роман закрутился? Ослепила какая-нибудь красотка? Ну я шучу, шучу, хотя и не слыву остряком, да к случаю вышло, перестаньте дичиться, ну и бука! Что, скребут на душе кошки? – спросил металлически резко и зашипел: —И без нашей с вами претенциозности всё сущее истолкуется и пространственно, и вербально, и, разумеется, красками, звуками, которые сохранят после нас картины и нотная бумага. Хе-хе, город теперь – точно склад готовой продукции домостроительного главка? Бесподобно! И хлёстко, конечно, только зачем вам негодующий тон? Разве не является “склад” тем самым пространственным истолкованием сути социализма, ясным и правдивым, хотя на взгляд одарённого юноши – тотально-скучным, как сплошная казарма? Но почему бы вам не сделать ещё один шаг к пониманию: разве строго функциональный казарменный быт не нуждается в оформлении? И заметьте, не обращая внимания на то, что я повторяюсь: без нас с вами, интерпретаторов-толкователей, обошлись, оформили на славу, хотя и нашими руками и теориями воспользовались, такова се ля ви, как невозмутимо сокрушаются англичане, теряющие, между прочим, с точки зрения былого колониально-имперского величия, позицию за позицией. Зарубите себе на носу: личности больше не нужны, много о себе мнят, порываясь сопли утереть коллективу, ищут себе голгофу покруче, взваливают, не спросясь, всю тяжесть мира на хилые свои плечи. И держат фигу в кармане! Поганые пасквилянты! Стряпают злобные поклёпы на то, что у нормальных граждан вызывает чувство законной гордости! Не допустим! Защитим завоевания! Сгноим!!! Калёным железом выжжем!!! На худой конец, выдворим!!! Хе-хе, струхнули? С вас фант, с вас фант, – приговаривал, то приседая на корточки, то прыгая на одной ножке, смешно обхватывая ручонкой другую. – Ну-ну, полно, что вы снова заелозили на своей тумбе? Я, конечно, опять пошутил, на сей раз, может быть, особенно неудачно, да ещё используя зубодробильную риторику Агитпропа. Пардон, пардон, однако же подумайте сами – что с вас возьмёшь, гол как сокол, а если бы и одеты были, то какой там фант, какая фига, карманы, наверное, и те дырявые, мелочь просыпается за подкладку. Ох, горе моё, как я хочу вам помочь! Пиф-паф, пиф-паф, пиф-паф, – снова зачастил Пиля и, продолжая паясничать, припал к плечу Соснина, выдавил из-под очков пыльные слёзы. Как же вам помочь, какое отыскать для вас достойное дело? Или хобби – хобби лучше звучит, современнее? Что бы этакое в меру новаторское выдумать, а? Как же нам с вами сломать традицию и не выйти за границы дозволенного, а?
Вот задача… – тяжело задышал, выплеснул бесцветный язык в чёрных язвочках, точно липучую ленту с мухами. И тут же лихо, молодцевато, как в твисте, присев и крутанув задом, с лёгкостью брюхатой свиньи напрыгнул на крыло самосвала, уселся, болтая не достающими до асфальта ножками. – И что за неаппетитные гетеры толкутся на этом углу у кофейни с неофициально присвоенным молвой вьетнамским названием! Хотя позвольте, ах, ах, снова пардон, зрение слабеет, старость не радость, это ведь совсем не тот угол, и что меня второй раз на него потянуло? И знаете, мне всё кажется, что я… – как школьник с перил, скатился с крыла самосвала на ягодице, фатовато оглянулся и, набычив шею, передразнивая акробата, завершившего коронный трюк, развёл ручки, стал кланяться, вдохновляя публику на овацию. – Я вам уже с три короба насоветовал, но ещё посоветую, если за перо возьмётесь, писать без замаха на что-то грандиозное, эпохальное. Напишите что-нибудь лёгкое, короткое, попробуйте. Зная вас, как облупленного, скажу откровенно, без обиняков, так, как может сказать только старый друг, который очень долго и внимательно за вами следил или, точнее, курировал: напишите-ка про украшение жизни – женщин, очаровательных, приятных во всех отношениях, выберите на свой вкус, добавьте зеркальные залы в бронзовых завитках, зелёные насаждения, водную гладь. Ах, были когда-то и мы рысаками. Ах, молодость: чёрные узорчатые чулки, абрикосовая помада, чарльстон… Как славно-то! Трогательно! Может быть, даже сногсшибательно! Знаете ли, надо попробовать, отвлечься от дум, а не сваливать духовное бессилие на общественные утеснения. Мечтателю обычно претит роль кумира толпы, он замыкается в избранном кругу родственных душ, и он, этот круг, сужается до тех пор, пока в нём не сохранится лишь одна душа, принадлежащая ему самому. Да уж, смех и грех: вы в непригляднейшем голом виде – в центре внимания, ещё бы, на Невском, на Броде то есть, где все вылупились на вас, как на единственного героя! А гложет-то вас чувство потерянности. И, – брезгливо шмыгнув, втянул бензиновые испарения ноздрями, – мечтаете об озонаторе? Думаете, как бы разрядить спёртую атмосферу? Ба: у вас же нет выбора, здесь нет, и там, за океаном, если решитесь дать дёру, тоже не будет, учтите: соблазн XX века – тотальное сплочение, сотрудничество, радостная необходимость припадать к общественной машине, дышать её выхлопами. Ей-богу, это ещё и безопасное, простите за грубость, общедоступное счастье – стать в ряд, образовать шеренги. Взрывы энтузиазма, шествия от победы к победе глупо было бы игнорировать, хе-хе, испытав экстаз, и строятся в ряды, разворачивая знамёна веры, ради которой готовы занести меч, пустить кровь, бросить неугодных под колёса исторического локомотива… Хе-хе, остаются лишь головы угодных, и множество ног маршируют к цели. Хе-хе: грядущее! Будущее! Совсем смешно! Запомните: вы не гордая личность, прозревающая мировые перспективы, даже не пигмей в татуировке и перьях, а рабская клеточка неуклюжего и злобного механизма, и пока вы дышите, хотя и матерясь, этой вонью, пока вкалываете, хотя и ругая оскорбительно низкий КПД, на государственную машину, вы остаётесь ему полезным. И почему вы слушаете меня с таким безразличием, будто спите? У меня плохой слог? Я, конечно, говорю сумбурно, может быть, вычурно, сам себе то и дело противоречу. Но смилуйтесь, я же хочу быть современным, амбивалентным, хочу учесть карнавализацию, моду на смеховую культуру, замешанную на серьёзности, если проще – дай бог память, – на мениппею, я хочу перейти в свою противоположность, хочу извернуться, уместив многоголосье и многоглазье в одном голосе и одном взгляде. К тому же это экспромт, мне бы время на подготовку – я показал бы товар лицом, украсил бирюльками. А, понял, понял – вам, выходцу из подполья, претят чужие сознания, вам и моё-то сознание нужно только затем, чтобы ловить в нём свои бесценные отражения! Ну и ловите, ловите, – обиженно прохныкал, затем зевнул, прикрывая рот пухлой ладошкой, и подал какой-то знак со щелчком пальцем, напоминающий жест ресторанного завсегдатая, подзывающего гарсона. С проезжавшей мимо мотоциклетки с цистерной на прицепе ему протянули кружку ржавого кваса, он успел кинуть медь в мокрую тарелку с отбитым краем.
Продрогли? Ветер каверзно напоён инфлуэнцией… Балтика – от неё жди насморка с гриппом. А я, к слову сказать, листал недавно польский иллюстрированный журнал, каюсь, каюсь, у внука стащил из любопытства, так вот, мужская мода преобразилась, знаменитые фирмы взялись за дело: линии! Вам бы те фасончики подошли, поверьте, – плавно ниспадают цвета беж брюки, шоколадный пиджачный верх, рубаха апаш и шейный оливковый платок из шёлка в горошек. Увы, обнажившись, вы продрогли, покрылись гусиной кожей, а ведь это лишь толика творческих мук – ждите, ждите, пока накроет горячей волной вдохновение. О, искусство зачинается искусом, не так ли? Для разогрева вдохновения вам нужен толчок чего-то необъяснимого, соблазнительно-отвратительного? Хе-хе-хе-хе, вот и я, друг-наставник-куратор, «агент нечистой силы», то есть искуситель, как сейчас вы в сердцах подумали, тут как тут, к вашим услугам, – грохнул о капот машины пустой кружкой, – эх-хе-хе, толчок как кнут? Да, я по дьявольской традиции пока напустил тумана, но как же иначе, без кнута, вас усадить за письменный стол?
Только не нафантазируйте ради бога лишнего, судьбоносные встречи с нечистой силой случаются только в великих романах, а мы с вами, не один пуд соли съевшие, знаем: в антирелигиозной среде нет места ни богу, ни чёрту. Всесильное благодаря своей верности учение выстроило великую и бесконечную духовную пустоту, всё расчищено для новой нравственности, мы ждем её с минуты на минуту или – между нами, – как шутят в курилке Госплана, с пятилетки на пятилетку. А вы тем временем… опускаетесь ниже и ниже в преисподнюю, уже по щиколотку опустились, а там, внизу, жуть покинутости и запустения: факелы давно погасли, остались лишь полуистлевшие саркофаги великих, да – затхлость, копоть на сводах. И зачем вам блуждать по заброшенным катакомбам, где сам чёрт ногу сломит? Ну не дуйтесь, не содрогайтесь, опять пошутил, и опять – себе же противореча: если нет ни бога, ни чёрта, то и я переквалифицировался, я уже посланец банальности, предостерегающей от всяческих возвышенностей, моя цель – разъяснить новые правила игры, выгодные всем сразу и спасительные для тех, кто устал от психологически непродуктивных иллюзий и не желает расшибать лоб о стену, ограждающую наше суетное время от вечности. Но об этом, как вы понимаете, не на ходу.
Из вечности, будто бы из чёрной сырой дыры, понесло холодом, и, натягивая одеяло, услышал: решайтесь… «Усадить за письменный стол», – вернулось эхо. Но зачем садиться за письменный стол, чего ради? Искуситель напустил тумана, а всего-то, наверное, взбесились нейроны, запутались нейронные сети. Вот мысли и обрываются, будто бы замещаются многоточиями…
Хм: художник, решайся? И если всё-таки вообразить, что уселся он за письменный стол… О многом умолчать, но сказать что-то важное, пусть сбивчиво, но рассказать, досказать, пересказать, подсказать, высказать; собрать несколько картин, может быть – движущихся? Триптих?! А что, идея! Сплочённые одной рамой три мажорных автопортрета с тремя разными Саскиями…
Как-то приехали с Лерой на дачу к её подруге. Бродили по лесу, валялись в траве, пока не загнал под крышу короткий, солнечно-проливной – грибной? Слепой? – дождь. Поднялись по крутой лесенке в обшитую проолифленными сосновыми рейками мансарду, в скошенном потолке – приоткрытое оконце раструбом, за ним сквозь бьющее в глаза солнце покачивается сосновая ветка, на кончике каждой иголки – хрусталик капли, под оконцем – узкая железная кровать с розовым покрывалом, столик, литровая банка с водой и ромашками, колченогий, рассохшийся венский стул.
– Эта светёлка создана для греха, – протянул Соснин, глядя на грядки, от которых валил пар.
– Что же ты медлишь, растяпа? – рассмеялась Лера, высыпав из кулька землянику на блюдце. – Нас скоро позовут вниз, к обеду.
– Боюсь скомкать ритуал раздевания.
– Искусство требует жертв, но сегодня, – решительно стянула через голову сарафан, – мы жертвуем самим искусством…
А еще: Вильнюс, Кира – ноги в воде, туфли с каблуками-гвоздиками на траве, у струящейся мимо костёла бернандинцев речушки – жуёт булку; Кира в розовом на зелёном откосе берега, меж одуванчиками в пуховых беретиках… И – не удивительно ли цветовое совпадение? – розовое с зелёным в овальной рамке, чуть выпуклая финифтяная, с иголкой, пересекающей изнаночную, чуть вогнутую сторону, брошь, которую, прощаясь, подарил Лине…
На каком-нибудь нейтральном мгновении оборвать? Сначала подбирал к несуществующему тексту эпиграф, теперь тексту, всё ещё несуществующему, конец подыскивает. Так. Последняя (как и первая) фраза – камертон, их (незаменимые фразы) тоже трудно будет найти, но ещё есть время, а пока только дразняще звук замирает – будто вальс играли, хотя бы и штраусовский, «Прощание с Петербургом», и…
Стоп: красный свет, нет, не вальс… не нужна плавность, слезливость. Так, зелёный: оборвать надо резко, не оборвать даже, а отрубить если и не с садистской жёсткостью, то отстранённо, как если бы палач машинально опустил гильотину… Вспомнился тёмно-серый фасад с простодушно прижимающими к животам цементные букетики роз амурами на променаде; ему бы, окаменевшему тому променаду вдоль Мойки, продлиться, хотя бы до угла Гороховой дотянуть, но – срез брандмауэра, и зависает над пропастью карниз с амурами…
Вот, кажется, и поток, расставаясь с хором внутренних голосов, усмехнулся Соснин. Записать бы весь этот бред… И что за назойливое желание – записать, записать, записать?..
Средовая сумятица как образ душевной смуты?
Но можно ли мелькания записать? Мелькания ведь не снаружи – внутри…
И что получится, если всё-таки записать?
«Пережитое в предвиденьи и наяву».
Так-так: пережитое – в предвиденьи; «пережитое» – прошлое, «в предвиденьи» – прошлое, преображённое в будущее?
Предвиденье – сон, вещий сон?
А «наяву» – пробуждение; уже – в будущем?
Предвиденье – прорыв в будущее как сонм неясностей?
Разброс мыслей, эпизодов, спонтанная склейка их, концентрация – густой хаос осколочных картинок-шифровок. Крошево вместо мировоззрения?
Тайные подоплёки устремлений, которые останется ему преобразить и положить на бумагу?
Что-то случится, и он – положит на бумагу, положит на бумагу, положит на бумагу…
Что за подначка с утра пораньше? Не эту ли навязчивую идею внушал ему во сне, напуская туман, «агент нечистой силы»?
Ещё раз: одолевая (и отражая) хаос, положить на бумагу смешанные чувства и скачущие с пятого на десятое мысли?
Вдруг испытал прилив бодрости, прибавил шаг. Какое-то чувство готовности овладевало им; не понимал только, готовности – к чему?
К тому загадочному, что ждало…
Странно… Что могло ждать? Вот, середина семидесятых, а так хочется не замечать этого густого и душного времени с его тупыми эксцессами, этого соцреализма в кандалах, этой придавливающей поседневности с её «жизненной правдой» и единственным выходом по Высоцкому: «И так нам захотелось ввысь, что мы вчера перепились».
И шагнув от общего к частному: всего несколько минут ходьбы пришлось на эти мелькания-соображения, а сколько понадобилось бы слов, медлительной гусеницей ползущих строчек, чтобы дождаться, пока окуклится и – выпорхнет бабочка?
Его толкнули, потом ещё, ещё, толпа понесла, машинально сунул пятак в щель автомата, застыл на эскалаторе.
Со стуком сомкнулись двери вагона.
Запрессованный в сгустке тел Соснин изловчился и, удачливо ухватившись за хромированную штангу, закачался вместе с попутчиками, уставился равнодушно в дрожащее на бегущих рёбрах тюбингов отражение хмурых, невыспавшихся лиц в чёрном оконном стекле.
И вдруг…
Вспыхнул цветной слайд: берег с одуванчиками, Кира, опустившая ноги в воду…
И сразу на милый пейзажик наложилась какая-то возбуждённая толчея; увидел вживую Леру – окликнула, помахала рукой.
А он, залюбовавшись Лерой, как бы доканчивал утренние размышления свои: Лина сейчас подлетает к Вильнюсу, стюардесса предупредит, погода хорошая, здесь радуга, наверное, и там светлый прозрачный день, всё отлично видно внизу – башня Гедиминаса, бесчисленные ангелы над кровлями бесчисленных костёлов, Лина вспомнит – почему нет?
Имея цель, не обязательно терять память.
5. Лера
Большая профессорская квартира на последнем этаже в те дни принадлежала лишь им двоим: мать – на даче в Зеленогорске, брат – на студенческой практике в Тюмени.
Впервые появившись в её квартире, как, впрочем, и позже, при последующих визитах – рефлекторно? – кидался к высоким арочным окнам в затянутой густо-красной, с блёстками, тканью гостиной.
Напротив, словно вплотную, как если бы между собором и фасадом дома исчезла воздушная прослойка, громоздился литой торс Исаакия, надавливая на глаза фронтоном портика, западного.
Геометрия же всего, что выше, подчинялась капризу ракурса: золотой панцирь купола и даже ротонду искажал взгляд, мощные и будто бы незнакомые от кадрировки в оконной раме, будто бы преувеличенные проёмом-линзой формы косо уходили ввысь и, окунувшись в небо, где-то там завершались.
А прямо перед глазами – треугольник фронтона с когда-то собственноручно обмеренными модульонами (модульоны вблизи были неправдоподобно большими) и надписью по фризу: «Царю царствующих»; если же глянуть из окна вниз – к стилобату с циклопическими ступенями уходили, слегка сужаясь в перспективе, смугло-розовые, лоснившиеся, как ноги колоссов, стволы гранитных колонн.
Ступенчатый стилобат собора медленно, словно осторожничая, огибал синий троллейбус…
Так и не насытившись каменным зрелищем – столкнулись-таки снова лицом к лицу! – он неохотно отлипал от окна, сопропровождаемый боем часов, шёл в просторную, с большим овальным столом и старинным резным буфетом кухню, где она (назову её Лера) уже успела достать из холодильника зернистую икру, масло, помидоры, листья салата…
Вот и мельхиоровые ножи-вилки, тонкие фарфоровые тарелки с золотым кантом и – разумеется, баккара! – две пузатые рюмки. Оставалось только откупорить бутылку принесённого им и так любимого ею пятизвёздочного армянского коньяка.
Они по-домашнему, быстро и весело ужинали, но внешне – причёска, французская косметика, яркое блестящее платье, массивный браслет из чернёного серебра, ожерелье – Лера напоминала гостью дорогого и всегда модного ресторана, «Астории» например, чья неоновая реклама как раз зажигалась в белёсо гаснувшем небе – световая судорога пробегала по стеклянным трубчатым буквам, зависшим над горбатой железной крышей.
Утолив голод, с недопитой бутылкой шли в красную гостиную, по нынешним меркам даже не гостиную – залу с лепным карнизом, ветвистой люстрой из тёмной бронзы, тяжёлой мебелью, громоздкими часами с золотым маятником, бордовыми бархатными портьерами по сторонам высоких арочных окон и выбившейся из-под монументального бархата, парящей, планирующей, кувыркающейся на сквозняке тюлевой занавеской одного из окон, которую заманивали в полёт серенады летнего города, но которая, так и не вырвавшись на волю, обессилев, повисала за окном белым флагом…
Тем временем они торопливо раздевались, разбрасывая одежды свои по полу, спинкам кресел; развинчивались тугие замки браслета и ожерелья, как включённое реле, щёлкала последняя застёжка, а белые, в россыпи нежно-голубых незабудок трусики летели на массивный, точно колода для разрубки мясных туш, кожаный пуф. Впрочем, свалки из нарядов своих они уже не видели, весь этот тряпичный ералаш просто не существовал, так как они были уже в углу гостиной, за малиновой, из китайского шёлка, ширмой, своими ломаными плоскостями вырезавшей из большущей гостиной любовную капсулу с низкой деревянной кроватью – уютное в своей декоративной замкнутости, необходимое и достаточное им сейчас жизненное пространство.
Когда Лера внезапно, будто разом лопались все струны желания, затихала после рыданий счастья, Соснин, скатившись на спину, лениво разглядывал поверх ширмы упругие дуги окон, струящийся неверный свет белой ночи, плавно скользящие по высокому потолку сиреневатые тени, которые, постепенно размываясь, вливались в окутывающий люстру сумрак.
Иногда же любовный взрыв выбрасывал из пекла постели, его, невесомого, подхватывали прохладные воздушные потоки, нежно покачивали над площадью, как если бы под ним была та самая тюлевая занавеска. Бом-бом – ударяли, как казалось, где-то за пепельным оконным проёмом, часы. Для кого старались они? Несколько парочек, спасшихся от поливальной машины на островке партерного сквера, ничего не слышали и не видели, сидя в обнимку на длинных скамейках, а он одиноко облетал собор над чёрным мокрым асфальтом и крышами погружённого в сновидения города. Лишь однажды, глубокой ночью, когда часы пробили три раза, приоткрыл глаза и увидел потешную фигурку – этакого головастика в огромных очках-фарах, – которая, вспугнув стаю летучих мышей и сама сделавшись похожей на летучую мышь, рискованно зацепилась за карниз соборного портика, измеряя лентой металлической рулетки расстояние между модульонами…

