
Полная версия:
Новый год на пальце Будды
В другом конце зала, так далеко, что, может быть, это и было уже в другой жизни, стояла группа мужчин. Один выделялся среди прочих – не только одеждой, не только статью зрелого и решительного мужчины, не только седеющей бородой и даже не только особенным взглядом, по которому было ясно, как высоко он поднимает себя над толпой. Нет, ко всему этому она увидела, или ей показалось, что увидела, некую мистическую ауру вокруг императора. Раньше она это чувствовала, но видеть не могла, потому что на приемах старалась не поднимать глаз, как предписывал ритуал.

А сейчас, когда вдруг прошло головокружение, что-то внутри заставило ее поднять глаза и прямо, до неприличия, до дерзости прямо взглянуть на Сына Неба, снизошедшего до нее, ничтожной. И в этот самый миг, вероятно, она и переступила кармическую черту, завершив предыдущее воплощение и воспряв в новом. Потому что государь, смотревший до того несколько устало-рассеянно, вдруг вздрогнул, и глаза его выплеснули импульс энергии. Шевельнулись губы, будто он захотел что-то сказать, но сдержал себя, оставив звуки для другого раза. То, что этот другой раз настанет, стало ясно всем.
На этом аудиенция закончилась, и служанки увели Яшмовый браслет в предназначенную ей спальню, где она тут же заснула, измученная не столько дорогой, сколько эмоциональным переживанием кармического мига. А вечером объявили, что император пожелал лицезреть красавицу, и ее почтительно провели в юго-западную часть «Высочайшей купальни», отделенную невысокой мраморной перегородкой, позволяющей обозреть весь простор «Высочайшей».
Это была одна из восемнадцати купален Дворца пышности и чистоты, возведенного у Теплых источников. Император частенько пребывал там в возвышенном одиночестве, окутанный легкой дымкой испарений воды, что струилась из белого лотоса, выточенного из яшмы. Уж так завели предки, что никому не позволено было оставаться рядом с Сыном Неба, который покоился на белом яшмовом ложе посреди бассейна, чуть взволнованного высокой милостью, но жестко скованного белыми яшмовыми берегами, украшенными резными драконами, журавлями, рыбами все из той же белой яшмы.
На самом-то деле бдительные слуги ни на миг не выпускали императора из поля зрения, и не только из соображений безопасности, но более потому, что каждый миг Сына Неба был величествен и подлежал фиксации для назидания потомкам. Не только в бассейне, но и на брачном ложе императору не дано совершить ни одного деяния, коего бы не узрели и не занесли в особые скрижали. Сам же властелин, в зависимости от настроения и парения духа, далеко не всегда замечал прекрасных яшмовых драконов вдоль стен зала или молчаливых слуг, затаившихся в тени. Все это должно было служить ему, оставаясь как бы в ином духовном измерении.
Узкий угол для наложниц также сиял белизной, но саму ванну соорудили из кроваво-красной яшмы, и это было продуманно, потому что красный цвет возбуждает, препятствуя тому полному расслаблению, какое обретал властелин на своем белом ложе. Функционально, сказали бы мы сегодня, ибо ванна императора могла стать и самоцелью, ванна же наложницы должна быть лишь прелюдией.
В гримерной служанки суетились до невозможности. Они понимали, что от первого взгляда владыки на плоды их искусства во многом зависели и их судьбы. Долго хлопотали над бровями. Это был не легкий дневной грим, а особый вечерний – «холмики», «уточки-неразлучницы», «жемчужины», «три вершины», «облака» и многое-многое другое, выработанное веками ритуала, воплощающего одну из заповедей Конфуция, который на важнейшее после государственных дел место выдвигал четыре ипостаси единого действа – «Питие. Еда. Мужчины. Женщины». Впрочем, это, видимо, человек двадцатого века выставил внутри меня эту иерархичность – «после государственных». В те времена они были много более тесно взаимосвязаны. Ведь государство и семья рассматривались лишь как разные декорации одного спектакля.
Яшмовый браслет не отдалась служанкам на растерзание полностью, а взяла процесс в свои руки и велела вновь обратить особое внимание на сочетание глаз и бровей: глаза должны быть яркими и запоминающимися, брови, сведенные к носу, разить, как острия мечей, а противоположные их концы растворяться в недосягаемости висков, как в тумане испарений, как в дымке мечты. На лице, выделенном густым слоем белил, алел суженный до одного штриха, наподобие иероглифа и («единица»), рот с тонкими губами, над переносицей, почти в таинственном местоположении «третьего глаза», из-за полога непостижимого выступала бледнозеленая точка, а ее окружали, словно стараясь поглотить возлюбленного, две рыбины глаз, призывно изогнутые в неподвижности страстного мига. И ямочки на щеках придумала сама Яшмовый браслет: они были сделаны так искусно, что на маске неподвижного лица скрывались – и вдруг обнаруживались при улыбке.

Нужно ли было все это? И кому? Самой наложнице, дабы осознала величие приближающегося мига? Или даже психологии тут никакой не было – просто дань вековому ритуалу? Во всяком случае, когда тревожно замершую женщину почтительные служанки провели в обширную залу, полумрак, не рассеивавшийся красными свечами, обычно горящими в комнате новобрачных, казался пустым и холодным.
Но Яшмовый браслет вдруг ощутила, что тишина не пуста, она не одна в этом холодном зале, и не столь уж он холоден. В сердце поднялся жар, когда она поняла, что под пологом необъятной кровати ждет ее Сын Неба. Служанки покинули зал неслышно… Звучал благостный мотив – совсем не слащавый, какими обычно делают свадебные мелодии, безо всяких инструментальных украшений и завитушек, а простой, проникающий в душу мотив. Позже она узнала, что это и была знаменитая мелодия «Радужные одежды, зеленый поясок», поразившая Сюаньцзуна в Лунном дворце, куда однажды занес его сон… Тишина казалась неземной…
Наутро могло случиться всякое, в зависимости от настроения проснувшегося властелина. До отрубания голов наложницам не доходило, и выгнать восвояси уже не могли – кто же допустит, чтобы какой-нибудь червяк из мирской пыли воспользовался тем, к чему прикасался Сын Неба?! Но могли препроводить в один из трех тысяч государевых походных дворцов, где женщине порой доводилось встретиться с проезжающим государем вновь, а чаще она так весь век и проживала в воспоминаниях.
Яшмовый браслет задержалась на вершине. Наутро государь в знак своей особой милости прислал ей золотые шпильки в золотом ларце. Правда, ей еще не присвоили ранга официальной наложницы со всеми сопутствующими правами участвовать в текущих делах и, главное, в наследовании, но дали имя Тайчжэнь – по названию дворца, который ей определили и который носил имя философского термина, означающего первоматерию мира, а в быту воспринимался как характеристика – «Великая праведница».
Спустя какое-то время в один из фривольных мигов, каких становилось все больше, она с чуть заметной капризцей высказала свое огорчение. А когда, отбывая в Лишань, император не велел ей сопровождать себя, она надула губки: «Вы возьмете других из гарема!» – но вдруг ощутила успокаивающее объятие ласковых рук властелина.
…Весна уже затяжелела надвигающимся летом, и государь соблаговолил выехать вместе со своей возлюбленной фавориткой в загородный дворец Гуанцин, где уже пышно раскрылись пионы – «цари цветов», как именовали их поэты. Возбуждающе красные, ласково розовые, возвышенно белые и даже редкостно синие, особыми усилиями выведенные императорским садовником купы вздымали волны ответного чувства.
Разомлевшая красавица томно переводила взор с цветочного ковра на площадку, где ее любимая танцовщица Чжан Юнчжун вдохновенной пластикой движений пыталась передать узор весеннего разноцветья. Яшмовый браслет вдруг дала легкий знак служанке, и та поднесла ей бумагу и оправленную в золото кисть, из-под которой полились острые, как горные вершины Шу, иероглифы, складываясь в стихотворные строки – поэтическое впечатление высочайшей возлюбленной от танца.

«Осени», оказавшейся в строке вместо распалившей прелестницу весны, никто не удивился – это был знак высшей похвалы. Сам Сюаньцзун выразил свое восхищение и принялся подыгрывать на свирели и нараспев читать за стихами стихи, время от времени делая паузы, чтобы и Яшмовый браслет не осталась безучастной.
Она была так хороша, что стихи даже самых известных поэтов слабели перед этой, как говорили издревле, «сокрушающей царства» красотой. И тогда государь повелел призвать в Беседку ароматов придворного академика Ли Бо, дабы новыми, доселе не слыханными поэзами живописать то необыкновенно возвышенное чувство, что овладело повелителем в сей сладостный миг.
Летописцы передают, будто Ли Бо был хмелен и его с трудом привели в чувство. Так ли это? Возвышенные стихи рождаются не трезвым умом, а уж что лежит в истоках божественного озарения, не нам, смертным, судить.
Чары ли царственной девы, краса ли весенних цветов, импульс ли неземной души вызвали нужный отклик, но поэт, не задумываясь, сымпровизировал три строфы на мотив давней любовной песни «Чистые, ровные мелодии», восхитив властителя и его даму:
Твой лик – цветок, а платье – облака,
Росой омыта красота цветка.
На Яшмов пик, Нефритовый балкон
Спешит к тебе луна издалека.
«Сокрушающая царства» неотразимая красавица, пион, омытый благодатной, точно императорские милости, росой, развеяли грезы о недостижимых волшебных феях и нарумяненных древних чаровницах, поблекших перед чистыми прелестями Яшмового браслета: вот как поняли слушатели поэтическую импровизацию.
С тех пор фаворитку стали почтительно именовать фэйцзюнь («госпожа наложница»), хотя это еще не было иерархическим рангом, так что ее свиданиям с государем официальный статус пока не придавался, и под высочайшей кроватью евнух с регистрационной книгой не появлялся – возможное зачатие у Яшмового браслета пока не влекло за собой прав наследования. Но сама она осмелилась на такую дерзкую вольность, как назвать императора «третьим господином», как было принято лишь внутри семьи, и исполнить перед ним несколько фривольный танец «натягивание лука», где для свободы движений требовалось чуть подобрать длинные полы одежды.
Ее предшественницу Мэйфэй уже отселили из главных покоев. Сюаньцзун сжалился, и увядшей Сливе предоставили дворец Шанъян, где собирались наложницы, утратившие благосклонность властелина. Яшмовый браслет лишний раз убедилась в его земном человеческом благородстве, а не только небесном величии. Но позже, когда кидани на окраине империи подняли восстание и усмирять их решили традиционным способом – породниться верховными домами, именно на Мэйфэй дружно указали ближние советники, еще недавно ломавшие перед ней поясницы.
На следующий год Сюаньцзун повелел сменить девиз своего правления. Страна отныне стала жить в эпохе Тяньбао («Небесная Драгоценность»). Тут и теряться в догадках нужды не было – всем сразу стало ясно, зачем это сделано и что означает. Предшествовавшее «Открытие Эпохи» принесло столь пышные плоды, что Небо даровало своему Сыну великую Драгоценность, сверкание коей бросит новый благодатный свет на все бытие Поднебесной.
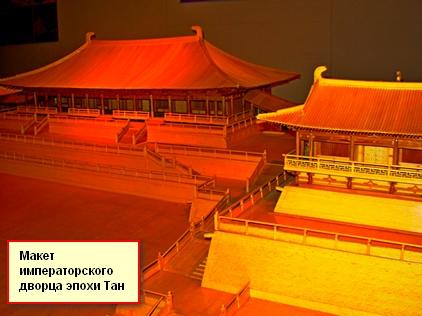
К наступлению нового года и новой эпохи государь с новой фавориткой вернулись в старую Западную столицу и вместе изволили любоваться красочными, самых разных форм фонарями, специально готовившимися к этому празднику. Как описывал поэт, «деревья-фонари сверкают тьмой огней, / Как будто бы цветы пылают меж ветвей». Не только во дворце, но на каждой улице, в каждом переулке, у ворот каждого дома были развешены фонари – бумажные фигурки со свечой внутри, и казалось, вся огромная столица этим уходящим к горизонту мерцаньем приветствует наступление новой эры, дарование Небесной Драгоценности.
Сама Драгоценность, уже всеми понимаемая именно так, но официально не имевшая еще этого имени-ранга, в сопровождении нескольких служанок покинула свой дворец Тайчжэнь и вышла на улицы, предусмотрительно, правда, спрятав лицо под маской. В людской толчее ей в конце концов пришлось сесть в сопровождавший паланкин и лишь в самом центре, торопливо миновав «веселый» квартал Синьчанли, покинуть его. На нее никто не обращал внимания – в этом кипящем котле ликованья все были равны. Но на одной улице ей повстречался высокий советник, а на другой она столкнулась с Мэйфэй – маской к маске. Веселый смех погас у той на губах, и, отвернув лицо, она бросила: «Свинья!» Казалось, что это всего лишь карнавальная игра, но обе фаворитки и их ближайшее окружение понимали тяжелый смысл происходящего. Одна эпоха не может сменить другую бескровно.
Ну, что ж, всему приходит свое время. Близился час и Яшмового браслета обрамить свое родовое имя высоким титулом. В ближайшем императорском окружении были наложницы фэй четырех главных категорий – гуй («Драгоценная»), дэ («Добродетельная»), шу («Высоконравственная»), сянь («Достойная»), а под ними – еще двадцати семи менее значимых. Названия этих рангов, каждое из которых имело не только свое иерархическое место, но и свой смысл, обрисовывая в совокупности то идеальное существо, каковому только и надлежало находиться близ Сына Неба, в действительности не значили ничего иного, кроме как степень внимания императора, от чего, как тепло от жаровни, распространялась почтительность подданных, мгновенно охлаждавшихся, как только фаворитку от «жаровни» отодвинут.
Ее час настал лишь на четвертом году эпохи Тяньбао.
– Это величайший год для госпожи наложницы, – почтительно согнулся перед ней высокий министр, – Вы покидаете дворец Тайчжэнь, переезжаете во внутренние покои и по всем ритуалам становитесь официальной наложницей.
В седьмом месяце, на исходе знойного лета, когда осенняя утренняя прохлада уже начинала напоминать о приближающемся сезоне термальных вод в Лишань, в саду Фениксов дворца Великого просветления был оглашен Высочайший указ о возведении Яшмового браслета в ранг государевой Драгоценной наложницы (Гуйфэй), и с этим именем – Ян Гуйфэй – она и вошла в историю навеки.
После оглашения указа Яшмовый браслет… покорнейше прошу простить мою оговорку – уже Драгоценная наложница, Ян Гуйфэй, – с полным осознанием своего права заняла высокое сиденье, инкрустированное драгоценными каменьями, и гордо принимала почтительные поздравления. Затем они с государем удалились в спальный покой, где звучала любимая государева мелодия «Радужные одежды», и это стало первой ночью, о которой можно было сказать, что новая фаворитка не по минутной прихоти, а официально, полноправно разделила ложе с императором, что и зафиксировал внимательный регистратор под кроватью.
Еще через четыре года, на той же седьмой луне, в ее седьмой день, когда вся Поднебесная трепетно вглядывается в небо, где весь год отлученные друг от друга Пастух и Ткачиха вот-вот должны слиться в любовном порыве, Сюаньцзун и Ян Гуйфэй тихим, никаким регистраторам не слышным шопотом поклялись друг другу в вечной любви – на земле и в небесах.
Возможно, по этой-то причине все и произошло так, как произошло впоследствии. Поэты и меценаты чаще всего не самым лучшим образом управляются с государственными делами, так что вновь на окраинах угрожающе зашевелились варвары. Наместник Ань Лушань, этот жирный дикарь, громче всех хлопавший императорской наложнице, когда та с изящными извивами исполняла танцы родной южной области Шу, влезший в доверие своей нелепой просьбой к Ян Гуйфэй считаться – в его-то годы! – ее сыном, – поднял свою варварскую орду против законной власти, занял обе столицы, Восточную и Западную, и сам возгласил себя «Властителем Девяти областей». Конечно, в его обвинениях было немало правды, страна погрязла в коррупции, чиновники брали совсем уж беззастенчиво, разоряя и народ, и казну… Двести тысяч диких степняков мятежного наместника были силой, с которой пришлось считаться.
Все семейство Ян, вознесенное с приходом фаворитки, было отдано на заклание. Слезы, застившие туманный взор гуманиста, не помешали императору согласиться на вечное прощание с любимой наложницей. Запинаясь, с трудом выдавливая из себя слова, первый министр вместе с изящным шелковым шнурком, коим надлежало туго обвить лилейную шейку, передал ей скорбную волю императора: «Драгоценная наложница… ни в чем не виновна… Кто посмеет… обвинить ее!… Но министр Ян уже убит… А как еще умиротворить их?…»
Лето уже завершалось, и мелкий дождик напоминал о приближении холодных сезонов. Но на сей раз горячие источники Лишань обволакивали своим туманным теплом пустые купальни.
Ей было тридцать восемь. Последние пятнадцать прожила она в высшем почете, комфорте, любви. «Ладно!» – удовлетворенно бросил мятежный генерал, увидев ее мертвое тело. Душа Драгоценной наложницы, как писал поэт, унеслась дальше райских кущ, в самую обитель блаженных – Пэнлай. Перед волшебником-даосом, посетившим ее там, предстала она в изящном пурпурном платье с золотыми лотосами в волосах. В сопровождении священного Феникса вышла из чертога, на высоких вратах коего было начертано «Дворец Великой праведницы». И передала нам, смертным, грустное стихотворное воспоминание о своем земном финале.

Бренное тело похоронили на холме Мавэй в окрестностях Лишань, где пятнадцать лет нежились в любви Ян Гуйфэй и Сын Неба, и всю недолгую оставшуюся земную жизнь Сюаньцзун оплакивал свою оборвавшуюся любовь.
…Чуть в отдалении от императорских курганов, как бы не желая в своем посмертном уединении смешиваться с дворцовой суетой прошлого и настоящего, внутри двора, обнесенная стеной и огражденная павильоном дворцового типа, до сих пор таится могила Ян Гуйфэй – каменная полусфера с простой серой стелой, по которой сверху вниз плавно ниспадают семь иероглифов – «Могила танской Драгоценной наложницы из семьи Ян».
У круглого входа-отверстия в стене робко замерли пять тоненьких кипарисов, исполняя роль традиционного экрана от нечистой силы, которая, как известно, не может произвольно менять направление своего движения, и потому-то углы крыш китайского дома обычно загнуты вверх, а на самой оконечности дремлет колокольчик: черти съедут по крыше и, повторяя контур изогнутого угла, унесутся обратно в небо, а колокольчик чуть слышно усмехнется над их тщетными попытками омрачить жизнь хозяина дворца.
На окружающих могилу каменных стелах выбиты стихи замечательных поэтов прошлого – Ли Шанъиня, Лю Юйси, Бо Цзюйи, воспевающие Драгоценную наложницу. Тоненько плачут на ветру колокольчики. Или бесовское это наваждение? В необычайной красоте всегда есть что-то мистическое.
Ты спросила, вернусь ли. Ну, что мне ответить? Прости.
Ночью пруд на Башань заливают дожди. Подожди…
Может, нам суждено у свечи на закатном окне
Вспоминать эту осень, Башань и ночные дожди.
Эта серая каменная полусфера, огражденная белым мрамором с округлыми столбиками по всему периметру, – будто космический корабль, инопланетный гость. Или машина времени, возвращающая нас в неумирающее прошлое – «вчера» живет в тебе, а ты живешь в «завтра». И все это дополняется неиссякающим ароматом, что источает благовонная земля, упокоившая эту женщину фантастической красоты. Мистическая легенда гласит, что окрестные крестьяне принялись растаскивать чудесное благовоние по домам, от чего могила, первоначально не одетая камнем, стала таять, уменьшаться в размерах, грозя сровняться с поверхностью земли, и вот тогда-то ее и решили накрыть «космическим» колпаком, но аромат просачивается и сквозь камень, насыщая воздух двора и медленно растекаясь по окрестностям.
Или впрямь это дух высокой любви, нисходящий в наш бренный мир из вечных небесных чертогов, где прекрасная Ян Гуйфэй исполнена печальных воспоминаний о трагически прервавшейся земной жизни и любви?
…А неподалеку от благовонной могилы в ларьках висят – на потребу жадным до экзотики туристам двадцатого века – красные шелковые шнурки, точь-в-точь такие же, как тот, что высочайшим повеленьем обвил лилейную шейку…

Возвращение к Великой Белизне

Притча о том, как опальный придворный академик Ли Бо был вознесен Белым Драконом из земной тьмы в ослепительные бездны Неба
Белая цапля сиротливой снежинкой опустилась на стылую воду осеннего озера. Ей было так же одиноко и неуютно, как и старому поэту, который, всем телом ощущая необычную слабость, кряхтя, вылез из повозки. Не оборачиваясь, махнул вознице – не жди, вот-вот барабаны оборвут предвечернюю суету, в Данту закроют ворота, и придется тебе на всю ночь засесть в какой-нибудь харчевне под осыпающейся земляной стеной, где дрянное мутноватое винцо даже подогреть не удосужатся, каждые два часа прислушиваясь к колотушкам страж, пока монахи из ближайшего монастыря на всю округу не возвестят, какая нынче погода, а под гром утренних барабанов стражники не распахнут городские ворота.
Сумерки тем временем все решительней стирали черты дневной благодати, оставляя лишь главное, по их, сумеркам, понятиям. Вот уже и нахохлившейся цапли не видно. А для поэта главное – мелкое, чуть заметное, но вызывающее отзвук в душе. Глаза поэту не так уж и важны, он иными способами видит мир. Но стихи у Ли Бо ночами не писались, хотя был он, в сущности, человеком ночи и небо ночи, уходящее в бездонные глубины, притягивало его, а узоры неба, даже дневные, тем более звездные, как бы накрывающие его куполом, вызывали в нем необъяснимый трепет, волнение, трудно выразимое даже для него, чья кисть отличалась необыкновенной легкостью.
Он любил следить бег облаков: из Цинь в Чу, в далекое родное Шу, где в Лотосовом посаде области Мянь прожил два десятка лет, в приграничный Западный край, где родился, и еще дальше, в такие дали, каким и названий в земном языке не сыщешь. Нет для облаков никаких препятствий, неторопливы и величавы они в родной стихии, не останавливаясь, минуют вершины Тайбо, Эмэй, отроги Тяньшаня, смыкающиеся с небом, и плывут, плывут в неведомое.
Как-то на вершине Тайбо – Великой Белизны, куда карабкался весь светлый день до последних лучей заходящего солнца, он увидел их совсем рядом, и ему вдруг показалось, что земля осталась не просто внизу, а – позади, и его путь простирается в те бездны, куда зовут облака и ветер.

Покоряю до лучей заката
Пик Великой Белизны крутой.
И звезда Тайбо мне тоже рада,
Отворяет небо предо мной.
Унеси меня, прохладный ветер,
В бездну легковейных облаков —
Длань воздев, взлечу я в лунном свете
Позади оставив цепь хребтов.
Это стихотворение он написал в первом году Тяньбао, только что появившись в имперской столице с самыми радужными, воистину грандиозными планами. Ему претила мирская суета, которая в годы, проведенные в горных обителях даосов, и не затронула его, но он жаждал, как учил Конфуций, высокого служения и вознамерился покорить крутой «пик Великой Белизны» государевой службы, оставив «за спиной» недвижные горы, мирно дремлющие под мерными ударами монастырского колокола.
С тех пор минуло два десятка лет. Не был он понят, не пришелся ко двору. Да он уж и не тот, Великую Белизну понимает и воспринимает по-другому. Его сегодняшнее «возвращение» – иное, чем в ту пору жарких устремлений.

Быть может, звезды зовут нас? Есть среди них одна, ее, как и гору, величают Тайбо – Великая Белизна, и это же имя дали самому Ли Бо в детстве – Тайбо из рода Ли. Говорят, матери приснилась эта самая Великая Белизна. А как приснилась, не сказали. Как-то по-особенному, наверное, потому что предутреннюю звезду Тайбо может увидеть каждый, если поднимется до ранних барабанов, отворяющих городские ворота.
Писать о звездах ему хотелось постоянно. Но он не всегда отваживался выразить на бумаге охватывавшее его ощущение, будто он, отделяясь от земли, врастает в огромное небо и касается рукой звезды. Однажды только он осознал, чем вызывается этот страх. Проведя ночь в даоском храме на высокой горе среди облаков, обволакивавших его и манящих за собой, Ли Бо обнаружил, что всю ночь разговаривал шепотом. Это он-то, громогласный кутила, вымахавший в целых семь чи ростом, всегда опоясанный острым мечом из синьчжоуской стали и готовый оседлать любого свирепого тигра! А тут вдруг явственно ощутил близость обитателей звезд, и какой-то голос, внутри ли, снаружи, сказал ему, что не пришло еще время взывать к ним. Он так и описал свои чувства в стихотворении:

