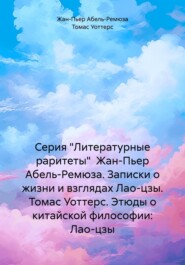скачать книгу бесплатно
Нет никаких сомнений в том, что «Дао дэ цзин» избежал сожжения книг во время правления Шихуанди[33 - Цинь Шихуанди (259 до н. э. – 210 до н. э.) – правитель царства Цинь (с 245 года до н. э.), положивший конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств. К 221 году до н. э. он воцарился над единой державой на всей территории Внутреннего Китая и вошёл в историю как создатель и правитель первого централизованного китайского государства. В истории отличился также как инициатор великих строек, таких как Великая китайская стена, канал Линцюй, искатель бессмертия и, с подачи советника Ли Сы, вышеупомянутой кампании «сожжение книг и погребение книжников».]. Мы могли бы предположить это на основании содержащегося в нём учения: ибо этот император, который сжигал книги только из ненависти к учёным и их принципам, был приверженцем секты даосов: он верил в магию, гадания, эликсир бессмертия и другие химеры, которыми увлечены последователи даосизма.
Известно, что он официально исключил из запрета, помимо истории своей семьи, книги, посвящённые заклинаниям, астрологии и медицине. Но даже если «Дао дэ цзин» был включен в указ о запрете древних литературных памятников, было бы неудивительно, если бы он сохранился, подобно многим другим такого рода памятникам, спасённым от уничтожения различными способами и дошедшим до нас полностью или частично либо потому, что копии их были найдены в регионах, удалённых от императорского двора, или в местах, где их прятали учёные, либо потому, что люди, которые знали их наизусть, переписали их после того, как образовательный процесс в империи был восстановлен.
С тех пор и на протяжении всей династии Хань многие авторы писали о «Дао дэ цзин», комментируя и разъясняя его. Некоторые из работ, написанных с этой целью, были утрачены, другие же сохранились. Сравнивая их, можно увидеть, что различные тексты книги Лао-цзы не соответствуют друг другу.
По словам одного автора, в тексте «Дао дэ цзин» имеется двести иероглифов, которые являются предметом некоторых вариаций в рукописях, пять иероглифов в нескольких текстах отсутствуют, пятьдесят пять были перемещены, тридцать восемь прочесть невозможно в связи с их порчей.
Худший текст или, по крайней мере, тот, который в наибольшей степени отличается от обычных изданий, – это тот, который был опубликован в начале двенадцатого века под редакцией императора Хуэй-цзуна.
Вместе с тем, указанные мной выше различия, точная таблица которых имеется в издании, которое я всегда держу под рукой, сами по себе весьма незначительны, они не имеют никакого отношения к существу книги. Самой старой известной версией и, следовательно, той, которая, по-видимому, заслуживает наибольшего доверия, является та, которая была сделана анонимным автором во времена правления Шао-Вэнь-ди, то есть до 157 г. до н.э.[34 - По всей видимости, имеется в виду комментарий Хэшан Гуна к тексту «Дао дэ цзин», относящийся к эпохе династии Хань (206 до н. э. – 220 г.г.).]
Однако в более поздних версиях могут быть найдены хорошие наставления, то есть у китайских исследователей есть в чём попрактиковаться. Следует ли из всех этих различий и предполагаемых изменений делать вывод о том, что книга Лао-цзы была существенно искажена?
Я так не думаю и вижу в заботливости авторов комментариев о том, чтобы их замечать и помнить о них, гарантию их искренности, признак предпринятых ими мер предосторожности для сохранения в изначальной чистоте, насколько это только возможно, произведения, достойного уважения за его древность. Я, прежде всего, далек от той мысли, которую несколько легкомысленно выдвинули некоторые миссионеры, что в разное время в текст «Дао дэ цзин» было включено множество вредоносных изречений, которых не было в оригинале[35 - Amiot, Portraits des Chinois cеl?bres, Laotsеe, Mеmoires concernant les Chinois/ Амьо. Портреты знаменитых китайцев. Лао-цзы. Записки о китайцах. Том 3, стр. 41. – Confucius, Sinarum philosophus/ Конфуций, китайский философ. Стр. XXIV (Прим. автора).].
В книге, в её нынешнем виде, нет ни одного из принципов и размышлений, которыми наполнили свои книги более современные даосы. В ней содержатся другие принципы и другие размышления. Более того, учёные, постоянно обвиняющие даосов в извращении доктрин древности, не преминули бы выдвинуть такое же обвинение и в отношении книги их учителя, если бы для этого были хоть малейшие основания, однако они этого не сделали. Они почитают Лао-цзы, они уважают его книгу и верят лишь в то, что даосы не понимают её или неверно толкуют.
Когда мы соглашаемся с текстом и спорим о его толковании, это сильный аргумент в пользу его подлинности: в этом тексте нет ни анахронизмов, ни апокрифических цитат, ни, в конце концов, каких-либо признаков, которые позволили бы нам предположить, что в книгу при переписывании или в процессе редакции были произвольно или случайно вставлены чужеродные отрывки.
В Китае нет ни одной книги, да и, пожалуй, ни в одной стране нет философского труда, древность и неприкосновенность которого не была бы так же защищена, как книга Лао-цзы.
Вскоре можно будет увидеть, почему я озаботился тем, чтобы установить подлинность этого текста. Но прежде чем перейти к рассмотрению некоторых отрывков, содержащих наиболее любопытные моменты учения Лао-цзы, позвольте мне сделать несколько замечаний о значении слова Дао, которое так часто повторяется в его книге, играет в ней такую важную роль и является как бы ключом ко всем его мнениям.
Дао (?), согласно древнейшим словарям, «Чжоу-вэнь» и «Эр-я», означает путь, средство сообщения одного места с другим. Из этого первого физического и материального значения вытекает метафизическое значение, в соответствии с методом, используемым во всех языках для обозначения абстрактных идей символами.
Если следовать Гуань-чжуну, Дао – это дорога, путь, направление, движение вещей, причина и условие их существования. Согласно «И-цзин», соединение двух принципов образует путь. Путь небес, или их причина[36 - В оригинале laraison.], состоит из двух принципов, порождающих Вселенную. Мягкое и твёрдое, или основные свойства материи, – это путь или причина земли. Любовь к ближним и справедливость – путь или причина человека. В «Шу-цзин» разум проявляется в человеческом интеллекте. В дальнейшем Дао также означает «слово», как в этом отрывке из «Канона сыновней почтительности»[37 - Сяо Цзин (Канон сыновней почтительности). Глава 4. О великих чиновниках империи (прим. автора).]:
«Он не произносит ни слова, которое не было бы подражанием древним мудрецам».
В «Тай ци» слово Дао понимается в таком же смысле, и это также значение, которое придаётся данному слову в разговорном языке и в разговорном стиле, который предлагает его имитацию, где Дао всегда означает изрекать, говорить.
Я не останавливаюсь на второстепенных значениях слова Дао, которые заимствованы из предыдущих; но замечу, что иероглиф, который обозначает его, образован двумя изображениями, одно из которых означает движение, а другое – голову, основу или начало.
Таким образом, буквальное значение такого соединения может быть передано, в соответствии с этимологией, словосочетанием первый двигатель или принцип действия. Это наблюдение уже было сделано отцом Премаром[38 - Жозеф Анри Мари де Премар (17 июля 1666 г. – 17 сентября 1736 г.). Родился в Шербуре, в 1698 году уехал в Китай и был миссионером-иезуитом в Гуанси. В 1724 г., после того, как император Юнчжэн фактически запретил христианство из-за спора о китайских обрядах, он был заключен вместе со своими коллегами в Гуанчжоу, а позже сослан в Макао, где и умер. Его «Заметки о китайском языке», написанные в 1736 году и впервые опубликованные в 1831 году, были фактически первой серьёзной книгой по грамматикой китайского языка на европейском языке.]. Есть китайский автор, который даёт ему прочную основу, когда говорит: то, что «И-цзин» называет великим делом, Конфуций в своем «Чунь-цю» называет принципом, а Лао-цзы – причиной:
Таковы значения слова Дао в обычном языке. Но на языке даосов это слово приобрело гораздо более возвышенное и обширное значение. Последователи учения о Дао используют его для обозначения первопричины, разума, который сформировал мир и управляет им так же, как ум управляет телом. Именно в этом смысле они называют себя сектантами разума, то есть даосами; они называют свою секту дао-дао, то есть законом Дао, или учением о причине; они посвящают свою жизнь изучению Дао. Они утверждают также, что тот, кто глубоко знает Дао, обладает универсальным знанием, универсальным снадобьем, совершенной добродетелью, он обрёл сверхъестественную силу, способен подняться на небо по воздуху, он не умирает и т. д.
Все эти идеи, вместе с индийскими представлениями об эманации, экстатическом самоуничтожении и возвращении к вселенской душе, образовали смесь, которую мы не будем пытаться прояснить в этих Записках. Метафизика и мифология последователей разума кажутся нам в равной степени неразумными, и я не знаю, будут ли усилия, которые пришлось бы затратить на разгадку происхождения всех их идей, в достаточной степени вознаграждены важностью результатов.
В данный момент достаточно попытаться изложить идеи, выдвинутые по поводу принципиального момента их учения философом, который, возможно, вряд ли предвидел, когда писал, какую «пользу» извлекут даосы из его книги, и которого, конечно, ошибочно считают патриархом секты жонглеров, фокусников и астрологов. В самом деле, ему можно поставить в упрёк не чудесные сказки и абсурдные басни, а хитросплетения умозаключений изысканной метафизики и злоупотребление рассуждениями – излишество, прямо противоположное тому, в которое впали его так называемые ученики.
Начало первой главы «Дао дэ цзин» звучит очень заумно, и в целом книга не очень проста для понимания, потому что неясность содержания сочетается в ней с какой-то античной лаконичностью, с неопределённостью, которая иногда заходит столь далеко, что превращает написанное в загадку; более того, у нас нет хорошего комментария, который объяснил, в каком смысле автор использует выражения, отклоняющиеся от их обычного употребления.
Было бы весьма затруднительно осуществить перевод всей книги и разъяснить её с точки зрения содержащегося в ней учения. Однако это не должно помешать нам вычленить из неё наиболее важные отрывки и установить их смысл хотя бы в общих чертах. Следует помнить, что я берусь не за догматическое изложение, а за простое историческое сравнение, для которого достаточно обнаружить наиболее ощутимый смысл, иногда даже отметить выражения, не ища глубокого и философского значения, которому они могут быть подчинены.
Мы исследуем не то, был ли Лао-цзы великим метафизиком, а то, заимствовал ли он свои идеи из трудов какого-либо другого философа или же нет. Для этого нам нет нужды погружаться в туманные глубины метафизики. Более того, если бы мы подошли к обсуждению существа учения Лао-цзы, его книга, возможно, не вызвала бы у нас более серьёзных затруднений, чем книги Прокла, Плотина и даже самог? божественного Платона.
Помимо неясности самого предмета, у древних были причины не давать более чётких объяснений на подобные темы. В тех местах, где Платон говорит несколько слов о наиболее возвышенных догмах своей философии, он, кажется, намеренно усиливает неясность своих высказываний. Он окутывает свои слова туманом в своём знаменитом послании к трём друзьям, а в письме к Дионисию Сиракузскому заявляет, что будет объясняться загадками, чтобы письма его не попали, на суше или на море, в руки незнакомца и он не смог их прочитать и понять. Возможно, недавнее воспоминание о смерти Сократа могло навязать ему такую сдержанность.
Без сомнения, в самом Китае были определённые основания для того, чтобы придерживаться таких же взглядов с целью быть более туманным, чем того требовал предмет обсуждения. Существовали идеи, которым, по общему мнению, нельзя было позволить распространиться. Писания, посвященные им, были заключены в сундук, окованный золотыми обручами, и его содержимое было тщательно скрыто от простолюдинов[39 -
(Предисловие императора к коллекции философских работ, названной Синь-ли-да-цюань) Chou-king traduit par Gaubil («Шу-цзин» в переводе Гобиля). Стр. 178 (прим. автора).].
Имеются основания полагать, что идеи, о которых идёт речь, были связаны именно с изначальным разумом; и поскольку самый ранний и самый достоверный текст, имеющий к нему отношение, находится в начале книги нашего философа, мы не можем обойти его молчанием. Здесь Лао-цзы, играя с тройным значением слова Дао, которое означает разум, слово и универсальная причина, высказывается следующим образом:
«(Перво) причина должна быть подчинена разуму (или выражена словами); но это сверхъестественная причина[40 - Ключевое слово «Дао дэ цзин», дао, практически не поддаётся адекватному переводу. В связи с этим обстоятельством в русских переводах оставляют в неизменном виде. Ремюза на французский переводит дао как la raison, что, в свою очередь, на русский язык можно перевести в различных сочетаниях слов и разных контекстах как причина, основание, мотив, соображение, разум, смысл, цель, рассудок, интеллект, путь, отношение, довод, удовлетворение, благоразумие, рассудительность, пропорция и т.д.В данном случае, как представляется, под дао Ремюза, вполне в духе традиций своего времени, имел в виду разум. Перевод дао на латынь также, как можно убедиться далее, звучит как ratio (разум, причина, метод, система). В данном отрывке я взял на себя смелость и перевёл laraison как причина. При понимании laraison в смысле разум данное предложение должно звучать: «Первичный разум, должен быть подчинён разуму (или выражен словами); но это сверхъестественный разум».]. Ей можно дать имя, но оно невыразимо. Безымянное – есть начало неба и земли; то, что имеет имя – есть мать всех вещей. Нужно быть бесстрастным, чтобы созерцать его совершенство; находящийся под влиянием страстей может созерцать лишь наименее совершенное его состояние. Это всего лишь два способа обозначения единого источника, той сущности, которое можно назвать непроницаемой глубиной; глубина эта заключает в себе все самые совершенные существа»[41 -
Ratio quidem ratiocinativa, insolit? ver? ratione. Nomen ejus nominari potest, inaudito quodam nomine. Sine nomine, c?li et terr? princip?um est. Namen habens, omnium rerum mater est. Ide? semper sine affectibus simus ad contemplandam ejus excellentiam ; habentes autem affectus, ad perspiciendum ejus finem. H? duo similia et ex uno procedentia, nomine tantum diverso. Vocamus illud profundum. Profundum istud, omnium eximiorum porta /Разум, что должен быть действительным, не является обыкновенным. Его можно назвать именем, которое будет неслыханным. Безымянный, он является началом Неба и Земли. Названный – он мать всех вещей. Наблюдая за ним бесстрастно, мы увидим его совершенство, но, обуреваемые страстями, мы сможем увидеть лишь его ограниченность. Эти двое схожи и происходят из одного источника, но имена у них разные. Мы называем его глубиной. Глубина есть врата для всего превосходного (прим. автора).].
Должен предупредить, что этот перевод дважды неточен, поскольку я вынужден использовать промежуточные слова для того, чтобы связать идеи, слова, без которых китайцы умеют обходиться, а также потому, что термины, которых я не могу избежать, не имеют такой же широты или, если хотите, такой же расплывчатости, как выражения в тексте. В примечании я предлагаю более буквальную версию на латыни, признавая при этом, что из-за многозначности каждого слова этот отрывок практически невозможно передать иначе, как через комментарии.
Возможно, было бы проще перевести его на греческий, потому что в этом языке можно было бы найти слова, более точно соответствующие тем, которые есть в тексте, и уже использованные авторами комментариев в различных смыслах, выраженных в нём. Например, игра слов в начале, Tao kho tao, «Причину можно обдумать, можно дать ей обоснование или выразить её словами», была бы очень хорошо передана ???? ??????????? Гермесом Трисмегистом. Это слово Дао, кажется, не может быть переведено надлежащим образом, кроме как словом ????? с его производными, в тройном смысле суверенногобытия, разума и речи, а также для выражения действия говорения, рассуждения, обоснования.
Это, очевидно, ????? Платона, из которого произошла Вселенная[42 -
Epinomis, ed. Mars. Fic. Francof. («Эпиномис» фр. ред.). 1602. Стр. 1011 (прим. автора).], универсальный разум Зенона, Клеанфа и других стоиков[43 - Apud Cicer., de Natura deorum (Цицерон «О природе богов». Книга 1 (прим. автора).]; это та сущность, которая, по словам Амелия, была обозначена под именем разума Божьего философом, которого Евсевий считает тем же самым, что и св. Иоанн[44 - Pr?par. evan. еd. Vigeri. («Подготовка к Евангелию» под ред. Вигери). Книга XI, XIX в., Стр. 540 (прим. автора).]. Это сущность, которую брахманы называли именем, по-гречески передающееся как ????? в книге, приписываемой Оригену.[45 - Orig?ne, Cuvres, еd. Delarue (Ориген. «Сочинения» под ред. Деларю). Том V, стр. 904 (прим. автора).]
Словом, это то же самое представление о первопричине Вселенной, которое было настолько распространено среди мыслителей основных философских школ древности, что у нас есть все основания полагать, что оно было одним из оснований теологии египтян и восточных народов, у которых эти философы учились.
Что касается кажущегося противоречия, существующего в этих симметрично противоположных предложениях: у разума есть имя, у него нет имени и т.д., то оно может быть объяснено различием, полностью соответствующим идеям платоников; и комментарий, который я имею перед собой, интерпретирует его в следующем смысле:
Сам по себе, – говорит он, – и в своей сущности разум не может иметь имени, ибо он предшествует всему[46 - Имя, по представлениям этих авторов, относится к взаимоотношениям одного субъекта (?tre) с другим; поэтому уникальный субъект (?tre) его иметь не может (прим. автора).][5]; он был прежде всех существ. Но когда началось движение, когда бытие сменило небытие, тогда он смог получить имя.
Именно об этом говорит Гермес Трисмегист:
Тем, кто знаком с платоновской философией, не нужно напоминать, насколько это противопоставление состояния Дао или разума до и после образования Вселенной напоминает то, что установили ученики Платона, и то различие, которое они проводят между двумя Демиургами, двумя Юпитерами, unum et diversum[47 - Единый и многоликий (лат.).] и двумя мирами, которые, по словам Климента Александрийского, признавала варварская философия[48 - Stromates еd. Potter («Строматы» под ред. Поттера). Книга V Стр. 702-703 (прим. автора).
(прим. автора).]. Все эти идеи очень похожи на те, что выражает Синезий в своем третьем гимне:
[49 - Ссылка на третий гимн Синезия Киренского, переведённого на русский: https://azbyka.ru/otechnik/Sinezij_Kirenskij/traktaty-i-gimny/7_3 (https://azbyka.ru/otechnik/Sinezij_Kirenskij/traktaty-i-gimny/7_3) (прим. переводчика).]
Остальная часть комментария аналогична.
«Необходимо быть без страстей, без привязанностей, чтобы представить себе сущность этого разума, каким он был до рождения существ, когда он ещё не мыслил и не действовал».
Именно таким, бесстрастным, по мнению Пифагора, нужно быть, чтобы наслаждаться гармонией Вселенной.
«Но сами наши страсти и привязанности показывают нам второе, менее совершенное состояние разума, в существах, которых он породил».
В предисловии к знаменитому философскому труду, написанному одним из императоров, очень похожая идея объясняется несколько иначе:
«До рождения Божества, – говорится в нем, – разум обитал на небе и на земле; после рождения Божества разум обитает в нём».
Более того, совершенные существа, упомянутые в конце отрывка из «Дао дэ цзин», который я не столь давно процитировал, по мнению комментатора, являются духами, разумными существами, которыми населён мир и которые обязаны своим происхождением изначальному разуму. Это понятие прекрасно согласуется с представлениями Платона о природе богов, звёзд и демонов.
Вот ещё один отрывок, который лучше поддается буквальному переводу; это двадцать пятая глава «Дао дэ цзин»:
«До хаоса, предшествовавшего рождению Неба и Земли, существовало единое существо, огромное и безмолвное, неизменное и всегда действующее без устали. Его можно считать матерью Вселенной. Я не знаю его имени, но я называю его разумом[50 -
Basil. Caesar. edit. Garner. 1721. Том. I, стр. 5 (прим. автора).].
Принуждённый дать ему имя, я называю его величием, распространением, расстоянием, противостоянием[51 - Последнее выражение можно объяснить тем, что разум по своей природе противоположен живущим существам: он есть то, чем они не являются (прим. автора).]. В мире существует четыре величия: величие разума, величие Неба, величие Земли и величие императора, который также является одним из четырех. Человек имеет свой пример в Земле, Земля – в Небе, Небо – в разуме, разум – в себе самом»[52 -
Existentium rerum confusio perfecta pr?greditur c?li terr?que nativitatem, proh immensum! proh silentiosum! Unicum stans et immutabile, circumagens et nulli damno obnoxium, potest ide? existimari orbis universi mater. Ego quidem nomen ejus nescio, cum ver? nuncupo rationem /Существует вещь, возникшая из хаоса, ещё до рождения Неба и Земли. Столь безграничная! Столь безмолвная! Существующая сама по себе и неизменная, вращающаяся и не подверженная никакому вреду, она может быть названа матерью Вселенной. Я не знаю её имени, когда называю её первичным разумом.Vico actus ipsum nomino magnum; magnum scilicet progressio; progressio scilicet remotum; remotum scilicet oppositio. Idcirc? rationis magnitudo, c?li magnitudo, terr? magnitudo, regis etiam magnitudo, in orbe sutit quatuor magnitudines, regisque magnitudo una inter eas. Homo regulatur ad normam terr?; terra ad normam c?li; c?lum ad normam rationis; ratio ad normam sui ipsius /Я называю её великой; великой, значит, двигающейся; двигающейся, значит, отдалённой; отдалённой, значит, противостоящей. Величие разума, величие неба, величие земли и даже величие императора – четыре существующих величия в мире, и величие императора – одно из них. Человек следует велениям Земли; Земля следует велениям Неба; Небо следует велениям разума, а разум следует велениям самости/ (прим. автора).].
Все черты этого высказывания легко узнаваемы, и, пожалуй, нет ни одной, которая не встречалась бы, почти в тех же выражениях, в трудах Платона или его учеников. Последние особенно характерны. Человек, уподобленный миру или рассматриваемый как копия Неба и Земли, – это мир в миниатюре или микрокосм. Более строго это выражено в другой китайской книге (Цзу Чжоу Пянь):
«Вселенная образована из соединения двух принципов; так же и тело человека. Вселенная – это человек, а человек – маленькая Вселенная»(1).
До этого Чинь-Цзы уже указал, что разум каждого человека – это разум Вселенной (2). Вселенная, которой управляет изначальный разум, управляющийся только самим собой и в то же время являющийся своим образом или прототипом, а также образом Неба и Земли; все эти идеи встречаются повсюду у Платона, Филона, Плотина и т. д.
Правда, в отрывке из «Дао дэ цзина», похоже, присутствует китайская идея о величии императора, уподобляемого Небу и Земле, но я не думаю, что Лао-цзы хотел ограничиться простым сравнением. Я склонен полагать, что он имел в виду отношения и связи, существующие между миром материальным и миром моральным, порядком естественным и порядком политическим, подобно тому, как такие отношения встречаются в учениях Конфуция и всех философов его школы.
Широко известен знаменитый отрывок из Лао-цзы, который отец Купле[53 - Филипп Купле (???, Бай Инли. Родился в г. Мехелен (Бельгия) 31 мая 1623 г., умер в морском путешествии близ берегов Гоа (Индия) 16 мая 1693 г.) – священник-иезуит, был миссионером в Китае, лингвистом, историком и философом.] перевёл первым[54 - Confucius, Sinarum philosophus/ Конфуций, китайский философ. Стр. XXIV (прим. автора).] и который, по его словам, цитируется во многих работах. Это первые слова § 42, в начале «Книги добродетели». Я не ограничиваюсь их пересказом, но прилагаю § 41 и остальную часть § 42, чтобы читатель мог лучше представить себе порядок идей[55 - См. напр. переводы Жюльена и Вигера (прим. автора).].
Отделяя такого рода высказывания от того, что им предшествует и сопровождает, мы рискуем составить ложное представление об учении автора, и нет никакой гарантии, что мы не причиним вреда, если припишем ему идеи, ему не принадлежащие.
§ 41. Мудрецы первого порядка, познавшие, что такое разум, руководствуются им в своих поступках. Философы второго порядка сомневаются. Те, кто относится к последнему разряду, высмеивают его, а если и не смеются над ним, то не признают его разумом. Отсюда эти выражения (древних): свет, который можно пролить на разум, – это лишь тьма; движение, которое можно сделать в направлении разума, – это движение назад; самый широкий разум подобен тонкой нити. Самая возвышенная добродетель подобна мрачному ущелью, утренней звезде, подвергнутой осмеянию: величайшая добродетель недостаточна; то, что лучше всего укреплено, всё же остаётся шатким. Самая совершенная истина подвержена изменениям; она – великий квадрат без углов, прекрасная ваза, изготовленная с запозданием, громкий голос, звучащий редко, великий образ без формы. Но ты, сокрытый разум, у которого нет имени, ты один, о разум, у которого истинное благо заимствует совершенство.[56 - Summi doctores audiunt de ratione, et agunt secund?m illam. Medii doctores audiunt de ratione sicuti servantes, sicuti deficientes. Infimi doctores audiunt de ratione, et vald? derident illam, vel, non deridentes, non sufficienter existimant rationem (esse). Idcirc? dictum stat (? veteribus, comment.): Lumen in ratione sicut tenebr?; progredi sicut retrogredi; magnum, veluti fila in?qualia. Summa virtus, velut vallis; stella matutina velut pudori (obnoxia). Vasta virtus, cui nihil sufficit; erecta virtus veluti mutabilis: quadratum magnum sine angulis; vas magnum ser? confectum; vox magna rar? sonans; magna forma sine imagine. Ratio abscondita sine nomine: h?c unica ratio bona commendans (entibus) idеo perficit ea /Высшие мудрецы, слыша о разуме, действуют соответственно ему. Средние умы, слыша о разуме, то следует ему, то нет. Слабоумные [Низшие из умов], слыша о нём, над ним насмехаются, а если и не насмехаются, то не считают его достаточным (чтобы быть). Потому и сказано (древними): свет в разуме подобен тьме, движение вперёд – движению назад, великое сродни тонкой нити. Высшая добродетель подобна ущелью, утренняя звезда подобна (подвергшейся) стыду. Бескрайняя добродетель всё же недостаточна; стойкая добродетель переменчива. У огромного квадрата углов не видно, прекрасная ваза сделана с запозданием, громкий голос звучит редко, у огромной формы нет изображения. Разум сокрыт в безымянности. Он единственный даёт благие советы, чем совершенствует (существа) (прим. автора).]
§ 42. Разум породил одно; одно породило два; два породили три; три породили все вещи. Все вещи покоятся на материи и окутаны эфиром; туман или дыхание, объединяющее их, поддерживает гармонию внутри них. То, чего так боятся люди, – быть сиротами, лишенными всего, – они и есть, они не знают о своём происхождении, а императоры и властители хвалятся званием сирот. Так существа увеличиваются за счет вселенской души, которая, в свою очередь, увеличивается за счёт их потерь. Я учу здесь лишь тому, чему меня учили другие. Но жестокие люди не смогут насладиться такой смертью (они не воссоединятся со вселенской душой). В этом отношении именно я являюсь отцом учения[57 - Ratio produxit unum; unum produxit duo; duo produxit tres; tres produxit universum. Universus incumbit principio obscuro (vel terr?), et amplectitur principium lucidum (vel c?lum); tepidus spiritus effectus est concordia (sive vinculum inter illa) / Разум породил одно; одно породило два; два породили три; три породили Вселенную. Вселенная подчинена тёмному началу (или Земле) и охватывает светлое начало (или Небо). Дыхание является результатом гармонии (или связи между ними).Quod homines maxime oderunt, scilicet quod orphani sint et esc? destituti (hoc rever? sunt, utpote qui rerum et suam ipsorum originem nesciunt), reges et principes illud pro titulo gloriantur / Что больше всего ненавидят люди, так это то, что они сироты и лишены пищи (это верно, так как они не знают происхождения вещей и своего собственного), но императоры и правители хвалятся этим как титулом.Ideo res defectu augent, et auctione deficiunt. Alii quod docuerunt, ego etiam doceo. Violenti ver? talem mortem non assequentur. Ego hic pater doctrin? (sum) / Поэтому убыль может порождать увеличение, а увеличение – убыль. Чему учили другие, тому учу и я. Жестокие люди не добьются такой смерти. Я (есть) здесь отец этого учения (прим. автора).].
Должен напомнить, что я перевожу как можно более буквально, добавляя к тексту, чтобы сделать его более понятным, лишь небольшое количество выражений, выделенных курсивом. Латинский перевод ещё более буквален, но он неясен. Только парафраз может быть ясным; но нельзя быть уверенным, что мы поймём смысл текста, заложенный автором. Я даже не буду пытаться разобраться во всем, что смущает в этих двух абзацах; мне будет достаточно остановиться на основных моментах, лежащих в основе учения.
Прежде всего, различие, которое Лао-цзы проводит между философами в зависимости от того, как они воспринимают учение о Дао, указывает на то, что в Китае эти взгляды уходят корнями в далекое прошлое и, более того, ранее они были предметом определённых споров. Действительно, если верить даосам, древнейших китайских философов следовало бы причислить к самым ревностным сторонникам их учения.
Если верить словам нашего автора, в его время наверняка были люди, которые высмеивали его взгляды о происхождении мира, а другие считали их весьма сомнительными. Можно не сомневаться, что под последними он понимал Конфуция, который, согласно «Лунь юй» (i), тщательно избегал объяснений по этим сложным вопросам.
Текст, который мы изучаем, полон неясностей и у нас чрезвычайно мало средств для его полного понимания, а также знаний об обстоятельствах, на которые намекал Лао-цзы. Словом, мы так далеки во всех отношениях от идей, под влиянием которых он писал, что было бы безрассудно утверждать, что мы найдем именно тот смысл, который он имел в виду, в то время как этот смысл ускользает от нас.
Нам, однако, не кажется слишком надуманным то предположение, что есть некий замысел в той параллели, которую он проводит между самой блестящей добродетелью, наиболее прочно установленной, и этим возвышенным принципом, предсуществующим всему, источником и основой истинного блага, который он не перестает прославлять.
Конфуций превозносит добродетель и разум, на котором, по его мнению, должно основываться всё человеческое поведение; но он умалчивает об основании этого чисто человеческого разума. Лао-цзы, видевший его образ в первичном разуме, кажется, имеет намерение подавить человеческий разум, как лишенный поддержки Дао, когда сравнивает его возвышенность с ущельем, его чистоту с утренней звездой, подвергшейся бесчестию, с запоздало изготовленной вазой.
Все эти идеи, повторяю, очень запутаны и выражены крайне туманно. Но, как я уже отмечал, по степени неясности труды платоников, пожалуй, превзошли бы сам «Дао дэ цзин». К тому же речь идёт не о том, чтобы глубоко понять или объяснить философский смысл всех понятий книги, а о том, чтобы найти их происхождение, и в этом отношении необходимо иметь хотя бы небольшое представление о них. Если бы мы приложили больше усилий, чтобы преодолеть неприятие, которое они внушают, мы бы убедились, что все они имеют свои эквиваленты в трудах Плотина. Это то, что, как мне кажется, я уже могу утверждать на основе изучения, пока ещё очень поверхностного, но достаточного для исторической точки зрения.
Параграф 42 не содержит моральных идей; он почти целиком космогоничен, но здесь, как и в философии Пифагора и Платона, космогония, как уже отмечалось[58 - Apparebit Pythagoram ac Platonem… ortum et antiquorum ??????????? in ?????????? quamdam convertisse /Оказывается, Пифагор и Платон… превратили происхождение древней космогонии в своего рода психогонию/. Brucker, DeconvenientiaPythag. numer. cumideisPlatonis, in Am?nitat. litterar. Schelhornii (Брукер. О схожести Пифагоровой нумерологии с идеями Платона… ). Том VII, стр. 215 (прим. автора).], по существу психогоничен[59 - Очевидно, что психогония (хотя употребления такого слова в русском языке мне найти не удалось), по аналогии с космогонией, изучающей происхождение и развитие космических тел и их систем, призвана изучать происхождение и развитие психики. В русском языке для этого употребляется слово «психология».]. Действительно, Лао-цзы объясняет, в полном соответствии с платоновской доктриной, как два принципа, небесный и земной, или грубый воздух и эфир, связаны вместе дыханием, которое объединяет их и производит гармонию. Невозможно более чётко выразить идеи Тимея Локрийского, слова которого, похоже, являются переводом китайского отрывка[60 -
Tim.apudChalcided.Fabric(«Тимей в Халкиде» под ред. Фабрика). §CI, стр. 315(прим. автора).].
Эту же мысль мы находим у философа Саллюстия, который также хочет, чтобы все вещи были приведены в порядок разумом [????], и чтобы ими двигала душа [????][61 -
Salluste (Саллюстий), c. VII, в Opuscul. mythol. de Gale (Загадочная мифология Галя). Стр. 257 (прим. автора).]. Подобным образом она выражена и у Гермеса Трисмегиста, который делает ???? отцом творческого разума, ????? ?? ??????????, действующим богом, благом, создающим все вещи, который устанавливает градацию между материей, воздухом, душой, ???? и Богом. Диоген Лаэртский приписывает Пифагору аналогичную идею[62 - Herm?s le Trismеgiste, ed. Turneb (Гермес Трисмегист под ред. Тюрнеба). Стр. 28 (прим. автора).]. Нет необходимости настаивать на аналогии этого мнения взглядам, которые встречаются на каждой странице у учеников Платона и Пифагора.
Ещё два других момента в этом отрывке требуют краткого пояснения. Люди, говорит Лао-цзы, жалуются на то, что они сироты, то есть не знают существа, породившего их, а властители хвалятся этим титулом сирот; похоже, это не более чем игра слов.
Действительно, во времена Лао-цзы властители различных государств, на которые был разделен Китай, чтобы избежать использования местоимения первого лица, которое редко употребляется в китайском языке, из скромности называли себя гуа-цзин или гуа-дэ, человек небольших достоинств, а часто также гу, сирота, человек, лишенный родителей и естественной поддержки, как можно увидеть в «Лунь Юй» и в философских беседах Мен-цзы. Вместе с тем нелегко догадаться, что означает такая связь.
Что касается неясности высказывания о приросте, который получают существа за счёт дыхания или универсальной (вселенской) души, и потере, которую эти же существа несут, отчего душа эта, в свою очередь, набирает силу, то следует заметить следующее. Хотя в тексте это и выражено в уклончивой манере, но это то, что выражено с ясностью в идеях платоников и пифагорейцев об универсальной душе, поскольку согласно Пифагору и большинству древних философов душа – это только часть эфира
, которая соединяется с ним после смерти. Угроза Лао-цзы в адрес жестоких людей, которые, по его словам, не смогут насладиться такой смертью, снимает все сомнения.
Я полагаю излишним останавливаться отдельно на истолковании смысла предложения: «Разум породил единицу, единица породила два и т.д.». Лао-цзы – не единственный древнекитайский автор, который говорил о единстве или монаде подобным образом. Автор «Хуайнань-цзы»[63 - Хуайнань-цзы (???), – «[Трактат] Учителя из Хуайнани» или «Мудрецы из Хуайнани» философский трактат, созданный во времена Западной династии Хань, не позднее 139 г. до н. э. Представляет собой сплетение даосских, конфуцианских и легистских учений.] выражается в терминах, которые кажутся заимствованными у Плотина, хотя этот трактат создан несколькими веками раньше Плотина: «Единое есть корень всех вещей, разум, которому нет равных»; а Вэй-цяо говорит: «Единое есть субстанция разума, чистота небесной добродетели, происхождение тел, принцип чисел».
Кто не узнает во всех этих отрывках монаду, универсальный принцип, согласно Пифагору, начало и конец всех вещей, интеллект, рожденный от верховного Бога, как говорит Макробий: H?c est illa mens, ex summo enata Deo![64 - Это разум, рождённый Богом свыше.]
Я, конечно, не стану приводить здесь все отрывки древних, в которых выражены подобные идеи, и тем более не рискну высказывать своё мнение о том, в каком смысле следует понимать пифагорейскую доктрину чисел: этот вопрос занимал людей весьма неглупых и я предпочитаю ссылаться на их труды, в особенности на те из них, в которых делается упор на доказательство соответствия пифагорейского учения о числах идеям Платона[65 - См., в частности, ранее процитированную диссертацию Брукера (прим. автора).].
Однако я не могу удержаться от того, чтобы не отметить, что термины, используемые Лао-цзы, ни в коей мере не допускают упрёка, возможно, случайного, в адрес пифагорейцев, а также, что ещё более несправедливо, самого Пифагора. Совершенно очевидно, что китайский философ использует числа только как символы или загадочные названия для обозначения существ, которым он не может или не хочет дать никакого имени.
Сыма Вэнь-гун объясняет монаду Лао-цзы тем, что именно разум превратил небытие в бытие: диада, по его мнению, представляет собой два принципа, грубую материю и эфир; а триада – те же два принципа плюс дух, который их объединяет, или гармония, по-китайски «хо», – три сущности, союз которых составляет все вещи.
Я не могу гарантировать, что в этом заключается истинный замысел Лао-цзы. Тем не менее, верно и то, что истолкованная таким образом доктрина чисел не столь абсурдна, как та, что наделяет числовые абстракции индивидуальным существованием, а их комбинации – чудесными достоинствами. Она была для Лао-цзы и, по-видимому, также для Пифагора своего рода алгеброй, применяемой к метафизике и теологии.
Должен признать, что в Китае, как и на Западе, были учёные, весьма искушённые в тонкостях спекулятивного мышления, которые значительно усовершенствовали метафизику чисел, и астрологи, которые изрекали бесконечное количество экстравагантных идей об их свойствах. Всё это похоже на каббалистические толкования, которые всегда находились в упадке, и, вероятно, изначально имели исследовательскую и философскую направленность или, по крайней мере, разумный смысл.
Указывая на то, что Лао-цзы не должен нести ответственность за последующее злоупотребление его принципами и его именем со стороны его последователей, я просто подражаю наиболее учёным и осведомлённым в греческой философии людям, которые неопровержимо доказали, что Пифагора нельзя винить за заблуждения его учеников и что упрёки, которым он подвергался даже у древних, всегда были адресованы пифагорейцам или, скорее, некоторым из пифагорейцев.
Теперь я перехожу к последнему отрывку из «Дао дэ цзин», который я обязательно должен упомянуть, потому что он, как мне кажется, больше, чем любой другой, указывает на источники, из которых черпал свои идеи его автор. Отец Сибо[66 - Пьер-Марсьяль Сибо,14 августа 1727 г. (Лимож, Франция) – 8 августа 1780 г. (Пекин, Китай,) был французским миссионером-иезуитом в Китае. Его сочинения ценились, главным образом, за их разносторонность и информацию, которую они содержали. В 1776 г. П.-М.Сибо впервые перевел на французский язык с китайского все конфуцианское «Четверокнижие» и опубликовал его во втором томе «Mеmoires concernant l’histoire, les sciences, les arts, les mCurs, les usages, &c. des chinois» («Записки, надлежащие до истории, наук, художеств, нравов, обычаев и проч. китайцев, сочиненные проповедниками веры христианской в Пекине»), шеститомного издания, которое в течение многих лет являлось основным источником сведений о Китае в Европе.], впервые процитировавший его, допустил ряд ошибок при переводе, которые г-н Монтуччи[67 - Антонио Монтуччи (Сиена, 22 мая 1762 г. – Сиена, 5 марта 1829 г.) – итальянский синолог, издатель и переводчик. Считается одним из самых видных европейских синологов своей эпохи.] воспроизвел слишком точно, добавив несколько новых ошибок.
Сначала оригинальный текст:
«Того, на кого вы смотрите и которого не видите, называют И; того, кого вы слушаете и которого не слышите, называют Хи; того, кого ваша рука ищет и не может схватить, называют Вей. Это три сущности, которые мы не можем понять и которые, смешавшись, составляют одно целое. То, что выше, не светлее; то, что ниже, не темнее. Это непрерывная цепь, которой невозможно дать имя, переходящая в небытие. Это называется формой без формы, образом без образа, неопределимой сущностью. Идя вперед, мы не видим в нём начала; следуя за ним, мы не видим ничего за его пределами. Тот, кто постигает древнее состояние разума (то есть небытие существ до сотворения), чтобы оценить то, что существует сейчас, или Вселенную, можно сказать, что он держит нить разума»[68 - § 14.].
Это, как я полагаю, наиболее буквальный перевод данного отрывка; он в некоторых отношениях отличается от перевода отца Сибо[69 - Lettres sur les caract?res chinois/ Письма о китайских нравах. Стр. 29. Mеmoires concernant les Chinois/ Заметки о китайцах. Том I, стр. 300 (прим. автора).]. Но, не останавливаясь на этих различиях, нельзя не отметить одно: это неправильное прочтение слова И, первого члена триады, которое миссионер прочитал как ци. Эта ошибка помешала ему понять, о чём идет речь, а также ввела в заблуждение г-на Монтуччи, который мучительно искал в тексте три иероглифа, чтобы найти наиболее подходящие значения. Ци, по его словам, – это животворящая энергия, порождающая Вселенную; хи означает легкое дыхание, а вэй – это посланник, посланный.
Легко понять, какому соблазну поддался господин Монтуччи, давая такое толкование данному отрывку. Это тот самый соблазн, который уже сбил с толку трёх умнейших миссионеров в Китае, отцов Буве, Фуке и Премара, и который, заставив их в целях развития системы своих взглядов заняться чтением всех памятников древнего Китая, привел их, несмотря на их глубокую эрудицию и чистоту намерений, к таким ошибочным выводам, что я не стал их приводить при составлении данной книги.
Должен сказать, что интерпретации г-на Монтуччи столь же необоснованны. Три иероглифа, использованные здесь, вообще не имеют никакого смысла; это просто обозначения звуков, чуждых китайскому языку, либо путем артикуляции их целиком и, хи, вэй, либо взятых по отдельности начальных букв, которые выделить в письменном виде китайцы не умеют: И, Х, В.
ИХВ, говорит один комментатор, означает пустоту, или ничто, что следует понимать не в противопоставлении бытию, а путем исключения материи: ибо китайцы часто обозначают дух словами сю-у[70 - ?? (небытие).], которые в действительности означают vacuum и nihil[71 - Пустота и ничто (лат.).]; и было бы слишком легко считать, что китайские буддисты, которые используют эти слова, так же как и даосы, связывают происхождение всех вещей с небытием и даже отрицают существование Вселенной. Это абсолютно бессмысленно и противоречиво с точки зрения утверждения, что Вселенная была у, то есть ничто, тогда как они довольствуются тем, что ставят под сомнение существование материи, как это делали более изощрённые метафизики в других частях света, и определяют дух в манере некоторых раввинов отрицательным термином, который выражает, что это то ничто, о котором наши органы чувств дают нам представление[72 - Буддисты выделяют восемнадцать видов у, что было бы прелюбопытно, если бы под этим словом подразумевалось ничто. Санскритское слово, соответствующее этому китайскому термину, – шуньята. (прим. автора).]. Аббат ле Батто очень ясно показал, что древние также проводили фундаментальное различие между ничто и небытием.
Возвращаясь к вышеприведённому отрывку из «Дао дэ цзин», можно заметить, что понятие триады выражено в нём более явно, чем у Платона или философов, воспринявших и расширивших платоновские идеи о происхождении мира. Только у Плотина в его трудах мы можем найти нечто подобное, однако, чтобы увидеть это нам нужны глаза Марсилио Фичино[73 - Марси?лио Фичи?но (19 октября 1433 г. – 1 октября 1499 г.) – итальянский философ: гуманист, католический священник. Прежде всего известен как основатель и глава флорентийской Платоновской академии. Известен как автор первого полного перевода сочинений Платона на латынь, считавшегося лучшим до начала XIX века. Переводил труды неоплатоников, в частности, Плотина («Эннеады»). Перевод Герметического корпуса оказал огромное влияние на развитие западноевропейского оккультизма.], комментатора трудов Платона. Мы можем верить, что, по крайней мере, в этом вопросе флорентийский платоник не слишком отклонился от направления мыслей автора работ, которые он комментировал.
Впрочем, отрывки из языческих авторов, где ясно выражена та же мысль, дошли до нас только в трудах христианских писателей, которых, возможно, несколько легкомысленно или, по крайней мере, слишком часто обвиняют в том, что они изменили их, чтобы приспособить к своим воззрениям.
Неясность, с которой древние авторы, чьи слова мы здесь приводим, высказывались на эту тему, возможно, способствовала подозрениям современников. Но у Лао-цзы, вероятно, не было тех же мотивов, что у Пифагора, чтобы окутать своё учение завесой непроницаемого тумана. Он не был вынужден, подобно Платону, объясняться загадками, с той целью, чтобы его сочинения, попав в неизвестные руки, не были поняты теми, кому они не были адресованы.
Идеи, о которых идёт речь, были широко распространены в Китае того времени: их можно найти у нескольких современников Лао-цзы, хотя, по правде говоря, я не знаю ни одного отрывка, столь же ясного, как тот, который мы недавно прочли.
Поскольку, как мы уже могли убедиться, триграмматическое имя И-хи-вэй или ИХВ чуждо китайскому языку, интересно было бы выяснить его происхождение. На мой взгляд, оно не может быть найдено в Индии, где, несомненно, присутствуют те же идеи, но выражаются они совершенно другими терминами. Это слово кажется мне материально идентичным слову ИAO, которое, как мы знаем, является именем, которое различные восточные секты первых веков христианства, обычно объединяемые под именем гностиков, дали солнцу, или, лучше сказать, богу, образом и символом которого было для них солнце.
По мнению авторов, принявших имя ИAO в таком смысле в ту эпоху, это слово было образовано, исходя из астрологических соображений, из комбинации трёх гласных, которыми обозначены планеты, и объединённых в определенном мистическом порядке, чтобы представить распространение света Солнца, обозначаемого И, на все планеты, от Луны, которая является первой и обозначается A, до Сатурна, который является последним и обозначается ?.
Но это лишь вторичное объяснение, появившееся после введения греческого алфавита в восточных странах, и мы можем считать гораздо более вероятным мнение, согласно которому слово I?? является изменением древнееврейского тетраграмматона ????[74 - Иегова (Яхве).]. Отцы Церкви часто употребляли его в этом смысле. Исихий объясняет имя царя Осии словами ?????? ?I??, сила Божья.
Св. Климент Александрийский уверяет, что мистический тетраграмматон, который был известен только тем, кто был допущен в святилище, был ?????, имя, означавшее Тот, Кто есть и Кто будет[75 - Stromates еd. Potter/ Строматы под ред. Поттера. Книга V, глава VI, стр. 666 (прим автора).]. Ориген называет ?I?? эквивалентом еврейского Adona? и греческого К?????. Феодорит говорит, что самаритяне называли Бога ???б? , а иудеи - ?A??[76 - Г-н де Саси полагает, что слово a?a то же самое, что sum, sum qui sum (я; я тот, кто я есть) (прим автора).], имя, которое, по мнению толкователей, то же самое, что и 'I?? [77 - См. высказывание Гольмена, цитируемое в примечаниях к Stromates (еd. Potter) (прим автора).]. Диодор Сицилийский выражает словом ?I?? имя, которое, по его мнению, евреи дали Богу. Это же имя написано ?I??? в тексте Филона Библского о Санхуниафоне, согласно Евсевию. От евреев это имя перешло к соседним народам и, по-видимому, было воспринято, с несколько иной идейной окраской, несколькими религиозными или философскими сектами.
Джуба, имя, которое мавры давали своим королям, на их языке означает Бог. Это слово, которое древние принимали за обозначение короля Мавритании, возведённого в ранг богов, а некоторые современные – за искаженное имя «Иегова», – могло быть одновременно и тем, и другим; оно практически не отличается от тех, которые мы уже упоминали выше.