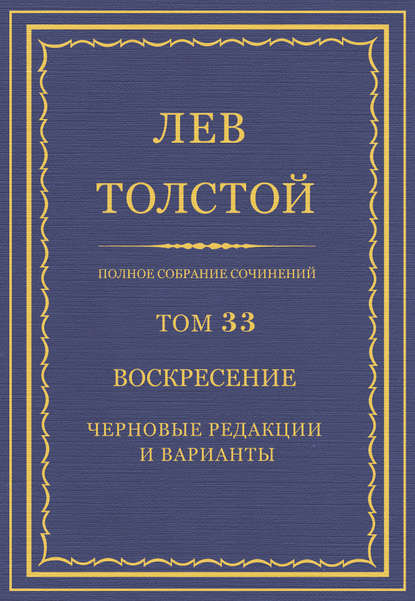 Полная версия
Полная версияПолное собрание сочинений. Том 33. Воскресение. Черновые редакции и варианты
Новый прилив бодрости в своей работе Толстой почувствовал лишь тогда, когда ему пришла в голову мысль по иному начать повесть, так чтобы сразу же речь пошла о Катюше, а не о Нехлюдове. 5 ноября он пишет в дневнике: «Сейчас ходил гулять и ясно понял, отчего у меня не идет «Воскресение»: ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ «Кто прав?» (о детях).563 Я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они – предмет, они – положительное, а то – тень, то – отрицательное. И то же понял и о «Воскресении». Надо начать с нее. Сейчас хочу начать». 7 ноября там же записано: «Немного писал эти два дня новое «Воскресение». Совестно вспомнить, как пошло я начал с него. До сих пор радуюсь, думая об этой работе так, как начал»; 8—9 ноября там же записано: «Писал «Воскресение» мало. Не разочаровался, но оттого что слаб»; 15 ноября отмечено: «Записал в Коневскую».
Вскоре после этого работа над «Воскресением» надолго почти совсем приостановилась. В конце 1895 и в начале 1896 года Толстой сосредоточился на писании статьи о вере, озаглавленной позже «Христианское учение», и автобиографической драмы, позднее получившей заглавие «И свет во тьме светит». Среди этой работы, в 1896 году, Толстой, видимо, лишь однажды вернулся к работе над «Воскресением». В дневниковой записи 13 февраля 1896 г. читаем: «Дописал кое-как 5-й акт драмы и взялся за «Воскресенье». Прошел 11 глав и понемногу подвигаюсь». Незадолго до этого, по словам сотрудника газеты «Новости», на его вопрос Толстому о том, скоро ли появится в печати его новая повесть, Толстой ответил: «О, я ее забросил пока!.. Она мне не понравилась, как-то не по душе… А главное – мне решительно некогда засесть за нее. Годы, знаете, берут свое. Мне не хватает времени… Теперь работа требует от меня гораздо более усидчивости, а между тем всё усложняющиеся и усложняющиеся личные отношения отнимают много рабочих часов. Приходится много читать, кроме того… В результате и оказывается, что работать над повестью некогда, а она требует еще много работы. Я еле успеваю справиться с текущей срочной работой».564
Существенные особенности второй редакции повести по сравнению с первой сводятся к следующему.
В согласии с дневниковой записью 5 ноября 1895 г. заново написано начало «Воскресения», соответствующее I и II главам первой части романа в окончательной редакции (отправка Масловой из тюрьмы в суд и рассказ о ее прошлом, вариант № 1). Кроме того, в отдельных частях повести сделано много дополнений и исправлений. Дополнена и углублена характеристика внутреннего мира Нехлюдова и его поведения до встречи с Катюшей на суде (варианты №№ 2, 3, 13—17, 20, 22—24). Дополнены характеристики судейских и особенно председателя, а также подсудимых (варианты №№ 4—9). Текст обвинительного акта радикально переработан в направлении к окончательной редакции, причем исправлена фактическая ошибка: он следует не после предъявления председателем обвинения каждому подсудимому в отдельности, как в первой редакции, а до него. Развернут эпизод присяги и особенно эпизод судебного следствия, в первой редакции лишь бегло и описательно намеченный; простое упоминание о свидетелях дополнено рассказом о допросе Розанова, содержателя дома терпимости, в котором жила Маслова (позднее, в третьей редакции, Розанов был заменен Розановой, затем, в четвертой редакции, переименованной в Китаеву). Добавлены эпизоды осмотра присяжными вещественных доказательств и чтения акта врачебного исследования внутренностей Смелькова. Введена речь товарища прокурора, значительно подробнее охарактеризовано резюме председателя. Текст приговора суда над Масловой исправлен: она приговорена не к ссылке в Сибирь на поселение, а к каторжным работам; но это исправление не согласовано с заключительной частью повести, где Маслова попрежнему фигурирует лишь как ссыльная. Введен разговор Нехлюдова с председателем суда о Масловой после вынесения приговора и затем с адвокатом, фамилия которого здесь – Файницын,565 о составлении кассационной жалобы; однако в дальнейшем из текста не видно, чтобы эта жалоба была подана и чтобы Нехлюдов и адвокат предпринимали какие-нибудь хлопоты по делу Масловой.
Вслед за этим сюжет развивается так: Нехлюдов после суда едет к себе домой, предается воспоминаниям о своей жизни и размышлениям о Катюше (см. варианты №№ 34—37), затем под утро засыпает. На следующий день он едет вновь в суд, где присутствует на заседании, в котором разбираются дела юноши, укравшего половики, и крестьян, обвиняемых в сопротивлении властям (это второе дело здесь изложено гораздо подробнее, чем в первой редакции; см. вариант № 39), после чего отправляется к прокурору (а не к председателю суда, как в первой редакции) с просьбой о свидании с Масловой и с заявлением об отказе от дальнейшего участия в суде. Затем, после неудачной попытки свидания в тот же день с Масловой в тюрьме, он едет к Кармалиным – Корчагиным. По дороге к ним происходит разговор с извозчиком, в первой редакции приуроченный к поездке Нехлюдова в суд. В исправленном тексте (рукопись № 11 после ее окончательной правки) в развитии сюжета сделаны перестановки: по окончании суда над Масловой Нехлюдов едет к Корчагиным (по дороге разговор с извозчиком), затем, возвращаясь к себе домой, предается воспоминаниям и размышлениями. Из второго дня сессии суда дело о сопротивлении крестьян властям исключено, в связи же с делом о краже половиков добавлены размышления Нехлюдова о жестокости и несправедливости судов (см. варианты №№ 40—42). Фамилия «Кармалины», по рукописям чередующаяся с фамилией «Сарматовы» и «Картавцевы», в рукописи № 11 исправлена на «Корчагины» (так и в окончательной редакции). Имя предполагавшейся невесты Нехлюдова, звучавшее по разному в различных рукописях (Алина, Соня, Маша) исправлено на Мисси (то же имя и в окончательной редакции). В число обедающих у Корчагиных введен двоюродный брат Мисси (Сони), довольно подробно охарактеризованный как «один из самых характерных молодых людей новой формации». Особо подчеркивается его утонченная корректность, его обыкновение целовать руки у всех дам высшего круга, имеющих детей, креститься во весь размах руки перед обедом и после обеда. О нем сказано, что имена лиц царской фамилии он произносил всегда почтительно, любил искусства, также любил выпить и избегал серьезных разговоров, отлично говорил на трех европейских языках и на всех их умел вести шуточные разговоры, держался всегда самого высшего общества и ухаживал за всеми хорошенькими барышнями и дамами. Ему было 33 года (см. вариант № 29). Эта характеристика вызывает предположение, что она была подсказана Толстому свойствами натуры в ту пору близкого к семье Толстых М. А. Стаховича, которому тогда было 34 года. (Позднее, начиная с третьей редакции, осталось лишь упоминание о двоюродном брате Мисси, без его характеристики.) Далее – впервые написан эпизод, соответствующий XXVII главе первой части романа в окончательной редакции (в комнате княгини Софьи Васильевны Корчагиной). Здесь Софья Васильевна сначала спрашивает Нехлюдова о его романсе, замечая, что его талант признает сам Рубинштейн, затем слово «романс» исправлено на «картина», а Рубинштейн заменен Репиным. Здесь же назван автор новой драмы, о которой идет спор (Ибсен) (см. вариант № 32). В дальнейшем введен разговор Нехлюдова с Аграфеной Петровной о его намерении оставить занимаемую им квартиру. Вслед за этим Нехлюдов думает о том, как примет сестра Наташа и ее муж, который назван здесь Иваном Михайловичем, его намерение жениться на Катюше и итти за ней в Сибирь. Тут о Наташе и ее муже говорится обратное тому, что будет подробно сказано в окончательной редакции романа:
И потомъ онъ начиналъ думать о сестрѣ, какъ она приметъ это и Иванъ Михайловичъ, ея мужъ. «Иванъ Михайловичъ скорѣй пойметъ. Но Наташа – она страшна, она сдѣлаетъ какую-нибудь глупость» (рук. № 11, л. 24).
В первой редакции, вслед зa единственным свиданием Нехлюдова с Масловой в тюрьме, он уезжает в свое имение для передачи земли крестьянам. Во второй редакции до этого у Нехлюдова происходит с Катюшей ряд свиданий (см. варианты №№ 43—45). При первом свидании она, вместо согласия выйти за Нехлюдова, как это было в первой редакции, здесь отвечает ему уклончиво и определенного ответа не дает: в рукописи № 11, л. 269, слова, сказанные ею в ответ на предложение Нехлюдова: «Что же, если не смеетесь, отчего же» зачеркнуты и вместо них написано: «А что, нельзя мне на кассацию подать? – сказала она вдруг». При втором свидании Нехлюдов повторяет Масловой свое предложение – выйти за него замуж, но и тут она уклоняется от согласия. Она просит перевести ее в «дворянскую», починить ей зуб и купить платье. На просьбу Нехлюдова не пить вина и читать привезенное им Евангелие она отвечает согласием, но явно неохотно. В последующие свидания Катюша посвящает Нехлюдова в подробности тюремного быта и знакомит его с жизнью своих товарок по заключению. Она плохо поддается воздействию Нехлюдова, но в его душе жалость и любовь к ней и желание возродить ее непрестанно растут.
Эпизод пребывания Нехлюдова в Панове радикально переработан и значительно распространен по сравнению с первой редакцией. Вместо одной беседы с крестьянами о земле у Нехлюдова здесь имеют место три беседы, причем последняя оканчивается полной договоренностью обеих сторон (см. вариант № 46). Из Панова Нехлюдов едет в «Малороссию», в главное имение матери, где так же, хотя и менее удачно, чем в Панове, разрешает земельный вопрос.
Заключение повести осталось прежним: Нехлюдов женится на Катюше, селится с ней в Сибири, а затем они эмигрируют в Англию. К этому добавлено, что Нехлюдов послал царю записку по вопросу об уголовном преследовании.
После февральской записи в дневнике 1896 года в течение 21/2 лет ни в дневниковых записях, ни в письмах мы не встречаем упоминаний о работе над повестью, хотя упоминания о самой повести за этот период встречаются. Так, 17 мая 1896 г. в дневнике записано: «К «Коневской». На Катюшу находят, после воскресения уже, периоды, в которые она лукаво и лениво улыбается и как будто забыла всё, что прежде считала истиной: ей просто весело, жить хочется». 19 июня того же года Толстой так объясняет причину неуспеха своей работы: „«Коневская» не во мне родилась; от этого так туго“. 23 октября в дневнике записано: «За «Воскресение» и взяться не могу. Драма занимает». 5 января 1897 г. Толстой там же записывает: «Начал перечитывать «Воскресение» и, дойдя до его решения жениться, с отвращением бросил. Всё неверно, выдумано, слабо. Трудно поправлять испорченное. Для того чтобы поправить, нужно: 1) попеременно описывать его и ее чувства и жизнь и 2) положительно и серьезно ее и отрицательно и с усмешкой его. Едва ли кончу. Очень всё испорчено». И затем почти через год, 17 декабря 1897 г., в числе сюжетов, которые, «стоит и можно обработать как должно», Толстой, в дневниковой записи, помечает «Воскресение – суд над проституткой». Работа над «Воскресением» была возобновлена лишь в июле 1898 года. Перерыв в ней занят был продолжением работы над автобиографической драмой, статьей о вере, «Отцом Сергием» и писанием «Хаджи Мурата», статьи об искусстве, разросшейся затем в трактат «Что такое искусство»?, и рядом других, менее крупных работ.
За это время издатели и редакторы журналов, прослышав о том, что Толстой пишет новое произведение, стали обращаться к нему с просьбами предоставить его для напечатания в их журналах. Так, еще 29 июля 1895 г. А. Ф. Кони обратился к Толстому со следующим письмом: „…пишу к вам вследствие полученного мною письма Л. Я. Гуревич. Взволнованная появившимся в печати известием о том, что вы оканчиваете повесть, действие которой происходит в окружном суде (уж не история ли это Розалии Они? Как бы это было хорошо!), она обращается ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед вами, поясняя, что появление этой повести в ее журнале было бы для нее событием чрезвычайной важности в виду того, что журнал ее переживает тяжелый кризис… Помимо вполне естественного самолюбия, ею руководит опасение за будущность «Северного вестника»“ (АТБ). В ответ на это Толстой писал Л. Я. Гуревич 26 августа того же года: «Кони писал мне о том, что хорошо бы было отдать вам повесть. Я бы очень желал это сделать, но едва ли мне это удастся. Так много разных работ, а не окончив вполне, я не напечатаю. Да и если кончу когда, то отдам эту повесть в «Посредник». Так что вы на меня не рассчитывайте и, пожалуйста, на меня за это не сердитесь» (ИЛ).
Еще ранее, 10 июля 1895 г., Толстой писал Л. И. Веселитской в приписке к письму к ней Н. Н. Страхова: «Николай Николаевич пишет вам, и мне захотелось написать вам хоть несколько слов… Он пишет вам про мою работу. Мне бы не хотелось, чтобы про нее знали редакторы, а то не будет покоя, и будет какой-нибудь грех» (ИЛ).
В том же году, 3 сентября, редактор «Недели» П. В. Гайдебуров писал Толстому из-за границы: «Известие, что вы пишете повесть, взволновало меня. Я убежден, что речь идет о том самом происшествии, которое мне рассказывал Кони и которое произвело на меня потрясающее впечатление. Знаю, что вы никогда ничего не обещаете. Научите же меня, что мне делать, чтобы эта вещь была напечатана в «Неделе». Далее Гайдебуров предлагает весь возможный доход от напечатания повести в «Неделе» обратить на поддержку «несчастных евангельских христиан, высылаемых за границу», о чем он прочел в номере одного заграничного русского журнала (АТБ). В связи с этим письмом Толстой 5 октября 1895 г. писал М. О. Меньшикову: «Недели три тому назад я получил письмо от Гайдебурова[…] пожалуйста, поклонитесь ему от меня и скажите, что предложение его мне очень сочувственно. Но едва ли буду печатать эту повесть в России, да и где-нибудь, потому что она далеко не кончена и стала мне противна» (ИЛ).566
Наконец, через полтора года, в письме к Е. Г. Шмитту от 2 марта 1897 г. в ответ на его запрос, не намерен ли Толстой напечатать «Воскресение», он пишет (перевод с немецкого): «Воскресение» – роман, который я давно начал, в прошлом году почти закончил, но чувствую, что это произведение так слабо и попросту плохо и бесполезно, что ни в коем случае его не напечатаю».567
IV.
В июле 1898 года работа Толстого над «Воскресением», как сказано, возобновилась. Поводом для этого было желание Толстого прийти на помощь духоборам, которые, в виду усилившихся репрессий по отношению к ним русского правительства, вынуждены были искать убежища вне пределов России. Аресты, ссылки, военные постои, переселение в глухие и притом нездоровые места – все эти кары, разразившиеся над духоборами за нежелание их отбывать воинскую повинность, приносить верноподданническую присягу и платить подати, – глубоко волновали Толстого. И когда он узнал о том, что духоборам разрешено переселиться за границу, он принял самое энергичное участие в изыскании материальных средств для этого переселения. 18 марта 1898 г. он пишет В. Г. Черткову: «Главное и самое важное – это духоборы. Они пишут мне вот уже третье письмо, что им разрешено переселиться за границу и просят помочь им» (AЧ). В связи с этими просьбами Толстой пишет в иностранные газеты и в русские «Петербургские ведомости» воззвание с призывом о помощи (в «Петербургских ведомостях» это воззвание по цензурным условиям не было напечатано), организует сбор пожертвований, разузнает у сведущих лиц о том, куда лучше всего духоборам переселиться, наконец, сам обращается к богатым людям с просьбой о денежных пожертвованиях. В письмах Толстого 1898 года, преимущественно к бывшему тогда в Англии Черткову, вопрос о духоборах занимает одно из центральных мест, если не самое центральное.
Однако вскоре Толстой убеждается, что для переселения духоборов за границу (в конце концов была выбрана Канада) средств, собранных от частных пожертвований, не хватит, и тогда он решает, вопреки своему давнишнему решению не брать литературного гонорара, продать – и притом возможно выгоднее – имевшиеся у него в черновых рукописях произведения, с тем чтобы вырученные от этой продажи деньги пошли на дело переселения.
С. А. Толстая 9 апреля 1898 г. в своем дневнике записывает: «Сегодня Лев Николаевич говорит, что доктор Рахманов очень заинтересовался повестью («Воскресение»), о которой он с ним давно говорил, и вот он ему дал читать, а потом сам перечел и подумал, что если напечатать всюду, то можно бы 100 000 рублей выручить для духоборов и их переселения».568
14 июля того же года Толстой пишет Черткову: «Так как выяснилось теперь, как много еще не достает денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать: у меня есть три повести: «Иртенев»,569 «Воскресение» и «Отец Сергий» (я последнее время занимался им и начерно написал конец). Так вот я хотел бы продать их на самых выгодных условиях в английские или американские газеты (в газете, кажется, самое выгодное) и употребить вырученное на переселение духоборов. Повести эти написаны в моей старой манере, которую я теперь не одобряю. Если я буду исправлять их, пока останусь ими доволен, я никогда не кончу. Обязавшись же отдать их издателю, я должен буду выпустить их tels quels.570 Так случилось со мной с повестью «Казаки». Я всё не кончал ее. Но тогда проиграл деньги и для уплаты передал в редакцию «Русского Вестника». Теперь же случай гораздо более законный. Повести же сами по себе, если не удовлетворяют теперешним требованиям моим от искусства, – не общедоступны по форме, – то по содержанию не вредны и даже могут быть полезны людям, и потому думаю, что хорошо, продав их как можно дороже, напечатать теперь, не дожидаясь моей смерти, и передать деньги в комитет для переселения духоборов». Дальше Толстой предлагает Черткову вместе с П. А. Буланже, П. И. Бирюковым и английскими журналистами Кенворти и Моодом обсудить вопрос, как наилучше поступить, чтобы выручить возможно больше денег, и сообщить ему об этом. Со стороны жены он не ждет больших препятствий к осуществлению своего намерения, но, если они возникнут, надеется побороть их. Проект свой Толстой пока что просит не разглашать. В заключение он добавляет, что продажа его сочинений для дела переселения духоборов представляется выгодной еще и потому, что в таком случае ему удобнее будет обращаться к разным богатым лицам с просьбой о пожертвованиях на это дело. Однако, перечитав в тот же день «Иртенева», Толстой решает, что его не следует печатать. В приписке к письму читаем: «Нынче же перечел рассказ Иртенева и думаю, что не напечатаю его, а ограничусь «Воскресением» и «Отцом Сергием»… «Иртенева» нехорошо печатать, потому что мотив один и тот же, что и в «Отце Сергии» (AЧ).
Несомненно однако, что от напечатания «Иртенева» Толстого удерживало не только им самим указанное обстоятельство, но и то, главным образом, что повесть на тему о непреоборимой страсти Иртенева к крестьянке Степаниде была в значительной мере автобиографичной, и появление ее в печати, как не мог не предполагать Толстой, сильно огорчило бы Софью Андреевну. (Она впервые случайно познакомилась с этой повестью через десять лет после этого и очень остро пережила приступ ревности к героине досвадебного романа Толстого, тогда еще живой и жившей неподалеку от Ясной поляны. Повесть, как известно, напечатана была лишь после смерти Толстого.)
Через три дня после этого письма Толстой записывает в дневник: «Решил отдать свои повести «Воскресение» и «Отца Сергия» в печать для духоборов». Но на следующий день он пишет Черткову: «Только что написал вам о своем намерении отдать в печать написанные рассказы, причем написал глупость о том, чтобы вы собрались все обсуждать этот вопрос, глупость, которую прошу считать comme non avenue571 и за которую простите меня. Взялся было за пересмотр и поправку «Воскресения», и дело пошло хорошо, как случилось такое обстоятельство, которое, к стыду моему, растревожило меня так, что не могу работать, и прошу тоже и мое предложение считать пока comme non avenu» (AЧ). В тот же день он записывает в дневник: «Взялся за «Воскресение», и сначала шло хорошо, но с тех пор, как встревожился, два дня ничего не могу делать».
Обстоятельство, растревожившее Толстого и даже заставившее его на время отказаться от плана печатания своих повестей в пользу духоборов, – было, несомненно, столкновение с женой, раздраженной тем, что в то время как семья материально ничего не получала от печатания новых произведений ее мужа, сектанты, кровно не связанные с Толстым, должны были получить в результате продажи издателям «Воскресения» и «Отца Сергия» большую сумму денег. Но, как и предвидел Толстой, ему в конце концов удалось преодолеть это домашнее препятствие, и он вновь принялся за работу над «Воскресением». 20 июля он записывает в дневник: «Вчера хорошо работал «Воскресение», а 21 июля пишет Черткову: «Теперь – о моем намерении печатать для духоборов мои повести. Я не оставляю этого намерения, хотя предвижу много трудностей и внешних и внутренних и хотя сам в дурном состоянии для работы. Несмотря на это, понемножку работаю над «Воскресением» и с удовольствием, и 1/4 сделал» (AЧ).
Как явствует из цитированного выше письма Толстого к Черткову от 14 июля 1898 г., Толстой намерен был вначале печатать «Воскресение» в том виде, в каком оно было в момент созревшего решения выпустить его в свет, т. е. опубликовать текст второй редакции, сложившийся к февралю 1896 г. В этой редакции отсутствовал еще целый ряд эпизодов, введенных в «Воскресение» позднее. Так, отсутствовало описание богослужения; не фигурировали пока в повести революционеры – политические ссыльные и заключенные, как не фигурировали и сектанты и уголовные, о которых в дальнейших редакциях «Воскресения» Нехлюдов хлопочет. Тогда Нехлюдов ни за кого еще не хлопотал, в том числе и за Катюшу; поэтому все те персонажи, с которыми позднее пришлось столкнуться Нехлюдову в процессе этих хлопот, в ранней редакции повести отсутствуют. Отсутствует в качестве действующих персонажей и сестра Нехлюдова, и ее муж Рагожинский, и старик-сектант, с которым Нехлюдов встретился впервые на пароме, и начальник края в Сибири, и многие другие лица. В связи со всем этим повесть в ранней редакции социально и политически гораздо менее остра и идеологически значительно слабее насыщена, чем в редакции окончательной. Ее финал – женитьба Нехлюдова на Катюше – самому Толстому вскоре показался психологически слабым и неубедительным.
По всем этим причинам, несмотря на первоначальное намерение печатать повесть в том виде, как она была у него написана, Толстой, взявшись за пересмотр ее, не мог остановиться лишь на легкой ее ретушовке, как, видимо, предполагал это сделать сначала, а коренным образом переработал ее, увеличив при этом значительно ее объем.
В течение августа Толстой усиленно был занят переработкой второй редакции повести. 3 числа этого месяца в дневнике записано: «Работа над «Воскресением» идет очень плохо, хотя и кажется, что обдумал гораздо лучше». В тот же день, там же, сделана следующая запись: ,,К «Воскресению». Нельзя было думать и помнить о своем грехе и быть самодовольным. А ему надо было быть самодовольным, чтобы жить, и потому он не думал, забыл“. Через три недели после этой записи, 24 августа, Толстой в дневнике отмечает: «Всё работаю над «Воскресением» и доволен, даже очень. Боюсь столкновений».572
О работе Толстого в это время над «Воскресением» упоминает в своем дневнике и С. А. Толстая. Так, в записи 11 августа, говоря сначала о себе, она продолжает: «Он же работает над «Воскресением» – ненавистной мне повестью. Может быть, он ее исправит». 24 августа она там же записывает: «Он пишет свое «Воскресение», и ему переписывает очень кстати явившийся Александр Петрович».573 28 августа, в день рождения мужа, Софья Андреевна записала в дневнике: «Утром Лев Николаевич писал «Воскресение» и был очень доволен своей работой того дня. «Знаешь, – сказал он мне, – когда я к нему вошла, – ведь он на ней не женится, и я сегодня всё кончил, т. е. решил, и так хорошо!» – Я ему сказала: «Разумеется, не женится. Я тебе это давно говорила; если б он женился, это была бы фальшь».574 27-м и 28-м августа 1898 г. Толстым собственноручно датированы рукописи, текст которых представляет собой переработку второй редакции повести. Эта переработка составила третью редакцию «Воскресения», процесс создания которой прослеживается на материале рукописей №№ 14—18, большей части №№ 19 и 20 и частично № 23.
Отличительные особенности третьей редакции по сравнению со второй таковы. В нее вновь введен рассказ о связи Нехлюдова с замужней женщиной – женой предводителя дворянства. Далее, в отличие от первой и второй редакций, о Нехлюдове сказано, что он окончил университет (кандидат математических наук) и после этого, находясь в стадии «душевной стирки», вместо того чтобы поступить в дипломатический корпус, как этого хотела его мать, поступил во второе отделение собственной его величества канцелярии, т. е. в отделение законов, с тем чтобы «начать новую жизнь, такую, которая бы вся была направлена на нравственную и умственную пользу себе и на пользу людям». «Когда решено было, что он поедет в Петербург, – сказано о нем, – он взял адрес-календарь и внимательно прочел все гражданские учреждения. Из всех их он счел самым важным то, в котором составлялись законы. Решив, что он будет служить в этом учреждении, он пошел на прием к Статс-Секретарю и объявил ему о своем желании служить у него».575 Но через год нравственный подъем проходит, и Нехлюдов живет «как все». При объявлении войны с Турцией он становится «патриотом» и поступает в полк и затем, по дороге на войну, соблазняет Катюшу (см. вариант № 52). Возвратившись с войны, он вращается в высшем петербургском обществе, затем, когда это ему надоедает, уезжает на два года в Италию и там занимается живописью, но сознав, что искусство не может наполнить его жизни, возвращается в Россию и живет с матерью, ничем не занимаясь, участвуя в земстве и дворянских «выборах». Так он живет умным, образованным тридцатидвухлетним холостяком, всем недовольным и всех осуждающим, но в сущности больше всего презирающим самого себя (см. вариант № 54). Рассказ о посещении Нехлюдовым заграничных университетов, отнесенный во второй редакции ко времени до военной службы, здесь опущен, рассказ же о пребывании в Италии, приуроченный там к тому же периоду, здесь сокращен. Воспоминания Нехлюдова о своей юности и юношеских увлечениях идеями Генри Джорджа, следовавшие во второй редакции вслед за возвращением с обеда у Корчагиных, здесь исключены.

