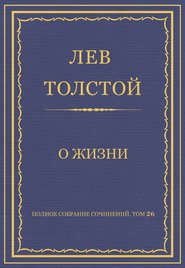 Полная версия
Полная версияПолное собрание сочинений. Том 26. Произведения 1885–1889 гг. О жизни
Но есть еще другіе и самые обычные роды страданій, при которыхъ объясненія уже не только ничего не даютъ, но какъ будто даны только для того, чтобы посмѣяться надо мной. Я изувѣченъ въ провалившемся Вѣрномъ, п[отому] ч[то] таковы геологическіе законы, или я страдаю отъ сифилиса, п[отому] ч[то] мой отецъ былъ боленъ, a болѣзнь наслѣдственна или п[отому] ч[то] въ меня залетѣла такая то бактерія.
Глава XXXIV.Вариант шестой.223
НЕОБЪЯСНИМЫЯ СВОИМИ ОШИБКАМИ И НИЧѢМЪ НЕОПРАВДЫВАЕМЫЯ СТРАДАНIЯ ЛЮДЕЙ СУТЬ НОВОЕ И САМОЕ СИЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕКОНЧАЕМОСТИ ЖИЗНИ.
«Но хорошо, положимъ, что жизнь истинная не есть жизнь личности, начинающаяся и кончающаяся здѣсь и что потому смерть не нарушаетъ разумнаго смысла жизни, но страданія, испытываемыя людьми въ этой жизни, страданія безцѣльныя, случайныя, ничѣмъ неоправдываемыя страданія? Достаточно однихъ этихъ страданій для того, чтобъ разрушить всякій разумный смыслъ, приписываемый жизни?» говорятъ люди, указывая на тѣ ужасныя, ничѣмъ необъяснимыя страданія, которыя со всѣхъ сторонъ окружаютъ насъ. Зачѣмъ землѣ надо провалиться именно подъ Лисабономъ и Вѣрнымъ и зарыть живыми невинныхъ людей – дѣтей? Зачѣмъ одной матери изъ 1000 на своихъ глазахъ потерять всѣхъ дѣтей и самой обгорѣть и умерѣть въ страшныхъ страданіяхъ? Зачѣмъ всѣ эти наслѣдственныя страданія и болѣзни? спрашиваютъ себя люди и не находятъ разумнаго отвѣта.
<И человѣкъ спрашиваетъ и испытываетъ эти страданія и, глядя на страданія другихъ, спрашиваетъ себя, отъ чего и для чего эти страданія? Спрашиваетъ себя о причинѣ и цѣли этихъ страданій. И всегда человѣкъ не можетъ не спрашивать себя объ этомъ. Это первые вопросы, представляющіеся человѣку. Обыкновенно думаютъ, что разуму человѣческому свойственно вообще отъискивать причины видимыхъ ему явленій, что простая любознательность влечетъ человѣка къ исслѣдованію причинъ и слѣдствій видимыхъ явленій и что въ числѣ этихъ явленій находятся и тѣ, которыя производятъ его страданія. Но это совершенно несправедливо: человѣку не свойственно изъ простой любознательности отъискивать причины и слѣдствія всѣхъ явленій міра: изслѣдовать почему солнце встаетъ и садится и что отъ этаго бываетъ или почему у рыбы нѣтъ крыльевъ и что отъ этаго происходитъ и т[ому] подобныя явленія, которыхъ въ мірѣ безчисленное количество. Человѣку свойственно изслѣдовать только свои страданія, отъ чего и для чего они? Только свои страданія и приводятъ человѣка къ и[з]слѣдованію всѣхъ другихъ явленій міра. И съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ, человѣкъ не переставалъ и не перестаетъ изслѣдовать причину страданій и изыскивать средства избавленія отъ нихъ. Въ этихъ изслѣдованіяхъ и вытекающихъ изъ нихъ дѣятельности и состояло и состоитъ все познаніе человѣка. Съ самаго перваго проблеска сознанія человѣкъ и человѣчество, поражаемые страданіями, старается познать причину его, чтобы предотвратить это страданіе, если оно не нужно для его блага и выучиться переносить его и уменьшить его, если онъ познаетъ, что страданіе это необходимо для его блага. Вся жизненная животная дѣятельность человѣка есть ничто иное какъ избавленіе себя отъ страданій, причина которыхъ понята, и перенесенiе и облегченіе страданія, цѣль котораго постигнута. Вся личная жизнь человѣка отъ пробужденія и до сна, отъ рожденія и до смерти наполнена именно этимъ.>
Казалось бы человѣкъ до такой степени окруженъ со всѣхъ сторонъ страданіями своими и чужими, до такой степени его наслажденiя связаны не только съ чужими страданіями, но и съ своими собственными, что пора бы человѣку привыкнуть къ страданію какъ къ неизбѣжному условію жизни и не спрашивать себя, зачѣмъ страданіе. Не удивляться страданію, какъ чему то неожиданному, чему то такому, чего не должно быть. Человѣкъ вѣдь никогда не спрашиваетъ себя, зачѣмъ противоположное страданію, зачѣмъ наслажденіе? <Сколько бы не думалъ человѣкъ о неизбѣжности страданія, онъ никогда не можетъ перестать смотрѣть на него какъ на то, чего не должно быть, всегда спрашиваетъ себя зачѣмъ оно?>
Человѣку нужно знать, зачѣмъ страданія потому, что человѣкъ понимаетъ и не можетъ понимать иначе страданія какъ то, чего не должно быть, какъ то, что должно быть уничтожено, какъ то, что должно служить поводомъ для его дѣятельности, имѣющее цѣлью уничтоженіе его.
Въ самомъ дѣлѣ, съ тѣхъ поръ, какъ сознаетъ себя человѣкъ и все человѣчество, вся животная дѣятельность людей вѣдь состоитъ только въ томъ, чтобы, находя причины страданій, избавляться отъ нихъ.
Человѣкъ испытываетъ страданія голода и узнаетъ причину страданій – отсутствіе пищи, и выводъ, дѣлаемый имъ изъ этаго, выражается въ его дѣятельности, состоящей въ работѣ для приготовленія пищи.
Человѣкъ обдираетъ ноги по камнямъ, и выводъ состоитъ въ дѣятельности приготовленія обуви. Такъ это вообще, но въ частности тоже происходитъ и въ каждую минуту съ каждымъ изъ насъ. Я сѣлъ на гвоздь, мнѣ больно, я отъискиваю причину, и слѣдствіе вытекаетъ само собой. Я устраняю гвоздь или пересаживаюсь на другое мѣсто. Вся жизнь сложена изъ страданія224 и избавленій отъ него и, когда эти состоянія имѣютъ для насъ ясную причину и послѣдствіемъ его является дѣятельность, устраняющая страданія, мы и не чувствуемъ ихъ какъ страданія и не замѣчаемъ ихъ.
Но испытываемыя нами страданія усложняются: причины ихъ и дѣятельность для устраненія ихъ выходятъ за предѣлы нашей личной и страданія представляются намъ необъяснимыми. Но понятіе наше о страданіяхъ, почерпнутое нами изъ нашего личнаго опыта, остается то же. Страданія, причины которыхъ мы не видимъ въ своей жизни, остаются все тѣмъ же, чѣмъ то такимъ, чего не должно быть, что произошло отъ ошибки (заблужденія грѣха) и что должно быть исправлено. Какъ бы непонятна не была причина страданія, какъ бы невозможно ни было исправить ошибки, произведшiе его, страданія мы все таки понимаемъ какъ то, что произошло отъ ошибки, за которую мы наказаны, и что должно быть исправлено и искуплено. Мы не можемъ225 представить себѣ безъ этихъ условій страданія.
Кто-нибудь виноватъ и кто-нибудь долженъ искупить. И тутъ то для человѣка, понимающаго свою жизнь какъ существованіе отъ рожденія до смерти, безсмысленность страданія, когда я, не имѣя другой жизни какъ личную, могу быть причиной страданій внѣ моей жизни, и страданиями,226 своей личной жизнью долженъ выкупать ошибки прежнихъ людей.
Для человѣка, понимающаго свою жизнь, какъ существованіе, начинающееся здѣсь, нѣтъ и не можетъ быть никакого объясненія страданій, того самаго, что важнѣе всего въ жизни человѣка. И какъ хорошо мы не умѣли бы разными разсужденіями устранять мысль о смерти, однихъ страданій, угрожающихъ и постигающихъ со всѣхъ сторонъ человѣка, совершенно достаточно, чтобы несомнѣнно убѣдить его въ безсмысленности, ничтожности и такой бѣдственности жизни, что гораздо лучше убить себя сразу какимъ нибудь легкимъ и короткимъ способомъ, чѣмъ подвергаться всѣмъ тѣмъ разнообразнымъ ужасамъ страданій, которые со всѣхъ сторонъ ждутъ человѣка. – Вѣдь если бы люди дѣлали только тѣ выводы, которые неизбѣжно слѣдуютъ изъ ихъ міросозерцанія, человѣкъ, понимающій свою жизнь, какъ личное существование здѣсь, ни минуту бы не остался жить. Вѣдь ни одинъ работникъ не пошелъ бы жить къ хозяину, который уговоромъ бы поставилъ то, что если ему вздумается, онъ позволитъ только нѣкоторое время работнику жить спокойно, но, если вздумается, то будетъ жарить его и тѣхъ, кого онъ любитъ, живыми, или сдирать кожу, или вытягивать жилы <и тоже дѣлать со всѣми тѣми, кого любитъ работникъ>, дѣлать то, что онъ на глазахъ нанимающагося дѣлаетъ уже со всѣми своими работниками. Если бы люди дѣйствительно вполнѣ понимали жизнь такъ, какъ они говорятъ, что ее понимаютъ, ни одинъ отъ одного страха страданій не остался бы жить ни одной минуты.
Да, ничто очевиднѣе страданій и неизбѣжнаго ужаса передъ ними, не показываетъ людямъ невозможность понимать жизнь какъ существованіе только здѣсь и необходимость понимать ее какъ нѣчто, выходящее за предѣлы этой жизни.
Объясненіе то, что есть Богъ, награждающій тамъ за страданія здѣсь, ничего не объясняетъ, потому что, если Богъ награждаетъ людей тамъ за страданія здѣсь, то онъ дѣлаетъ это только потому, что онъ справедливый. Если же онъ справедливый, то онъ не могъ и подвергать людей незаслуженнымъ ужаснымъ страданіямъ здѣсь. Если же Богъ, какъ это говорится въ Библіи, взыскиваетъ на дѣтяхъ грѣхи родителей, то это еще хуже. Ребенокъ ни въ чемъ не виноватъ, за что же съ него сдираютъ съ живаго кожу? Богъ, карающій и мучающій невинныхъ, есть Богъ нетолько несправедливый, но злой и не разумный, т. е. нѣтъ Бога. Объясненіе же, что люди прежде согрѣшили, и искупленіе всѣхъ этихъ грѣховъ взялъ на себя Искупитель, и что потому страданій этихъ нѣтъ больше, только голословно отрицаетъ то, что есть. И никакая вѣра въ то, что нѣтъ тѣхъ страданій, которыя есть, не уничтожитъ моего вопроса о томъ, зачѣмъ страданія.
Всѣ эти объясненія ничего не объясняютъ: объясняетъ только одно: то, что тотъ грѣхъ, который сдѣланъ до моей земной жизни и страданія отъ котораго я несу, сдѣланъ мною же и что всякій грѣхъ, который я сдѣлаю въ своей жизни, я же и понесу въ страданіяхъ слѣдующихъ поколѣній.
Объясненіе возможно одно въ сознаніи своей жизни въ жизни внѣ себя въ жизни всего міра. Въ томъ то и дѣло, что человѣкъ не можетъ жить одинъ для себя однаго, не можетъ спастись одинъ, что нѣтъ для человѣка однаго его личнаго блага. Въ томъ то и дѣло, что заблужденія человѣка производятъ страдания человѣка; страданія человѣка суть послѣдствіе заблужденій человѣка. Человѣкъ же заблуждающійся и страдающій не есть одинъ личный человѣкъ, я, Левъ Николаевичъ, a человѣкъ – это всѣ люди и теперь живущіе и прежде жившіе и тѣ, которые будутъ жить – это сынъ человѣческій, какъ называетъ это Евангеліе. И жилъ и живетъ и можетъ жить въ насъ только онъ, этотъ сынъ человѣческій, тотъ, который не только связанъ, но есть одно со всѣми людьми, который своимъ страданіемъ выкупаетъ и свои и чужіе грѣхи, своимъ заблужденіемъ, производитъ свои и чужіе страданія и своимъ избавленіемъ отъ заблужденія избавляетъ себя и другихъ отъ страданій.
Любовь есть та положительная сила, которая соединяетъ людей въ одно. Страданія это та же отрицательная сила, показывающая намъ невозможность нашего отдѣленія другъ отъ друга. Для любви нѣтъ страданія; страданія чувствуются только тѣмъ, кто хочетъ разорвать связь, соединяющую людей. Это та цѣпь, боль отъ которой онъ чувствуетъ, стараясь разорвать ее. <Страданія чувствуются только тѣмъ, кто хочетъ разорвать эту цѣпь.
Страдаю я или другой человѣкъ. Что же это значитъ? Это значить то, что обозначилось заблужденіе, грѣхъ, отъ котораго еще не избавился я или другіе люди, значитъ, что для меня обнаружилось то заблужденіе, которое должно быть исправлено. Неужели мы бы хотѣли, чтобы заблужденія наши были бы скрыты отъ насъ, чтобы мы гибли, не замѣчая этаго?>
–
Комментарии А. И. Никифорова227
«О ЖИЗНИ».
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ.
3 мая 1886 г. Л. Н. Толстой познакомился с приехавшей в Ясную поляну Анной Константиновной Дитерихс, будущей женой В. Г. Черткова, сотрудницей «Посредника» и ближайшей виновницей создания книги Толстого «О жизни».
Летом того же 1886 г. «Лев Николаевич возил сено для бедной вдовы и, ударившись ногой о телегу, долго после страдал от этого ушиба, получив рожистое воспаление и другие осложнения. Ему долго пришлось лежать» (Воспоминания С. А. Толстой, ТЕ, 1912 г.). Произошло это около 4 августа, потому что С. А. Толстая в письме к А. А. Фету от 15 августа 1886 г. писала: «Сижу теперь 11-й день у постели Льва Николаевича. Он нас ужасно напугал. Началось с жара в 40°, рвоты и боли в ноге. Жар всё время не проходит; на ноге язва, нарыв и рожа. Он страшно страдает, исхудал и ослаб».
Болезнь была настолько серьезная, что Толстой думал о смерти. В письме к А. А. Толстой (точно не датированном) он пишет: «О ноге там говорят, что воспаление накостницы и рожа и т. п., но я знаю очень хорошо, что главное в том, что я «помираю от ноги», как говорят мужики, т. е., нахожусь в положении немного более близком к смерти, чем обыкновенно, и именно от ноги, которая указывает на себя болью. И это положение, как и вы прекрасно говорите, – чувствовать себя в руке Божией – очень хорошее, и мне всегда желается в нем быть и теперь не желается из него выходить» (ПТ, стр. 344). Письмо дальше высказывает ряд мыслей о смерти и жизни, темы, которые очень значительно захватывают внимание Толстого, как он сам несколько позже придается в ответе на письмо А. К. Дитерихс. Последняя именно в период этой болезни – 12 сентября 1886 года из Петербурга написала, а 16 сентября послала Толстому длинное письмо, в котором, извинившись за беспокойство, сообщала Толстому свои тревоги зa его здоровье. «Я знаю, писала она, что это маловерие и что не следует бояться за вас, когда вы сами так спокойно и здраво относитесь к явлению смерти. Вспоминаю ваше письмо и Фейнермана письмо к О. Озмидовой о смерти и вечности и помню, что они произвели на меня должное впечатление, они совпали с моим настроением. Именно тогда я много думала о смерти и старалась выработать в себе полное примирение с возможностью умереть каждый день, каждый час… Вот и это время я неспокойна, мне тяжело, невольно тяжело, что я всё мучаюсь, думая о вашей болезни. В такие минуты я чувствую, что почва уплывает из-под ног и что вопросы, цепляясь один за другой, наполняют мою слабую голову и затуманивают ее. – Зачем смерть, когда такие люди так нужны? Что мне докажет целесообразность этого? Куда девать это чувство, вносящее разлад в мои мысли, как победить его, согласовать с разумом, сделать его законным, и действительно ли оно законно? Вопросы эти теснятся в моей голове и, сознаюсь, дорогой Лев Николаевич, что чувство не мирится с теми ответами, которые изобретает мой рассудок. Я не могу знать, конечно, что нужней, т. е. лучше будет способствовать распространению учения Истины, ваша ли возможно долгая жизнь или скорая смерть? Но я знаю ведь, что вы, произведший глубокую волну в жизни духа всего человечества, вы бессмертны (если не вы лично, то – то, что в вас таково). Казалось бы, что, сознавая всё это, горевать и оплакивать таких людей тем более грешно и малодушно, это значило бы считать всю работу вашу бесплодной. А тем не менее бывают минуты, когда скорбь и боль сильней всего, и тогда я чувствую только одно, что помимо всего того, что вечно в вас, вы лично нужны и дороги нам, потому что вы – Лев Николаевич, и никто другой не может быть им…». Далее А. К. Дитерихс писала о смирении, самоотречении, браке и семье. (См. настоящее издание т. 85, стр. 392 и сл.)
Толстой начал свой ответ на это письмо в самом начале октября 1886 г. В письме к В. Г. Черткову от 4 октября 1886 г. Толстой сообщает: «…От А. К-ны давно получил длинное хорошее письмо и вместо того, чтобы коротко ответить, начал по пунктам на все ее мысли. А так как одна из мыслей была о жизни и смерти, то, о чем я так много заново думал, то и начал об этом и до сих пор всё пишу, т. е. думаю, записываю. Напишите ей, чтобы она на меня не обижалась. Впрочем я это передал ей с Бирюковым» (ТЕ, 1913, стр. 40). По всем палеографическим признакам именно эти первоначальные записи «по пунктам», делавшиеся однако не сразу, а в несколько приемов на отдельных почтовых листках, и представлены рукописью № 1, по которой они публикуются выше (№ 1 черновых вариантов).228
Письмо однако не было окончено. Толстого отвлекла художественная работа. 20 октября он начал «Власть тьмы», которую закончил в ноябре. Черновые же листки начатого ответа, вероятно, по просьбе А. К. Дитерихс, узнавшей от П. И. Бирюкова об их существовании, были к ней пересланы, а может быть были переданы даже самим Толстым Анне Константиновне. Она в своих воспоминаниях, рассказывая о пребывании в Москве у Толстого зимой 1886 года, сообщает:
«Я сижу около большого стола у окна и занимаюсь чем-то. Входит Лев Николаевич с листками тетрадки в руках:
– А мужа вашего нет?… А я вот принес ему мои черновички, – он хорошо в них разбирается…
И он кладет листки на стол, около меня.
– Это всё то же, – отвечает он на мой вопрос, – о чем мы с ним начали переписываться… Да, вот я – уже простите – кажется, так и не отослал к вам этого письма......
И он садится тут же у стола.
Я что-то говорю о том, как бы хотелось поскорей прочесть его статью «О жизни» целиком…
– Ну, да конечно, прочтете… Всё надеюсь, что авось, разрешат хоть эту книгу......
Не могу вспомнить и передать в точности, что именно говорил Лев Николаевич на тему «о жизни и смерти», – это слишком серьезная тема, которую не решаюсь передать «своими словами», а точно не запомнила» (А. К. Черткова – «Из воспоминаний о Л. Н. Толстом» – ТТ, 2, стр. 91).
В воспоминаниях А. К. Чертковой есть неточность: о «книге» «О жизни и смерти» Толстой зимой 1886 г. еще не думал. Но приведенная сценка показывает, что со своим ответом на письмо А. К. Чертковой Толстой познакомил ее, повидимому, сам. Во всяком случае в ноябре 1886 года черновые листы «О жизни и смерти» были уже у Чертковых в Воронежской губернии. Об этом можно заключить по фразе в письме В. Г. Черткова к Толстому из Россоши Воронежской губ. от 9 ноября 1886 г.: «Вообще, если зa последнее время я лично не получал писем от вас, то зато пришлось вынести много радости и пользы из некоторых ваших писем к другим людям. Напр, к Гале (черновые листки о жизни и смерти)»… (т. 85 наст. изд., стр. 412). Галей В. Г. Чертков называет ставшую осенью 1886 г. его женой А. К. Дитерихс.
Анна Константиновна переписала присланные к ней черновые листки и оставила у себя одну копию (см. Описание, рукопись № 2).
В то же время очевидно у Чертковых с мыслями Толстого о жизни и смерти познакомился редактор «Русского богатства» Л. Е. Оболенский, который в письме к Льву Николаевичу от 6 ноября 1886 года, посылая Толстому выдержку из его ответа А. К. Чертковой, писал: «Посылаю вам выписку из одного вашего частного письма, которое бы мне было желательно распространить путем помещения в «Русском богатстве». А быть может захотите сделать какие-либо изменения и добавления. В этом отрывке удивительно хорошо формулировано, как неизбежное условие жизни, поглощение личной жизни служением жизни общей». Толстой отвечал Оболенскому 14—15 ноября: «Спасибо за присылку выписки, дорогой Леонид Егорович. В таком виде неконченной она невозможна. Постараюсь закончить и тогда пришлю вам. (См. т. 63, наст. издания.) 14-го же ноября в письме к В. Г. Черткову Толстой пишет: «Нынче получил от Оболенского письмо с выпиской из письма к вам о смерти и жизни. Хорошо бы докончить, сказать, что думаю. Спасибо, что прислал». Очевидно, копия № 3 (см. Описание) и была той выпиской, которая была послана Л. Е. Оболенским Толстому и с которой началась дальнейшая работа его над письмом, превратившимся позже в целую книгу. Может быть, смерть матери С. А. Толстой в Крыму 11 ноября (С. А. Толстая ездила в Крым и должна была, вернувшись, рассказывать об этой смерти, происшедшей на ее глазах) не прошла также мимо внимания Толстого. Во всяком случае, как показывает с одной стороны дата ответа Оболенскому (14 ноября) и с другой стороны дата штемпеля на рукописи № 6 (12 декабря) несомненно, что на конец ноября и начало декабря 1886 г. падает полная переработка первого чернового варианта и превращение его во второй вариант будущей книги «О жизни». Этот второй вариант послужил отправной точкой для первой редакции229 книги и издается нами под № 2 – черновых вариантов. Он отличается от первого полной переделкой части текста и заменой значительной, вычеркнутой части первого варианта двумя большими вставками, написанными на особых, листах (Описание №№ 4 и 5).
Вероятно, о втором варианте речь идет в письме из Москвы к В. Г. Черткову от 18 декабря 1886 г., где Толстой сообщает: «Еще последнее время урывками писал продолжение и уяснение письма к А[нне] К[онстантиновне] (знаете?)»
Этот второй вариант статьи Толстой снова посылает Чертковым, потому что В. Г. Чертков из Петербурга в письме от 2 января 1887 года пишет: «…Вашу статью о жизни и смерти мы внимательно переписываем и надеемся на этих днях вам выслать…» 15 января 1887 г. он же сообщает Толстому: «…Листки о жизни и смерти будут вам высланы, надеюсь, завтра…» 21 янв. 1887 г. Толстой отвечает Черткову, что «…ценную посылку с рукописями до сих пор не получал, а жду их очень» (ТЕ, 1913, стр. 43). Но 23-го уже января Лев Николаевич ему же из Москвы пишет, имея в виду рукописи «О жизни»: «…За переписку моей метафизической чепухи (я пробежал ее) очень, очень благодарен…» (ТЕ, 1913, стр. 45). В. Г. Чертков из Петербурга 24 января отвечает Толстому: «… Меня беспокоит то, что вы не получили еще посланных мною заказных посылок. Я послал вам три. Сначала те рукописи, о которых говорил в письме, и при них переписанные листки «О жизни и смерти»...... Если будете продолжать «О жизни и смерти», а кончить эту вещь непременно следовало бы по важности ее содержания, то не забудьте написать о том, что вы мне говорили, когда мы ходили по бульвару – о 3-х составных частях человека: тело, порода и вечная сторона…» В приписке к этому письму 26 января добавлено: «…я получил ваше письмо, в котором вы сообщаете, что получили рукописи»… Таким образом 23 января 1887 года Толстой имел уже копию с второго варианта. (Это была рукопись – Описание № 8). Другая копия была оставлена Чертковым у себя (Описание № 7).
В январе же месяце 1887 г. Толстой приступает к работе над копией. В январском письме этого года из Москвы к И. Б. Файнерману Толстой сообщает: «…пишу общее рассуждение о смерти и жизни, которое мне кажется нужным. Я кое-что читал вам» (Тенеромо, «Воспоминание о Л. Н. Толстом и его письма», изд. ж. «Образование». 1906, стр. 187). На январь 1887 г., повидимому, приходятся две переделки черновика, принятого за основу дальнейшей работы (т. е. изданного нами под № 2). Первая переделка (Описание № 8) состояла в ряде крупных перестановок частей текста для логической концентрации близких мыслей и в расширении отдельных мест вставками; была введена концовка с особенным подчеркиванием темы смерти. Исправленный текст первой переделки был скопирован и снова правлен – получилась вторая переделка (Описание № 9, 10, 11), в которой рядом с сокращениями и перестановками произведена некоторая стилистическая правка и внесена большая вставка на особом листе с темой о тождестве процессов жизни человека, животных и растений. Самый конец второй переделки дан в форме вопросов, ясно показывая установку статьи на дальнейшее расширение.
Февраль и март месяцы 1887 г. несколько осложнили работу Толстого и дали новый толчок для ее продолжения. Этим толчком явились встречи в Москве с философом профессором Н. Я. Гротом. По данным любезно предоставленным нам проф. К. Я. Гротом, Н. Я. Грот начал свою деятельность в Москве с осени 1886 года, но познакомился с Толстым несколько раньше.
В письме Толстого к В. Г. Черткову от начала апреля 1885 года из Москвы значится: «Познакомился я здесь с Гротом-философом, он мне очень понравился – надеюсь не столько потому, что он разделяет мои взгляды». В письме к брату от 7 декабря 1886 г. Н. Я. Грот пишет: «Был я на-днях у Льва Толстого и проболтал о философии часа два», а в письме от 13 декабря: «Сегодня был у меня, но, к сожалению, не застал, Лев Толстой». В начале февраля 1887 г. Н. Я. Грот был выбран временным вице-председателем Психологического общества. В письме к брату К. Я. Гроту от 5 февраля он пишет, что готовит реферат о свободе воли к первой неделе поста, и добавляет: ,,Сегодня были в Румянцевском музее – вторично для осмотра – встретили там Льва Толстого, и я с ним час с лишком прогулял по бульварам и проспорил о «науке»“. 12 февраля Н. Я. Грот пишет матери: «Третьего дня вечер провел у Толстого. Застал его шьющим сапоги. Он мне читал одно свое рассуждение о бессмертии разума. Моя статья «о душе» на него повлияла – он сам говорит»… Через день, т. е. 14 февраля Н. Я. Грот пишет к родителям: «В четверг вечером у меня были Л. Н. Толстой, А. А. Фет и Гиляров, и я им читал свой реферат о свободе воли для Психологического общества. Толстому он очень понравился. Он просидел дольше всех с 7½ до 11 часов, и мы много болтали и спорили о частностях, ибо в общих положениях мы вполне согласны». В письме к брату от 18 февраля Н. Я. Грот сообщает о том же, а также добавляет: «Сегодня хочу сходить к Толстому» (очевидно, побеседовать перед предполагавшимся около 24 февраля докладом). 1 марта в письме к матери Н. Я. Грот уже рассказывает о состоявшемся в среду вечером заседании Психологического общества и чтении своего реферата. Присутствовал и Л. Н. Толстой. «Толстой сидел против меня, и его сочувственное присутствие меня очень ободряло», «прения продолжались от 10 до 12½ и назначено на будущий четверг еще заседание для прений и споров».230 О втором заседании Н. Я. Грот сообщает родителям в письме от 9 марта: «Бывшее в четверг заседание было очень интересно. Оно длилось от 8 до 12… Был и Толстой, стоявший зa мои основные положения… В пятницу он будет читать в Психологическом Обществе маленький реферат в дополнение к моему – Понятие жизни – и мы думаем после оба эти реферата напечатать вместе от Психологического Общества и в пользу философского журнала, могущего возникнуть в будущем…»231 Сам Толстой о первом заседании 25 февр. 1887 г. Московского Психологического Общества сообщает в письме к Н. Н. Страхову 26 февраля 1887 г.: «Вчера – вы удивитесь – я был в заседании психологического общества. Грот читал о свободе воли, я слушал дебаты и прекрасно провел вечер, не без поучительности и главное с большим сочувствием лицам общества. Я начинаю выучиваться не сердиться на заблуждения (Б, III, стр. 67).



