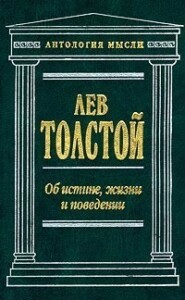 Полная версия
Полная версияОб истине, жизни и поведении
Вера не устанавливается большинством голосов. Тот, кто в большинстве голосов видит признак истинности веры, не знает того, что есть вера.
6Каждое общество, исходящее из положения, что «нет Бога», приходит к некоторым неожиданным результатам. Так как мировой порядок представляется такому обществу рядом случайностей и бесконечных обманов, то какие-нибудь единичные случайности или обманы не могут, конечно, уже никого удивить. И потому все те ужасы, которые совершаются в нашей жизни, уже никого не поражают и не удивляют. Все это вполне в порядке вещей.
Карлейль7Причина того бедственного положения, в которое впало наше общество, заключается в том, что люди высших классов живут без всякой веры, стараясь заменить отсутствие веры одни – лицемерием, притворяясь, что они еще верят во внешние религиозные формы, другие – смелым провозглашением своего неверия, третьи – утонченным скептицизмом, четвертые – признанием законности эгоизма и возведением его в религиозное учение.
Причина болезни – непринятие учения Христа в его истинном, т. е. полном, значении. Исцеление от болезни только в одном – в признании этого учения во всем его значении. А это признание в наше время не только возможно, но и необходимо.
Основная причина того зла, от которого страдают теперь люди, – это то, что у большинства людей нашего времени нет никакой веры.
11 ИЮЛЯ (Милосердие)
Истинное милосердие – только милосердие сильного, отдающего свои труды и усилия слабому.
1Подача милостыни только тогда доброе дело, когда то, что подается, есть произведение труда.
Пословица говорит: сухая рука прижимиста, потная рука торовата. Так и в «Учении 12 апостолов» сказано: пусть милостыня твоя потом выходит из руки твоей.
2Мощь дана человеку не для того, чтобы он давил слабого, а чтобы он поддерживал его и помогал ему.
Джон Рёскин3Всякое доброе дело есть милосердие. Дать воды жаждущему – это милосердие. Принять камни с дороги – это милосердие. Убеждать ближних, чтобы они были добродетельны, – милосердие. Указать страннику его путь – тоже милосердие. Улыбнуться, глядя в лицо ближнего, – милосердие.
Предание Мишкат (Магомет)4Всякому, просящему у тебя, давай и от взявшего у тебя не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
Лк. гл. 5, ст. 30—315То, что ты отдал, – твое, а то, что ты удержал, – потерянное.
Восточная мудрость6Хвалили человека, раздавшего все свое имение. «Меня не за что хвалить, – сказал этот человек, – я ничего еще не сделал. Я только, подойдя к реке, через которую мне надо переплыть, разделся, чтобы одежда не мешала мне. Дело в том, как я поплыву».
Если богатый человек будет истинно милосерд, он скоро перестанет быть богатым.
12 ИЮЛЯ (Единение)
Основание любви есть сознание каждым человеком единства духовного начала, живущего во всех людях.
1Все, что вносит единение между людьми, есть благо и красота; все, что их разъединяет, – зло и уродство. Все люди знают эту истину. Она запечатлена в нашем сердце.
2Какое ужасное страдание – знать, что я страдаю и лишаюсь жизни не от завала горы, не от бактерий, а от людей, от братьев, которые должны бы любить и которые вот ненавидят меня, если заставляют страдать! Это чувство подобно тому, которое должен испытывать самоубийца.
3Нет такого дурного дела, за которое был бы наказан только тот, кто его сделал. Мы не можем так уединиться, чтобы то зло, которое есть в нас, не распространялось. Наши дела, как наши дети: они живут и действуют независимо от нашей воли.
Джордж Элиот4Я до такой степени убежден, что человек все делает из собственной выгоды (понимая это слово надлежащим образом), что верю, что это так же необходимо для мировой жизни, как чувствительность для сохранения жизни тела. Наша «первопричина» так мудро сумела связать интересы одной части с интересами других, что мы не можем сделать себе истинного добра иначе, как сделав его ближнему.
Лихтенберг5Никто один не может достигнуть истины; только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем Великого Бога.
6Жизнь человека есть самодвижущийся круг, который из бесконечно малого расходится во все стороны, в новые и все большие круги, не имеющие конца.
Эмерсон7Всякое неподдельное благодеяние, всякая вполне и поистине бескорыстная помощь, имеющая, стало быть, в виду исключительно чужую нужду, оказывается, строго говоря, при исследовании дела до последних основ, поступком таинственным и необъяснимым, потому что вытекает из таинственного сознания единства всего существующего и не поддается никакому иному объяснению. В самом деле, подать хотя бы милостыню, не имея в виду, даже в отдаленных соображениях, ничего другого, как только уменьшить нужду, давящую другого, – возможно лишь потому, что подающий познает, что то, что является ему сейчас под видом того жалкого нищего, есть он же сам, потому что он узнает свое собственное существо само по себе в этом ином, чуждом явлении.
ШопенгауэрМы внешне отделены и внутренно связаны со всеми живыми существами.
Некоторые из колебаний духовного мира мы чувствуем, некоторые еще не дошли до нас, но они идут, как идут колебания света от звезд, еще не видимых для нашего глаза.
13 ИЮЛЯ (Устройство жизни)
Нельзя приводить существующий порядок в оправдание своих поступков. Существующий порядок не есть что-либо постоянное; он подлежит постоянному изменению, переходу от худшего к лучшему. И переход этот может совершиться только благодаря нашему несогласию с существующим устройством.
1Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва догадывалось, отчего ему так ловко жить, пока большинство, работая день и ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода работы – для других, и те и другие считали это естественным порядком, – мир антропофагии мог держаться. Люди часто принимают предрассудок, привычку за истину – и тогда она их не теснит. Но когда они однажды поняли, что их истина вздор, – дело кончено. Тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым.
Герцен2Все наши благотворительные учреждения, все наши карательные законы, все наши ограничения и запрещения, которыми мы стараемся предупредить и пресечь преступления – что такое они, в лучшем случае, как не выдумки дурака, который, взвалив весь груз в корзинку с одной стороны осла, решил помочь несчастному животному, навалив столько же камней в корзинку с другой его стороны?
Генри Джордж3Отвратительная бедность, кишащая в самых центрах нашей цивилизации, преступления, развращенность и хищничество, порождаемые ею, являются следствием наших законов о земле, не желающих знать простого закона справедливости, настолько простого и ясного, что его признают даже наиболее грубые из дикарей. То, что по самой природе своей является нашим правом от рождения, сделано исключительной собственностью некоторых лиц, и то, что в силу естественного закона должно бы быть общим фондом, из которого покрывались бы все наши общественные нужды, мы отдаем немногим людям, с тем чтобы они господствовали над своими собратиями. И вот одни обжираются, в то время как другие голодают, и средств расточается более, чем сколько нужно бы их было, чтобы содержать всех в роскоши.
Генри Джордж4Мудрое потребление гораздо труднее мудрого производства. Что двадцать человек с трудом произведут, то один легко может потребить, и вопрос жизни, как для каждого отдельного лица, так и для целого народа, состоит не в том, сколько он произведет, а в том, на что эти продукты тратятся.
Люди обыкновенно утверждают, что личная практическая деятельность бессильна сколько-нибудь повлиять на изменение или задержку обширной системы современной промышленности или способов производства и торговли.
Я же, вдумываясь в ту массу умных разговоров, которая входит в одно длинное ухо мира и выходит из другого, не производя ни малейшего впечатления на его ум, испытываю иногда непреодолимое желание попытаться весь остаток жизни употребить на то, чтобы молча делать то дело, которое я считаю разумным, и никогда ни о чем больше не говорить.
Джон Рёскин5Не должны ли мы стремиться к такому идеалу народной жизни, при котором возвышение по ступеням общественной лестницы будет не столько пленять, сколько страшить лучших людей?
Джон Рёскин6Мы очень много изучали и усовершенствовали в последнее время великое изобретение цивилизации – разделение труда; только мы даем ему ложное название. Правильно выражаясь, надо сказать: не работа разделена, но люди разделены на частицы людей, разломлены на маленькие кусочки, на крошки; так что та малая часть рассудка, которая оставлена в человеке, недостаточна, чтобы сделать целую булавку или целый гвоздь, и истощается на то, чтобы сделать кончик булавки или шляпку гвоздя. Правда, что хорошо и желательно делать много булавок в день; но если бы только мы могли видеть, каким песком мы полируем их – песком человеческой души, то мы бы подумали о том, что это тоже и невыгодно.
Можно заковывать, мучить людей, запрягать их, как скот, убивать, как летних мух, и все-таки такие люди в известном смысле, в самом лучшем смысле, могут оставаться свободными. Но давить в них бессмертные души, душить и превращать в гниющие обрубки младенческие ростки их человеческого разума, употреблять их мясо и кожу на ремни, для того чтобы двигать машинами, – вот в чем истинное рабство. Только это унижение и превращение человека в машину заставляет рабочих безумно, разрушительно и тщетно бороться за свободу, сущности которой они сами не понимают. Озлобление их против богатства и против господ вызвано не давлением голода, не уколами оскорбленной гордости (эти две причины производили свое действие всегда; но основы общества не были никогда так расшатаны, как теперь). Дело не в том, что люди дурно питаются, но в том, что они не испытывают удовольствия от той работы, посредством которой они добывают хлеб, и потому они смотрят на богатство как на единственное средство удовольствия.
Не в том дело, что люди страдают от презрения к ним высших классов, но в том, что они не могут переносить свое собственное к себе презрение за то, что чувствуют, что труд, к которому они приговорены, унизителен, развращает их, делает их чем-то меньше людей. Никогда высшие классы не проявляли столько любви и симпатии к низшим, как теперь, а между тем никогда они не были так ненавидимы ими.
Джон Рёскин7Если государство управляется на началах разума, то надо стыдиться, если есть бедность и нищета; если же государство управляется не на началах разума, то надо стыдиться богатства и почестей.
Китайская мудростьДля осуществления закона Бога, насколько он выяснен нам, нужно наше усилие, и усилие это делается людьми, и, как ни медленно, мы все-таки приближаемся к этому осуществлению.
14 ИЮЛЯ (Приближение Царства Божия)
Царство Божие есть осуществление среди людей закона Бога в той мере, в которой он открыт Им.
1Куда денется нищета, если каждый будет искать прежде всего Царствия Божия и правды Его? То есть если, добровольно покоряясь закону Бога, каждый будет стремиться к добросовестному исполнению обязанностей, налагаемых этим законом?
Нищета – дочь несправедливости, любостяжания, преступного презрения к священным обязанностям человечества, – столь общего и постоянного нарушения их, что мы, вследствие ужасающего помрачения нашей совести, привыкли даже считать нищету необходимым условием порядка жизни. Итак, да приидет Царствие Твое, Господи; да будет закон Твой законом обновления мира; да не будет нагота уделом трех четвертей человеческого рода; да будет мир не жилищем ожесточенных и вредящих друг другу врагов, а жилищем братьев, рвущихся друг к другу на помощь. Умножаясь ежедневно, да сплотятся сыны Божии для уничтожения зла, для низложения храма сатаны и для построения Твоего храма из его развалин.
Ламенэ2Тогда только можно будет с полным основанием сказать, что пришло к нам Царствие Божие, когда открыто признана будет необходимость перехода церковной веры во всеобщую разумную религию. Пусть полное осуществление этого царствия бесконечно удалено от нас; но в этом установлении всеобщей разумной религии вместо церковных вер, как в развивающемся и потом размножающемся зародыше, содержится уже все то, что должно просветить мир и овладеть им.
В жизни мира тысячи лет как один день. Мы должны терпеливо работать над этим осуществлением и ждать его.
Кант3Царство Божие на земле – это конечная цель и желание человечества («Да приидет царствие Твое»). Христос приблизил к нам это Царство, но люди не поняли его и воздвигли у нас царство попов, а не Царство Бога.
Кант4Приходит время, когда обрядовое, словесное богослужение, притягивающее людей к себе своей поэзией и благолепием, и насильническое общественное устройство, считающееся неизбежным условием жизни, будут вытеснены разумением о жизни человека. Приходит время Царства Небесного, Царства Бога на земле, когда сама жизнь наша в наших делах вся наполнится сознательным исполнением закона Бога.
Требуется одно главное, требуется понять религию в ее истинном значении: не в смысле колдовства и мороченья людей, а в смысле истинной науки, разумения о жизни человека, – понять так, чтобы под богослужением разуметь не что-нибудь таинственное, сверхъестественное, чего без попа, без благодати сделать нельзя, а понимать под богослужением любовь к Богу и ближнему, служение ближнему, деятельность на благо ближнего, на благо общее, – чтобы понимать под богослужением делание добра.
БукаЦарство Божие внутри вас есть. И потому ищите Царства Божия в себе, и остальное все сделается так, как только мы можем желать.
Недельное чтение
I. Устройство мира
Мир – это общество такое, каким оно было во времена Иисуса и каково оно в сущности и теперь, так как восемнадцать веков христианства не изменили его основ, а только смягчили их проявления. Несмотря на изменение внешних форм, это общество держится везде на силе и себялюбии.
Повелевают только потому, что имеют власть; угнетают, мучают потому, что повелевают для себя. Таков мир, и между миром и Иисусом вечная борьба, потому что то, чего хочет Иисус, прямо противоположно тому, чего хочет мир. Иисус хочет, чтобы люди были свободны, чтобы, будучи равными перед общим отцом, они были равны и друг перед другом, чтобы братская любовь соединила их в одну семью. Мир же хочет подчинения почти всех некоторым; хочет не братьев, но малых и великих, – малых, лишенных всяких прав, и великих, которым бы они принадлежали и которые располагали бы ими как хотят.
Иисус хочет, чтобы власть была служением; мир хочет, чтобы она была господством. Поэтому Иисус осуждает мир, и мир ненавидит Иисуса, и ненависть эта, распространяясь на учеников Иисуса, подвергает их гонениям от мира. Если бы мир терпел их, если бы между ним и ими была бы связь какая бы то ни было, они были бы учениками Иисуса, но изменниками его учению, соучастниками того, кто предал его поцелуем.
Итак, вы – те, которые хотите того, чего хотел Иисус, те, которых Он избрал для того, чтобы продолжать Его дело, будьте готовы к тому, что ожидает вас в мире; но знайте и то, что мир не будет сильнейшим до конца, а будет побежден, потому что та истина, которая должна победить, уже начинает светиться перед глазами всех, начинает шевелить все совести, и мир тщетно старается убить ее, как он убил Иисуса. Времена приближаются, глухой ропот предвещает освобождение; со всех сторон слышен треск разрывающихся цепей; сильные смущены – чувствуют, что они слабеют; слабые же поднимают голову. Должна произойти последняя битва. Пусть всякий твердо стоит в этой битве, решающей вопрос о том, будет ли человечество освобождено Христом по Его обещанию или вечно будет рабом сынов того, кто был человекоубийцей от начала.
ЛаменэII. Отношение первых Христиан к войне
«Безумствует мир во взаимном кровопролитии, и убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, именуется добродетелью, если делается скопищем». Так писал в третьем веке знаменитый Киприан, говоря про воинство.
Так же относилась к войне и вся христианская община первых веков до пятого века. Христианская община определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне.
Перешедший в христианство во втором веке философ Татиан считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как и всякое убийство, и почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афинагор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах.
В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим «воинственным» народам «мирное племя христиан». Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген. Прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на серпы и копья на плуги, он совершенно определенно говорит: «Мы не поднимаем оружия ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира». Отвечая на обвинение Цельзом христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так что, по мнению Цельза, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет, Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, что совершенно справедливо, говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал.
Так же решительно высказывается и Тертуллиан, современник Оригена, о невозможности христианину быть военным. «Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола, – говорит он про военную службу, – крепости света и крепости тьмы; не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться мечом, когда Господь сказал, что каждый, взявшийся за меч, от меча погибнет? И как будет участвовать в сражении Сын мира?»
В четвертом веке Лактанций говорит то же. «Не должно быть никакого исключения в заповеди Божьей, что убить человека всегда грех, – говорит он. – Носить оружие христианам не дозволено, ибо их оружие – только истина». В правилах египетской церкви третьего века и в так называемом «Завещании господа нашего Иисуса Христа», безусловно, запрещено всякому христианину поступать на военную службу под страхом отлучения от церкви.
В «Деяниях святых» много примеров христианских мучеников первых веков, пострадавших за отказ продолжать службу в римских легионах.
Так, Максимилиан, приведенный в присутствие по отбыванию воинской повинности, на первый вопрос проконсула о том, как его зовут, отвечал: «Мое имя христианин, и потому я сражаться не могу». Несмотря на это заявление, его зачисляли в солдаты, но он отказался от службы. Ему было объявлено, что он должен выбрать между отбыванием воинской повинности и смертью. Он сказал: «Лучше умру, но не могу сражаться». Его отдали палачам.
Марцеллий был сотником в Троянском легионе. Поверив в учение Христа и убедившись в том, что война – нехристианское дело, он в виду всего легиона снял с себя военные доспехи, бросил их на землю и объявил, что, став христианином, он более служить не может. Его посадили в тюрьму, но он и там говорил: «Нельзя христианину носить оружие». Его казнили.
Вслед за Марцеллием отказался от военной службы служивший в том же легионе Касьян. Его также казнили.
При Юлиане Отступнике отказался продолжать военную службу Мартын, воспитавшийся и выросший в военной среде. На допросе, сделанном ему императором, он сказал только: «Я – христианин и потому не могу сражаться».
Первый вселенский собор (325 г.) ясно определил строгую эпитимию за вторичное поступление в войска христиан, оставивших службу. Подлинные слова этого постановления в переводе, признанном православною церковью, таковы:
«Благодатию призванные к исповедыванию веры и первый порыв ревности явившие и отложившие воинские поясы, но потом, аки псы, на свою блевотину возвратившиеся… таковые 10 лет да припадают к церкви, прося прощения, по трилетнем слушании Писания в притворе».
Оставшимся в войсках христианам вменялось в обязанность во время войны не убивать врагов. Еще в четвертом веке Василий Великий рекомендует в течение трех лет не допускать до причащения солдат, виновных в нарушении этого постановления.
Таким образом, не только в первые три века христианства, во время гонений на христиан, но и в первые времена торжества христианства над язычеством, когда христианство было признано господствующей, государственной религией, в среде христиан еще держалось убеждение, что война несовместима с христианством. Ферруций высказал это определенно и решительно (и был за это казнен):
«Не дозволено христианам проливать кровь, даже в справедливой войне и по приказу христианских государей».
В четвертом веке Люцифер, епископ Кальярский, учит, что даже самое дорогое для христиан благо – свою веру – они должны защищать «не убийством других, а собственной смертью». Павлин, епископ Ноланский, умерший в 431 году, еще грозил вечными муками за службу кесарю с оружием в руках.
Таков был взгляд христиан первых четырех веков на отношение христианства к военной службе.
(Составлено по книгам: барона Таубе «Христианство и международный мир» и Руинарта «Деяния первых мучеников».)[25]
III. Письмо крестьянина Ольховика, отказавшегося от военной службы
«1895 года октября 15 дня я был призван к отбыванию воинской повинности. Когда пришла очередь мне тянуть жребий, я сказал, что жребия тянуть не буду. Чиновники посмотрели на меня, потом поговорили друг с другом и спросили меня, почему я не буду тянуть.
Я отвечал, что это потому, что я ни присягать, ни ружья брать не буду.
Они сказали, что это дело будет после, а жребий тянуть надо.
Я опять отказался. Тогда велели тянуть старосте жребий. Староста вытянул; оказался № 674. Записали.
Входит воинский начальник, вызывает меня в канцелярию и спрашивает: «Кто тебя всему этому научил, что ты не хочешь присягать?»
Я отвечал: «Сам научился, читая Евангелие».
Он говорит: «Не думаю, чтобы ты сам понял так Евангелие; ведь там все непонятно; чтобы понимать, для этого надо много учиться».
На это я сказал, что Христос учил не мудрости, потому что самые простые неграмотные люди и те понимали его учение.
Тогда он сказал солдату, чтобы отправил меня в команду. С солдатом мы пошли в кухню, там пообедали.
После обеда стали спрашивать меня, почему не присягал.
Я сказал: «Потому что в Евангелии сказано: не клянись вовсе».
Они удивились; потом спросили: «Да разве это есть в Евангелии? А ну найди».
Я нашел, прочитал; они послушали.
«Хотя и есть, а все-таки нельзя не присягать, потому что замучат».
Я сказал на это: «Кто погубит земную жизнь, тот наследует жизнь вечную».
20 числа меня поставили в ряд с другими молодыми солдатами и рассказали нам солдатские правила. Я им сказал, что я ничего этого делать не буду. Они спросили: «Почему?»
Я сказал: «Потому что, как христианин, не буду носить оружия и защищаться от врагов, потому что Христос велел любить и врагов».
Они сказали: «Да разве только ты один христианин? Ведь мы же вот христиане».
Я сказал: «Про других я ничего не знаю, знаю только про себя, что Христос говорил делать то, что я делаю».
Он опять сказал: «Если ты не будешь заниматься, то я тебя сгною в тюрьме».
На это я сказал: «Что хотите, то и делайте со мной, а служить я не буду».
Сегодня смотрела комиссия. Генерал говорил офицерам: «Какие убеждения находит этот молокосос, что отказывается от службы! Какие-нибудь миллионы служат, а он один отказывается. Его выпороть хорошенько розгами, тогда он оставит свои убеждения».
Ольховика арестовали и сослали в Якутскую область.
15 ИЮЛЯ (Слияние своей воли с волей Бога)
Телесная жизнь моя подлежит страданиям и смерти, и никакие усилия мои не могут избавить меня ни от страданий, ни от смерти. Духовная же жизнь моя не подлежит ни страданиям, ни смерти. И потому спасение мое от страданий и смерти только в одном: в перенесении моего сознания в свое духовное «я».
1Есть два способа познания внешнего мира.
Один – самый грубый и неизбежный – способ познавания пятью чувствами. Если бы этот способ познания был один, то из этого способа познания не сложился бы в нас тот мир, который мы знаем, а был бы бессмысленный хаос.



