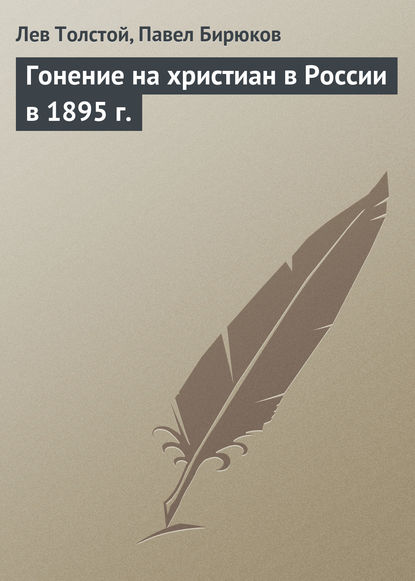 Полная версия
Полная версияГонение на христиан в России в 1895 г.
Ни одно гонение невинных людей не кончается без того, чтобы люди из гонителей не переходили к убеждениям гонимых, как это было с воином Симеоном, истребившим павликиан и потом перешедшим в их веру. Чем мягче будет правительство к людям, исповедующим истинное христианство, тем быстрее количество истинных христиан будет увеличиваться. Чем жесточе будет правительство, тем быстрее количество людей, служащих правительству, будет уменьшаться. Так что мягко или жестоко будет поступать правительство с людьми, в жизни исповедующими христианство, оно всячески будет само содействовать своему уничтожению. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин. XII, 31). И суд этот совершился 1800 лет тому назад, то есть тогда, когда на место истины внешней справедливости поставлена была истина любви. Сколько бы ни набрасывали на горящую кучу хвороста дров, думая этим затушить огонь, – огонь, непотухающий огонь истины, только на время приглохнет, но разгорится еще сильнее и сожжет всё то, что наложено на него.
Ведь если бы и случилось то, что некоторые борцы за истину, как это и бывало всегда, ослабели в своей борьбе и исполнили бы требования правительства, то ведь это ни на волос не изменило бы положения. Нынче сдались бы духоборы на Кавказе, не выдержав тех страданий, которым подвергают их дедов, бабок, жен и детей, завтра с новой силой выступили бы новые борцы, готовые со всех сторон и всё смелее и смелее заявляющие свои требования и всё менее и менее способные сдаваться. Ведь истина не может перестать быть истиной оттого, что под гнетом мучений ослабевают люди, свидетельствующие ее. Божеское должно победить человеческое.
«Но что же будет, если правительство уничтожится?» – слышу я вопрос, который всегда ставят сторонники власти, предполагая, что если не будет того, что есть теперь, то уже ничего не будет и всё погибнет. Ответ на этот вопрос всегда один и тот же. Будет то, что должно быть, что угодно богу, что согласно с его вложенным нам в сердца и открытым нашему разуму законом. Если бы правительство уничтожилось потому, что мы, как это делали революционеры, уничтожили его, то понятно, что вопрос о том, что будет после того, когда уничтожится правительство, требовал бы ответа от тех, кто уничтожает правительство. Но то уничтожение правительства, которое происходит теперь, происходит не потому, что кто-то, какие-нибудь люди по своей воле захотели уничтожить его: оно уничтожается потому, что несогласно с волей бога, открытой нашему разуму и вложенной в наши сердца. Человек, отказывающийся сажать братьев в тюрьмы и убивать их, не имеет никаких видов на уничтожение правительства; он только хочет не делать противного воле бога, не делать того, что не только он, но все люди, вышедшие из зверского состояния, несомненно признают злом. Если же при этом уничтожается правительство, то это означает только то, что правительство требует противного воле бога, то есть зла, и что потому правительство есть зло и потому должно уничтожиться. Изменение, совершающееся в наше время в общественной жизни народов, хотя мы и не можем вполне представить себе ту форму, которую оно примет, не может быть дурно, потому что изменение это происходит и произойдет не по произволу людей, а по внутреннему общему всем людям требованию божественного начала, вложенного в сердца людей. Происходят роды, и вся деятельность наша должна быть направлена не на противодействие, а на содействие им. Содействие же это достигается никак не отступлением от открытой нам божеской истины, а, напротив, явным и бесстрашным исповеданием ее. И такое исповедание истины дает не только полное удовлетворение совести тем, кто исповедует истину, но и наибольшее благо людям, как насилуемым, так и насилующим. Спасение не назади, а впереди.
Момент кризиса изменения общественной формы жизни и замены насильственного правительства другой, связующей людей силой, уже пришел. И выход из него уже никак не в остановке процесса или в обратном движении, но только в движении вперед по тому пути, который в сердце людей указывает им закон Христа.
Еще одно небольшое усилие, и галилеянин победит, но не в том ужасном смысле, в котором приписывал ему победу языческий царь, а в том истинном смысле, в котором он про себя сказал, что победил мир: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, – сказал он, – я победил мир» (Ин. XVI, 32), потому что он действительно победил мир, не в том мистическом смысле невидимой победы над грехом, который приписывают богословы этим словам, а в том простом, ясном и понятном смысле, что если только мы будем мужаться и смело исповедывать его, то очень скоро не будет не только тех страшных гонений, которые совершаются над всеми истинными учениками Христа, исповедующими его учение на деле, но не будет ни тюрем, ни виселиц, ни войн, ни разврата, ни роскоши, ни праздности, ни задавленной трудом нищеты, от которых теперь стонет христианское человечество.
Лев Толстой.19 сентября 1895 г.Вопросы Л. Н. Толстого духобору. Публикация, подготовка текста и комментарий О. А. Голиненко
В середине 90-х годов Л. Н. Толстой познакомился с духоборами. Сначала это знакомство было заочным – по переписке, а потом и личное. Толстой неоднократно встречался с руководителем общины П. В. Веригиным и другими духоборами. Он с волнением следил за трагическими событиями, происходившими в это время на Кавказе – за отказ от несения воинской службы духоборы жестоко преследовались правительством. В феврале 1897 года они наконец получили разрешение переселиться из России за границу и обратились к Толстому за помощью. «Переселение духоборов поглощает теперь все мое внимание», – сообщал он И. М. Трегубову (71.338). Толстой обратился с письмами к частным лицам и в русские и иностранные газеты, призывая оказать духоборам помощь выбором места для их переселения и «собиранием денежных средств для осуществления самого переселения» (71.316). Сам же Толстой, уже отказавшись к этому времени от гонораров за публикацию своих сочинений, решает отступить от этого правила. Гонорар за роман «Воскресение», изданный в России и за границей, он передает в помощь духоборам. С неизменным восхищением он отзывался о духоборах, называя их «людьми 25 столетия» (71.497).
В отделе рукописей ГМТ хранится небольшое число разрозненных и неатрибутированных записей Л. Н. Толстого. Они не были включены в 90-томное собрание сочинений и неизвестны исследователям. Работа с ними ведется много лет. Э. Е. Зайденшнур и И. А. Покровской было подготовлено несколько публикаций. Мною для атрибуции был выбран план, составленный Толстым для неизвестного автора (духобора), который должен был описать жизнь духоборческой общины, придерживаясь намеченных Толстым пунктов:
«1) Состав семейства, место жительства. Имена.
2) Детство. О том как жили прежде.
3) Процесс за дом. Как начинался.
4) Смерть Калмыковой. Как ее место заступил Веригин.
5) Прежняя жизнь Веригина.
6) Обновление. Как перестали пить, курить…
7) Как делили деньги. Все ли или одни Горийские? Как можно подробнее об этом.
8) Как делили скот.
9) Ссылка стариков и Веригина. Когда?
10) Как решили отказаться от военной службы.
11) Сожжение оружия (менее подробно, известно). Екзекуция, сечение, изнасилование (подробно).
12) Высылка, раззорение.
13) Отказ рекрутов.
14) Отказ билетных.
15) Дисциплинарный батальон.
16) Тюрьма Горийская и Тифлисская.
17) Пересылка в Сибирь.
Все более (биограф.) о том, что сам видел; в чем сам участвовал».
Запись эта была сделана на свободной странице письма И. М. Виноградова, дворника матери В. Г. Черткова, к Толстому от 8-12 октября 1898 года. Дата на письме позволила предположить, что план был составлен Толстым осенью 1898 года, возможно, во второй половине октября, и вести дальнейший поиск более целенаправленно (определив хронологические рамки так: октябрь 1898 г. – 1899 год). Предстояло установить, для кого из духоборов был составлен план и воспользовался ли им автор.
Просматривая публикации документов и статей о духоборах, я обратила внимание на небольшую книгу: «Рассказ духобора Васи Позднякова. С приложением документов об избиении и изнасиловании духоборческих женщин казаками». Она напечатана в 1901 году в Лондоне под редакцией и с предисловием В. Д. Бонч-Бруевича, в издании В. Г. Черткова «Свободное слово», серия «Материалы к истории и изучению русского сектантства». В конце рассказа Позднякова стояла авторская дата – 1898 г. Кроме того, Поздняков оказался автором еще нескольких очерков: «Правда о духоборах. Жизнь духоборов в Закавказье и в Сибири», «Жизнь духоборов в Канаде», опубликованных в «Ежемесячном журнале литературы, науки и общественной жизни» за 1914 год в No№ 6, 7, 8, 9, 10. Публикация в № 7 открывается воспоминаниями В. Позднякова о поездке в октябре 1898 года к Толстому. «Я тогда, – писал он, – на лошадях доехал до города Тобольска и дальше на лошадях до города Тюменя, где сел на поезд и приехал в Ясную Поляну. Побыл 4 сутки у Л. Н. Толстого». К этому тексту А. К. Черткова дает следующее примечание: «За это-то время им был написан «Рассказ Васи Позднякова» (об экзекуциях над духоборами в 1895 г.), изданный нами в Англии в 1901 году».
Василий Николаевич Поздняков, духобор, за отказ от воинской службы был сослан в 1895 г. в Якутскую область. Осенью 1898 г. он самовольно уехал в Обдорск Тобольской губ., к сосланному П. В. Веригину. Повидавшись с ним и получив от него письма к Толстому и кавказским духоборам, отправился на Кавказ, с заездом в Ясную Поляну. На обратном пути он второй раз посетил Толстого. После встречи с Поздняковым Толстой писал 1 ноября 1898 г. В. Г. Черткову: «Очень меня радостно поразил тот человек про которого вам расскажет Арчер. Боюсь и здесь написать его фамилию, как бы не попало каким-нибудь необычайным случаем врагам и не повредило ему. Какая удивительная ясность сознания мысли и чувства, и при этом и выдержка, и энергия, и, сверх всего, внешняя привлекательность… Страшно боюсь за него, хотя он один из тех людей, которые сами ничего не боятся. Вот такое нужно общество, где вырабатываются такие люди. И общество это есть» (88.140).
Но ни в дневниках, ни в письмах Толстого не удалось найти даже косвенных упоминаний о работе над рассказом. Просмотрела я и письма к Толстому от В. Д. Бонч-Бруевича и В. Г. и А. К. Чертковых, редактора и издателей книги Позднякова. Но и в этих письмах соблюдалась строгая конспирация, имен почти не называлось, письма старались посылать с оказией, через надежных людей. И все же письмо В. Д. Бонч-Бруевича от 18 октября (по нов. стилю) 1898 года представляет интерес для нашего сюжета.
Дело в том, что в начале сентября 1898 года В. Д. Бонч-Бруевич по приглашению Чертковых переехал из Швейцарии в Англию. Они просили его помочь наладить издание «Свободное слово» и «Листков Свободного слова». Сам В. Д. Бонч-Бруевич к этому времени серьезно занимается изучением сектантского движения, его историей. Религиозно-общественное движение в России его особенно интересует. В большом письме к Толстому 18 октября 1898 года он рассказывает о предстоящей работе у Чертковых, сообщает, что настаивает на скорейшей публикации материалов по сектантскому движению, собранных Чертковыми, и просит Толстого помочь в сборе сведений о правительственных гонениях на сектантов в России. «Пишу все это Вам потому, что думаю, что Вы сочувственно отнесетесь ко всему этому, и я уверен, что если Вы только захотите, то можете очень много сделать для этого дела», – писал он (ГМТ). Надо сказать, что и в плане, составленном Толстым, отводится значительное место рассказу о тех преследованиях, гонениях, истязаниях, которые терпели духоборы от правительства. Это обстоятельство навело меня на мысль провести сверку двух текстов, точнее – сопоставить тексты и попытаться таким путем установить, является ли текст рассказа или его фрагменты ответом на пункты, намеченные Толстым. Сверка показала, что автор явно не укладывался в план, ему предложенный, часто его повествование ведется не в той последовательности, которая была намечена Толстым, но по существу содержания рассказа – это ответы на пункты толстовского плана. Отдельные места можно считать прямым ответом на намеченные вопросы. Приведу несколько примеров.
Толстой предлагает автору начать рассказ с краткого описания своей семьи. Известно, что сам он неоднократно именно так начинал свои сочинения автобиографического характера («Моя жизнь» – 23, 469; «Исповедь» – 23, 488 и др.), считая, что эти сведения не случайны и сообщают важное об авторе. У Толстого: «1) Состав семейства, место жительства. Имена». Рассказ начинается так: «Я родом из деревни Богдановки, Тифлисской губ. Ахалкалакского уезда, из духоборческой семьи, которая живет в Закавказье с тех пор, как духоборцы были выселены туда Николаем первым за их веру. В нашем семействе двадцать душ: отец, мать, незамужняя сестра, три женатых брата, с детьми, – в том числе и я – и один брат холостой». Далее Толстой предлагает описать: «Детство. О том как жили прежде». Автор продолжает свой рассказ: «Учение духоборцев издавна было таково, каково мы теперь исповедуем. В прежнее время оно исполнялось строго: тогда у духоборцев все было общее, они жили по братски, на военную службу не ходили, вина не пили, не курили, мяса не ели. Но на моей памяти было время, когда многие братья, разбогатевши стали отступать от исполнения прежняго исконного учения нашего». У Толстого: «4) Смерть Калмыковой. Как ее место заступил Веригин». В рассказе В. Позднякова: «Лукерье Калмыковой в то время было уже около 50-ти лет. Так как ей одной трудно было распоряжаться общественным имуществом и вести все это сложное дело, то еще при ее жизни, по ее и общему согласию, на помощь ей избрали молодого духоборца Петра Веригина с тем, чтобы он подробно узнал дело и по смерти Калмыковой остался бы заведовать общественным добром. Веригину было в то время лет 22 или 23. Он при жизни Калмыковой лет пять усердно и добросовестно помогал ей во всем и за это его очень любили. После этих пяти лет Калмыкова умерла и, согласно обычаю духоборцев, не оставила после своей смерти ни духовного завещания, ни каких бы то ни было бумаг, кроме векселей на банк….Вскоре после смерти Калмыковой был съезд хозяев, на котором решили на место Калмыковой выбрать Петра Веригина». И последний пример. У Толстого: «9) Ссылка стариков и Веригина. Когда?» В. Поздняков, рассказывая о борьбе внутри общины за лидерство, о ссылке Веригина пишет так: «Но так как общество его Веригина не отпустило, то Зубков вместе с Губановым и Ахалкалакским начальством начали стараться сослать его в Сибирь, обвинивши его в подстрекательстве к бунту. Дело Веригина началось в 1887 году. По окончании его он был сослан в Колу Архангельской губернии».
Результаты сверки и свидетельство А. К. Чертковой дают основание утверждать, что план был составлен Толстым для духобора В. Позднякова. Возможно, это было связано с тем, что В. Позднякову предстояло в короткое время (за четыре дня) описать жизнь духоборческой общины в один из очень сложных и трагических периодов ее существования: внутреннего раскола, борьбы за лидерство и соблюдение первоначальных принципов, преследований со стороны правительства, сопровождавшихся жестокостью, ссылкой части духоборов в Сибирь. Искренний, достоверный рассказ В. Позднякова о событиях, реально происходивших в 80-90-е годы, является важным историческим документом, что было отмечено еще В. Д. Бонч-Бруевичем в его предисловии к публикации 1901 года. Но там же он обратил внимание на то, что В. Поздняков «совершенно умалчивает о несомненном влиянии руководителя П. В. Веригина на все поступки и решения духоборческого общества». Вместе с тем В. Поздняков оставил без ответа и предложенный Толстым вопрос: «5) Прежняя жизнь Веригина». Это не случайное недоразумение. Об этом свидетельствуют очерки В. Позднякова, в которых описывается жизнь духоборов в 90-900-е годы в России и в Канаде. Дело в том, что о противоречиях, несогласии, сложностях жизни духоборческой общины, о которых рассказывает В. Поздняков, в 900-е годы стало известно и Толстому. Об этом писали духоборы, и он неоднократно высказывал свое отношение к происходящему. Под впечатлением одного из таких известий он не без горечи заметил: «Духоборцы, тысяча человек, до сорока лет, отлучаются от семейств и идут на заработки. Каждому приходит вопрос: для чего? Чтобы были паровые плуги, престиж… Веригину выстроили комфортабельный дом, имеет слуг. Деспотическое правление… Все это распадается» (30 августа 1905 г. ЯЗ, т. 1, с. 390).
В настоящую публикацию включен фрагмент из очерка В. Позднякова «Правда о духоборах в Закавказье и в Сибири», написанного в 1900-е годы и опубликованного (как уже говорилось) В. Г. и А. К. Чертковыми в 1914 году.
«Мы в этом своем описании, – пишет Василий Поздняков, – имеем целью разъяснить внутреннюю сторону жизни духоборов, которую еще никто из посторонних людей не мог описать, а потому мы наружную сторону, которая уже описана, не пишем подробно, а берем только некоторые пункты, которые необходимы для разъяснения.
О жизни духоборов в Сибири нам еще не приходилось читать описания, а потому мы опишем здесь хотя бы вкратце».
…Сибирскими духоборами мы называем тех духоборов, в которых еще в 1893 и 1894 годах возродилось сознание от слова и примера Христова, в том, что все люди одного Отца дети, а между собою братья, следовательно, должны и жить по-братски, любить и уважать друг друга; а вредить или насиловать друг друга это есть преступление против Бога и совести, а тем более лишать жизни человека. Всякий, убивающий человека, уподобляется Каину, первому братоубийце. Этот вопрос особенно глубоко затронул людей, входящих в состав военной службы. Всем было понятно слово: «Взявший меч от меча и погибнет». Всякую войну они считали делом греховным, но от военной службы в то время они еще не отказывались.
Петр Васильевич Веригин, в то время в ссылке в Архангельской губернии, познакомился с учением Льва Николаевича Толстого об отрицании военной службы, с чем согласился сам и передал всем духоборам, чтобы отказывались от военной службы, а потому число желающих отказаться от службы сразу умножилось: почти все духоборы, состоявшие на действительной службе и в запасе армии и в ополчении, единогласно дали обещания более не служить. По наружности казалось, что все они единомысленные, но внутренними стремлениями они разделялись на две партии: одни из них хотели отказаться от убийства потому, что они сами сознавали, что убийство противно закону любви и совести. Они укрепляли свои убеждения учением Христа и заповедью: «не убий». Они решили лучше помереть за отказ от убийства, чем идти убивать других и самому быть убитому на поле битвы. А вторые хотели отказаться от службы для того, чтобы исполнить приказание Веригина и надеялись, что Веригин сохранит их во время страданий, ожидаемых со стороны правительства.
В 1895 году сознание настолько выросло, что многие начали действовать самостоятельно; заявили правительству, что более не будут убивать никого из людей, потому что считают всех братьями. Находящиеся на действительной службе сдали имеющееся у них оружие, а состоящие в запасе и в ополчении сдали военные билеты. Правительству такое неожиданное явление показалось слишком преступным, а потому оно приняло самые строгие меры, чтобы подавить движение. Сдавших оружие сначала заключили в военную тюрьму и назначили военный суд. Сдавших военные билеты начали карать вместе с семействами: наслали на них самовольных казаков, которые производили самые бесчеловеческие издевательства, о чем подробно сказано в моем рассказе в 1898 году. Я был в числе запасных и вместе с другими был наказан тремя стами ударов казацких плетей, после чего пролежал 20 дней под строгим арестом без медицинской помощи; никого не допускали и ничего не давали кроме хлеба и воды. По выздоровлении снова был призван для повторения военной службы и за непринятие оружия был заключен в тюрьму, где был три года, а потом был выслан в Сибирь, в Якутскую область, на 13 лет. Сдавших оружие военный суд приговорил в дисциплинарный батальон, где с первого дня началась кровавая расправа. Хотя многие приготовились помереть, но сразу умереть им не пришлось. Их наказывали розгами. Розги были приготовлены из колючих ветвей акации, так что при ударах колючки оставались в теле. На второй и третий день приходилось вытаскивать колючки друг другу из смешанного с кровью тела. Наказанных розгами бросали в холодный темный карцер; через сутки опять требовали исполнения военных обязанностей и за отказ снова били по израненному телу. Так продолжалось долго и конца не было видно этим мукам. Кроме того пришлось голодать. С общего котла не пользовались, потому что не ели мяса. Кроме мяса ничего не давали. Хлеба давали очень мало. Все крайне истощали физически, многие заболели, но доктор в больницу не принимал, принуждая есть мясо. Священник требовал исполнения церковных обрядов и потому в церковь гнали взводные прикладами и кулаками. Положение было невыносимо, так что те, которые делали это бессознательно, по научению Веригина, не могли переносить такого мучения. При первом испытании многие отреклись от начатого дела. А те, которые сознали сами и оценили, те остаются непоколебимыми и до сего времени. Положение их изменилось тем, что их выслали в Сибирь в Якутскую область на 18 лет. Их отправили в путь еще зимою. В то время в Сибири железная дорога только еще строилась, а потому им пришлось идти более пешком до Александровской тюрьмы Иркутской губернии, откуда их отправили на лошадях до реки Лены. Там посадили их на паузки и отправили в Якутск. На всем пути их задерживали в каждой пересылочной тюрьме, а потому они прибыли в город Якутск осенью 12-го сентября. И в Якутске правительство встретило их не лучше дисциплинарного батальона.
Назначили им местожительство в расстоянии 600 верст от города Якутска, в лесной пустыне, где живут только дикари якуты и тунгусы, в разброску один от другого верст на 20 и на 30. Хлеба они совсем не едят, – питаются мясом и рыбой.
У сосланных духоборов денег было около 10 рублей на человека, и за эти деньги им надо было завести зимнюю одежду и кормиться. Они распределили деньги на двое: купили для нескольких человек зимнюю одежду, а остальные деньги оставили на покупку хлеба. Якутский губернатор назначил чиновника для сопровождения духоборов на место. Они местами шли пешком, а кое-где ехали на обывательских лошадях. Так прошли 200 верст до села Амга, где находилась ближайшая к назначенному духоборам месту почтовая станция, а далее Амги ехать на подводах было невозможно. Дороги не было, а потому им там пришлось ехать верхом на быках, а большую часть идти пешком 200 верст до реки Алдана, на берегу которой есть небольшое скопческое село – «Чаран» по-якутски, там они на остальные деньги купили себе несколько мешков муки, крупы и картошки и на лодках спустились вниз по Алдану 200 верст, остановились в устье реки Ноторы, сошли на берег, где не было никого кроме их. Только 4 версты от Алдана, вверх по реке Ноторе стояла брошенная якутами юрта. За юрту духоборы должны были заплатить 10 рублей и заплатили. Чиновник, указывая духоборам юрту, говорит: «в этой юрте вы должны жить. Да чтобы никто не имел право самовольно отлучаться». За отлучку угрожало строгое наказание. Чиновник собрал живших в том округе якутов и строго приказал им следить за духоборами. Сам чиновник уехал назад. Он приказал уряднику, чтобы тот каждый месяц приезжал для проверки духоборов.
Наступила холодная якутская зима. Реки замерзли. Духоборы уже по снегу кое-как сделали в юрте русскую печь для печения хлеба. Муку и другие продукты они распределили так, чтобы вволю не наедаться, а есть по столько, лишь бы не помереть с голоду. В юрте было настолько холодно, что все стены и крыша были обмерзшие льдом. Зимней же одежды у них для всех не хватило, а потому им приходилось попеременно одевать теплую одежду, чтобы согреться и приготовить дров для отопления. В Якутске зимой почти что бесконечная ночь, освещения у них не было, а спать им не давал холод. То они делали так: так половина людей, которые одевались в теплую одежду, ложились спать, а которым не хватало одежды, те бегали в потьмах по юрте и таким путем обогревались попеременно.
Как они не старались беречь хлеб, а все-таки еще не прошло половины зимы, а хлеба у них осталось совсем мало. Им грозила холодная и голодная смерть. Приезжал для проверки их урядник. Они заявили ему, что хлеб у них кончается и что они будут искать себе пропитание. А урядник говорит: «Это не мое дело. Пишите просьбу губернатору, чтобы разрешил вам на заработки, а я только должен проверить вас». Они написали и послали с урядником, но ответ не мог прийти ближе двух месяцев. Якуты тоже следят, чтобы не ушли духоборы. Положение было безвыходное. Они решили, несмотря на угрозы чиновника и надзор якутов, достать себе пропитание. Они выбрали из среды своей каких поздоровей людей столько, на сколько хватало теплой одежды. Те пустились в путь по направлению к скопческому селу, 200 верст, где они раньше купили муку и другие продукты. Погода была в то время очень холодная и туманная и был очень глубокий снег. Дороги они не знали, а к тому же они были крайне истощены физически и потому этот путь им был на столько затруднительный, что они уже не надеялись живыми добраться до села. К счастью им попадались кое-где на пути якуты и тунгусы, где они понемного обогревались. Прийдя в село, они просили работы от жителей, скопцов, но работы было не вдостачу, а потому цены ими назначались ниже обыкновенных цен. Они нанимались в лесу пилить дрова и молотить хлеб на ледяных токах. Вырабатывали они по 30 и 40 коп. в день и тем кормились сами и поддерживали жизнь своих товарищей, отправив им необходимые продукты и одежду.

