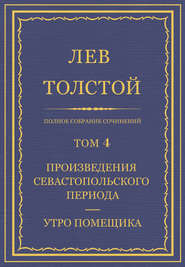 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Полное собрание сочинений. Том 4. Произведения Севастопольского периода. Утро помещика
– Да ужъ я тебе говорю, что можетъ: на это законъ. – Онъ подписываетъ мнѣ, положимъ, 3-ю легкую отправить на поправку, а 7-ю легкую оставить на позиціи, я и пишу ему: «На основаніи предписанія В[ашего] П[ревосходительств]а имѣю честь донести, что такъ какъ 7-я легкая находясь тамъ то, сдѣлавъ такіе то и такіе то походы, пришла въ разстройство, а 3-я легкая находилась на мѣсте, я предписалъ во исполненіе предписанія В[ашего] П[ревосходительства] 4-ой легкой заступить мѣсто 7-ой легкой, а 3-й легкой остаться на прежней позиціи». Нумеръ и число и баста.
– Хорошо я пишу, – говоритъ старшій братъ, – что «такъ какъ Вашему Превосходительству неизвѣстны распредѣленія артиллеріи, то и считаю неумѣстнымъ вмѣшательство Вашего Превосходительства и предлагаю исполнить въ точности предписаніе отъ такого числа за № такимъ то». Ну, что ты говоришь?
– Да такъ. Ну ты, вѣдь уже все говоришь по своему —
– Да такъ, – говоритъ старшій братъ и, нахмуривая брови, съ самодовольнымъ смѣхомъ и стуча по столу, говоритъ: – а ежели ты предписаніе мое не исполнишь, то пишу… И снова, не запинаясь, диктуетъ выговоръ. Не былъ, братецъ, и не служилъ въ штабѣ. Коли Старшій А[дъютантъ] не дуракъ, такъ Н[ачальникъ] Д[ивизіи] пѣшка. Младшій братъ стучитъ кулакомъ по столу и диктуетъ еще бумагу. И такъ продолжается разговоръ часа 2, до тѣхъ поръ, пока оба брата вспотѣютъ и охрипнутъ. —
Бѣлоноговъ любитъ Царя и Россію, но страннымъ образомъ: онъ безъ слезъ не можетъ говоритъ о Царскомъ смотрѣ и юбилеѣ Михаила Павловича и Исакьевскомъ Соборѣ, но солдатъ и мужикъ въ его глазахъ скотъ, презрѣнное созданіе. Онъ честенъ, не затаитъ чужихъ денегъ, не будетъ унижаться ни передъ кѣмъ, но брать съ казны все, что можетъ, и сносить всякаго рода оскорбленія отъ старшаго онъ считаетъ своей обязанностью. Онъ хорошій семьянинъ, любитъ свою жену и дѣтей, но «ужъ нѣтъ», и онъ ударяетъ кулакомъ по столу – «мужъ глава, и юбки молчи». Онъ любитъ выказывать себя: всякую услугу онъ дѣлаетъ съ эфектомъ и даже обязанность свою, пріятную для другихъ, выполняетъ какъ благодѣяніе. Онъ хочетъ казаться человѣкомъ, подъ личиной грубости и сальности скрывающимъ высокія чувства патріотизма, молодечества и умъ, тогда какъ онъ въ самомъ дѣлѣ не добродѣтеленъ, не патріотъ, не молодецъ и недалекаго ума, а просто грубъ и саленъ. У него ноги немного иксомъ и сапоги всегда стоптаны, но онъ любитъ казаться русскимъ молодцомъ, встряхивающимъ русыми кудрями, и передъ фронтомъ глаза у него разгораются, и походка дѣлается гордая. Онъ забылъ все, что зналъ, и, какъ человѣкъ съ умомъ изворотливымъ, доказываетъ безполезность образованія, однако говоритъ «коклеты» и «палталоны» и огорчился бы очень, ежели бы ему сказали, что говорятъ «панталоны». Онъ считаетъ обязанностью брать съ лошадей и едва ли удерживается отъ пользованія съ людей, но считаетъ это дурнымъ и стыдится того, ежели и дѣлаетъ. Съ людьми онъ не жестокъ, но считаетъ жестокость достоинствомъ: всписатъ 300 – лихо. Съ офицерами онъ снисходителенъ, слабъ, но грубъ до крайности. Его правило общежитія – считать себя выше всѣхъ. – Въ немъ есть и рыцарство: онъ сочувствуетъ угнетеннымъ и противится угнетателю, но перваго онъ оскорбляетъ своимъ сочувствіемъ, передъ вторымъ изобличаетъ свою слабость – раздрожительностыо. – Онъ каждый день пьянъ къ вечеру, но тепелъ [?], откровененъ, ребячливъ, за то утромъ шалѣетъ и боится своего наканунѣ. Никто не можетъ любить его очень, но это одинъ изъ тѣхъ характеровъ, отъ которыхъ мало [?] требуютъ и которыми всѣ довольны. Его любятъ — онъ офицеръ хорошій.
–
КОММЕНТАРИИ
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ.
СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ.
Севастопольские рассказы возникли из задуманного в октябре 1854 г. Толстым и кружком его приятелей офицеров-артиллеристов Южной армии – плана издания военного журнала. Ходатайство инициаторов, поддержанное главнокомандующим кн. М. Д. Горчаковым, не было удовлетворено военным министром; вместо того чтобы дать разрешение издавать собственный самостоятельный журнал, военный министр, передавая распоряжение Николая I, предложил офицерам посылать свои статьи в «Русский инвалид». Расстроенный неудачей и чувствуя, что для такого специально-военного издания собранные кружком материалы не подходят, Толстой предложил Н. А. Некрасову в письме от 11 января 1855 года постепенно передавать военные статьи и материалы в редакцию «Современника». Он предполагал доставлять Н. А. Некрасову ежемесячно от двух до пяти листов и, в случае его согласия, обещал на первый раз прислать статьи: «Письмо о сестрах милосердия», «Воспоминания об осаде Силистрии» и «Письмо солдата из Севастополя», не указывая, кто были авторы этих статей.[107] В ответе на это письмо,[108] достигшем Толстого только в марте, Некрасов просил присылать ему статьи военные, как отмечено в дневнике Толстого под 20 марта 1855 года.[109] Но очевидно, кружок офицеров-инициаторов в то время уже распался, по крайней мере Толстой тут же приписал. «Приходится писать одному – напишу Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта». Эту запись надо считать первым выражением мысли о будущих очерках защиты Севастополя. В это время Толстой находился со своей батареей на Бельбеке, изредка наезжая в Севастополь: в январе он побывал на хорошо им изученном впоследствии 4 бастионе, в марте, с 10-го на 11-е, участвовал в одной из вылазок в Севастополе.
Скоро после получения письма Некрасова работа над рассказом двинулась, и из записи Дневника 27 марта видно, что к этому дню уже было написано начало «Севастополь днем и ночью»; из этого начала «днем» развился рассказ «Севастополь в декабре»; часть же, названная «ночью», была отброшена и через три месяца написана совершенно заново, как описание определенного события, имевшего место ночью с 10 на 11 мая. 29 марта Толстой отправился в Севастополь квартирьером своей батареи, которая вступила туда 2 апреля. С этого дня до 15 мая Толстой не выезжал из Севастополя, неся службу на 4 бастионе, увлеченный своею деятельностью и «духом защитников Севастополя». Настроение Толстого, которое сквозит в его Дневнике, отчетливо отражается в рассказе, и в известной мере рассказ можно считать автобиографическим. В этом отношении интересны следующие слова рассказа: «Главное отрадное убеждение – это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу России». Слова эти, для нас так странно звучащие из уст Толстого, которые уже при перепечатке рассказа в 1856 г. он несколько видоизменил и сократил, потому что уже далеко отошел от тех сильных, совсем особых переживаний, которые он испытал в апреле 1855 г., почти совершенно соответствуют мыслям, которые записаны им в Дневнике: «Держимся мы не только хорошо, но так, что защита эта должна очевидно доказать неприятелю [невозможность] когда бы то ни было взять Севастополь». Это было записано как раз во время писания «Севастополя», 2 апреля. Но работа над рассказом повидимому шла не очень спорко: события и служба, а потом нездоровье не давали Толстому писать так, как бы хотелось, а тут еще кроме «Севастополя» одновременно у него шло и писание «Юности». «Кроме того, – писал он 11 апреля, – меня злит особенно теперь, когда я болен, то, что никому в голову не придет, что из меня может выйти что-нибудь кроме chair à canon[110] и самой бесполезной». 12 апреля на 4 бастионе он записал: «Писал С[евастополь] д[нем] и ночью, и кажется недурно и надеюсь кончить его завтра». И действительно 13-го на том же 4 бастионе (который ему «начинает очень нравиться»), он «окончил С[евастополь] д[нем] и н[очью]. Это была первая редакция рассказа еще без отделения описания ночи от описания дня. «Постоянная прелесть опасности, – добавляет он в дневнике, – наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет». 14 апреля он назначает себе работу – «начать отделывать Севастополь и начать рассказ солдата о том, как его убило». «Боже, – приписывает он, увлеченный и вдохновленный своей работой, – благодарю тебя за твое постоянное покровительство мне. Как верно ведешь ты меня к добру. И каким бы я был ничтожным созданием, ежели [бы] ты оставил меня. Не остави меня, Боже! Напутствуй мне и не [для] удовлетворения моих ничтожных стремлений, а для вечной и великой, неведомой, но сознаваемой мной цели бытия». Начав в это время окончательно обрабатывать рассказ, Толстой выделяет из него изображение ночи, оставив в нем изображение севастопольского дня. В течение недели Толстому удалось написать набело только два листа Севастополя (запись 21 апреля), потом в два дня на бастионе же он отделал несколько листочков (запись 24 апреля); вероятно, тут написано было много, потому что через день, судя по дате при издании, – 25 апр., «Севастополь» уже был закончен и вскоре отослан в Петербург (цензурное разрешение помечено 30 апреля).
«Севастополь в декабре месяце» был напечатан в № 6 «Современника» с подписью Л. Н. Т. и с подстрочным примечанием от редакции об обещании автора ежемесячно присылать картины севастопольской жизни в роде предлагаемой. «Редакция Современника, – говорится в том же примечании, – считает себя счастливою, что может доставлять своим читателям статьи, исполненные такого высокого современного интереса, и притом написанные тем писателем, который возбудил к себе такое живейшее сочувствие и любопытство во всей читающей русской публике своими рассказами: Детство, Отрочество, Набег и Записки маркера». «Севастополь в декабре» в отдельном оттиске, до выхода книжки «Современника» в свет, был представлен П. А. Плетневым Александру II[111] и произвел на него сильное впечатление:[112] он распорядился перевести его на французский язык.[113] Известие о чтении рассказа государем «польстило» Толстому, как записал он в своем Дневнике[114] 15 июня, получив в Бахчисарае известие об этом от Панаева; в этот же день в числе своих недостатков за ближайшие дни он отметил «тщеславие, что рассказывал Столыпину про свою статью». Рассказ Толстого был вскоре по выходе перепечатан в военной газете «Русский инвалид» в больших извлечениях (№ 122, от 5 июня 1855 г.). В этом извлечении рассказ первый раз был прочтен Тургеневым и уже в этом виде привел его «в совершенный восторг»: «Дай бог таких статей побольше» (письмо к И. И. Панаеву 27 июня 1855 г.);[115] когда же до Тургенева дошел № «Современника» – он писал ему же, что «статья Толстого о Севастополе – чудо», что он «прослезился, читая его и кричал ypa!».
–
«Севастополь в декабре» печатается по тексту, напечатанному в книжке «Военные рассказы гр. Л. Н. Толстого». СПБ. 1856 с исправлением некоторых опечаток и поправок, внесенных корректором в текст Толстого, попавших в это издание вследствие того, что автору не пришлось лично просматривать его корректур. Несмотря на некоторые неисправности текста, считаем это издание заслуживающим предпочтения перед изданием «Современника», так как, с одной стороны, редактор «Современника» из опасения преследований цензуры, с другой стороны, вероятно, сам цензор «Современника», В. Н. Бекетов всячески смягчали выражения, казавшиеся им то слишком резкими, то насмешливыми по отношению к русской армии: напр.: вместо «белобрысенький» мичман напечатано «молоденький», вместо «валяются ядра» – «лежат», выпущены слова «неровно гребут неловкие солдаты», «неприятные следы военного лагеря», «вонючая грязь», «грязный» бивуак и пр., что могло современникам дать мысль о нерадении начальства в Севастополе, или повод к смеху. Но с текстом «Современника» приходится считаться, так как многое там напечатано несомненно правильнее. Все допущенные нами поправки опечаток и правок корректора в издании 1856 г., с одной стороны, с другой, исправления текста и разночтения по «Современнику» перечислены в вариантах. Что касается до поправок, которые введены в текст рассказа в «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого» издания Т-ва И. Д. Сытина под редакцией П. И. Бирюкова,[116] то мы решили их также ввести в текст; основываемся на том, что, когда Э. Моод, издавая перевод Севастопольских рассказов на английский язык, обратился к Толстому «с просьбой разъяснить ему происхождение некоторых фраз, вошедших в рассказы и совершенно не соответствующих ни общему их содержанию, ни отношению самого Льва Николаевича к описанным событиям» (слова И. И. Бирюкова), Толстой ответил ему, что все указанные Моодом места «или изменены или добавлены редактором в угоду цензору и потому лучше исключить их. В рассказе «Севастополь в декабре» эти введшие Моода в сомнение места следующие (по изд. 1856 г.):
1) … но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.
2) И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине каждого, – любовь к родине.
Обе эти фразы уже при пересмотре текста для издания 1856 г. обратили на себя внимание автора. Во второй Толстой прибавил к тексту «Современника» слова «стыдливое в русском», в первой – отнес слово «войны», относившееся в тексте «Современника» к слову «признаки», к слову «страдания» и непосредственно предшествующие этой фразе слова «простота и твердость» заменил словами «простоты и упрямства». Таким образом в указанных местах мы отступаем от общего правила давать начальный Толстовский текст, на котором Толстой остановился, – чтобы с другой стороны не итти против его позднейших указаний. Правда, если мы вспомним, что о переводе в Крым из Кишинева, как Толстой пишет в письме к брату,[117] он просил главным образом «из патриотизма», который в то время «сильно напал» на него, что он «предоставил начальству распоряжаться своей судьбой»,[118] что, наконец, как видно из его дневника того времени, его тогда захватывали и война, и военная служба, и боевая жизнь, и опасности, – то можно думать, что и слова, которые так шли в разрез со всеми мыслями его в 1890-ых—1900-ых гг., были естественны в 1855 г.
СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ.
Рассказ «Весенняя ночь в Севастополе» в общей своей мысли, можно предполагать, был задуман Толстым в марте 1855 г. одновременно с рассказом «Севастополь в декабре», который в дневнике долгое время называется «Севастополь днем и ночью»; имея это название, рассказ был вчерне закончен 13 апреля, и с 14 апреля Толстой назначил себе его отделку, которую и закончил 25 апреля. В момент начала отделки произошло очевидно разделение рассказа на две части: изображение Севастопольского дня и Севастопольской ночи. Первая часть была разработана в течение апреля и составила рассказ «Севастополь в декабре»; изображение ночи, написанное в первой половине апреля, повидимому, не удовлетворило автора и было оставлено. Конечно, нельзя думать, что отложенная часть впоследствии была переработана в рассказ «Весенняя ночь в Севастополе»: этот рассказ приурочен автором к совершенно точно определенному времени – ночи на 11 мая и, может быть, даже изображает определенное событие; в нем только вновь воплотилась возникшая в 20-х числах марта мысль Толстого дать изображение Севастопольской ночи. Как основу рассказа Толстой сохранил эту мысль, отбросив ее оболочку, его не удовлетворившую, и дал не переработку старого рассказа о Севастопольской ночи, написанного в первой половине апреля, а создал новый рассказ, однородный по общей мысли, но иной по обстановке, в которой происходит действие, и по настроению, которое было в то время у автора.
Рассказ был начат тотчас после окончания «Рубки леса»: утром 18 июня Толстой кончил «Рубку», а вечером уже написал «проспект маленький 10 мая», как он назвал тут «Весеннюю ночь». Со следующего дня – 19 июня Толстой изо дня в день «с удовольствием» быстро пишет «10 мая», не отвлекаясь другими работами, только уделяя время на чтение, и уже 23 июня, проработав целый день, «окончил на-черно» и даже принялся за переписку на-бело. На 24-е он назначил себе «пересмотреть все (sic) В[есеннюю] Но[чь] с точки зрения цензуры и сделать изменения и variantes». И действительно 24-го Толстой «целый день работал» и 26-го «кончил… уже не такъ хорошо, кажется, какъ прежде» – отмечает он, очевидно, вспоминая ту редакцию, которую он назвал черновой, и которая по его мнению еще не была обезврежена в отношении требований цензуры. Этим 26 числом июня 1855 г. «Весенняя ночь» была датирована и при издании. На следующий день Толстой ездил в Бахчисарай и там читал ее своему приятелю Егору Петровичу Ковалевскому, состоявшему тогда в штабе кн. М. Д. Горчакова, и Ковалевский остался ею «очень доволен». Таким образом «Весенняя ночь» была написана очень быстро, всего в восемь дней, с 19-го по 26-е. Если принять во внимание, что первая редакция была закончена 23-го, то значит писанье без пересмотра длилось и того меньше – только пять дней. Очевидно рассказ писался с особенным подъемом и увлечением и против обычая Толстого одиноко, т. е. не сопутствуемый другими литературными работами. После этого энергия сразу упала, и Толстой целую неделю провел «в праздности», как отметил 6 июля, забыв, что 4 июля рассказ снова привлек ненадолго его внимание, и он «с утра» и «после обеда отчасти» его пересматривал, чтоб на следующий день отослать к И. И. Панаеву в редакцию «Современника», что хотел исполнить при содействии Валентина Павловича Колошина, долженствовавшего ехать 5 июля в Петербург, но отложившего отъезд до 11-го. Этот новый пересмотр очевидно был более или менее поверхностный. С Колошиным же Толстой послал И. И. Панаеву письмо[119] об этом Севастопольском рассказе или Севастопольской «статьи», как он говорит: «Хотя я убежден, что она без сравненья лучше первой, она не понравится, в этом я уверен. И даже боюсь, как бы ее совсем не пропустили. На счет того, чтобы ее не изуродовали, как вы сами увидите, я принял всевозможные предосторожности. Во всех местах, которые показались мне опасными, я сделал вариянты с такого рода знаками (в) или скобками означал чтò выключить в том случае, ежели не понравятся цензуре. – Ежели же сверх того, что я отметил, стали бы вымарывать что-нибудь, решительно не печатайте. В противном случае это очень огорчит меня. Для заглавия я сделал вариант, потому что «Севастополь в мае» слишком явно указывает на дело 10 мая, а в Современнике не позволено печатать о военных делах. Напшисецкого я заменил Гнилокишкиным[120] на тот случай, ежели цензура скажет, что офицер не может от флюса отказываться от службы; тогда это 2 различные офицера. Польскую фразу ежели можно поместить, то с переводом в выноске, ежели нельзя, то русскую, которая под знаком (х). И еще ругательства русские и французские нельзя ли означить точками, хотя без начальных букв, ежели нельзя, но они необходимы. Вообще надеюсь, что вы будете так добры защитить сколько можно мой рассказ, – зная лучше взгляд цензуры, вставите уж вперед некоторые варианты, чтобы не рассердить ее, и какие-нибудь незначительные, непредвиденные изменения сделаете так, чтобы не пострадал смысл». Под только что пережитым впечатлением подъема при создании рассказа, в сознании своего долга писать одну правду и предугадывая протест со стороны тех, кто правду эту желает скрыть, он записал в дневнике своем 5 июля о смущавших его «искушениях тщеславия», с которыми он постоянно боролся, каясь на страницах дневника в своих проступках этого рода: «теперь только настало для меня время истинных искушений тщеславия, – пишет он – я много бы мог выиграть в жизни, ежели бы захотел писать не по убеждению». И действительно «Весенняя ночь», набранная для «Современника», подняла целую бурю со стороны охранителей, испугавшихся правды, этого героя Толстовской повести, которого автор «старался воспроизвести во всей красоте его», и которого он любил «всеми силами души». Но еще раньше чем попасть к ним в руки, еще в кабинете редакторов «Современника» рассказ должен был подвергнуться первой цензуре. Полученная И. И. Панаевым «Ночь в Севастополе» произвела на лиц, близких к «Современнику», громадное впечатление; все находили этот рассказ «выше первого по тонкому и глубокому анализу внутренних движений и ощущений»,[121] по превосходной мастерской работе; после прочтения рассказа Некрасов писал, что не знает «писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать»,[122] как Толстой; несмотря на это, повесть Толстого показалась им недопустимой к печати в том виде, в каком написал ее Толстой, без смягчающих фраз и выражений. Они боялись даже, что она произведет на публику «весьма неприятное впечатление»: до такой степени всё в ней «облито горечью»,[123] «такъ резко и ядовито, беспощадно и безотрадно».[124] И вот под влиянием этой боязни И. И. Панаев счел необходимым, «не портя, – как он говорит, – сущности рассказа и предвидя за него борьбу с ценсурою» «кое что посмягчить и посгладить» и наконец даже «прибавить в конце»[125] статьи слова, настолько в разрез идущие с мыслями Толстого, настолько Толстому «отвратительные», что он согласился бы, как он писал потом Е. Ф. Коршу, всякий раз как читает их, «лучше получить 100 палок, чемъ видеть их».[126] В найденной недавно рукописи Толстого действительно нет этой фразы.
Прибавленные И. И. Панаевым слова были следующие: «Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаем только родной край, родную землю и будем защищать ее до последней капли крови». На несоответствие этих слов взглядам Толстого впоследствии обратил внимание Эльмер Моод при издании перевода Севастопольских рассказов на английский язык; он просил Толстого разъяснить причины их происхождения.[127] В ответном письме к Мооду Толстой решительно отрекся от этих слов, назвав один отрывок из «Весенней ночи» «особенно отвратительнымъ»; «он, – пишет Толстой, – и в то время мне очень не нравился» и советует все указанные им места исключить, потому что они были «или изменены или добавлены редактором в угоду цензору».[128] То же еще более определенно говорит Толстой и в упомянутом письме к Коршу,[129] прося его передать С. А. Рачинскому, хотевшему переводить Севастопольские рассказы, что он «умоляетъ» его «не забыть, что слова» (он точно их цитирует) «принадлежать г-ну Панаеву», а не ему, и что он просит их выкинуть.
С смягчающей выражения Толстого, добавкой Панаева, повесть была послана цензору «Современника» В. Бекетову, который с небольшими поправками пропустил статью. Она была уже отпечатана для помещения в августовской книжке 1855 г., когда цензор, остановив выход номера, вдруг потребовал корректуру из типографии для представления на прочтение председателю Цензурного комитета, грозному и взбалмошному М. Н. Мусину-Пушкину. Гранки «Весенней ночи», доставленные Мусину-Пушкину, привели его в ярость и негодование: сохранившиеся при делах Цензурного комитета с вычерками целых периодов, раз даже целой главы, с выразительными пометками на полях, они дают яркую картину впечатления, вынесенного Мусиным-Пушкиным от статьи, и определенно указывают, чтò в особенности было причиной его гнева. «Читая эту статью, – писал своим размашистым неразборчивым почерком Мусин-Пушкин на корректурном листе, – я удивлялся, что редактор решился статью представить, а г. цензор дозволить к напечатанию. Эту статью [за] насмешки над нашими храбрыми офицерами, храбрыми защитниками Севастополя запретить и оставить корректурные листы при деле».
Дело, вероятно, так бы и заглохло и «Весенняя ночь» и не увидела бы света, но тут что-то произошло такое, что внезапно изменило взгляд Мусина-Пушкина: возможно, что о написании нового Севастопольского рассказа после первого, понравившегося Александру II, узнали в тех сферах, с которыми считался и страшный председатель Цензурного комитета; вместо запрещения печатать редактор «Современника» получил приказание печатать рассказ, но с теми переделками, которые были сделаны Мусиным-Пушкиным. Эти переделки привели в ужас Панаева. Личное объяснение его с Мусиным-Пушкиным не привело ни к чему, кроме еще более определенного требования печатать так, как переделано. Так в изуродованном виде, с пропусками и искажениями, которые меняют тон, характер и часто даже смысл рассказа, «Весенняя ночь» появилась в сентябрьской книжке «Современника» за 1855 г., но без букв Л. Н. Т., которых редакторы «Современника» не решились поставить под статьей, потерявшей свой облик.
«Возмутительное безобразие, в которое приведена ваша статья, – писал Толстому Н. А. Некрасов, – испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства… Не буду вас утешать тем, что и напечатанные обрывки вашей статьи многие находят превосходными; для людей, знающих статью в настоящем виде, – это не более, как набор слов без смысла и внутреннего значения. Но нечего делать! Скажу одно: что статья не была бы напечатана, если бы это не было необходимо».[130]
17 сентября Толстой записал в Дневнике: «Вчера получил известие, что Ночь изуродована и напечатана. Я кажется сильно на примете у синих зa свои статьи. Желаю впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть и тоже писать из пустого в порожнее – без мысли, и главное без цели. Несмотря на первую минуту злобы, в которую я обещался не брать пера в руки, всё-таки единственное, главное и преобладающее над всеми другими наклонностями и занятиями должна быть литература. Моя цель – литературная слава. Добро, которое я могу сделать своими сочинениями».



