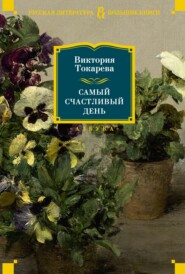скачать книгу бесплатно
Перед судейским столом в первом ряду расположились обе конфликтные стороны: слева Волков с семьей и Максимов, справа – Маша и сопровождающие ее лица, Нина и муж Юра. Юра заметно нервничал: обычно он, как правило, острил, разговаривал фразами из популярных песен и из популярных анекдотов. А тут ни разу не вспомнил ни одной песни и ни одного анекдота, глаза его казались белыми на красном, будто распаренном лице.
На задних рядах расселись случайные зрители, преимущественно старухи-пенсионерки, любители открытых судов. Им было интересно и не совсем понятно, о чем заспорила творческая интеллигенция.
Первым взял слово истец, то есть Волков. Он поднялся со стула, держа шапку в опущенной руке, и, багровея ушами, стал говорить о том, что на последние трудовые сбережения мечтал приобрести себе квартиру, а приобрел камеру пыток. Его нервы больше не выдерживают, и, если так все будет продолжаться, он покончит жизнь самоубийством, потому что другого выхода для себя не видит. Он уже купил наушники для водолазов, обил все стены и потолок сотами, в которых продают диетические яйца. От этого его комната стала на пять сантиметров ниже и на десять сантиметров уже, чем была. Но ничего не помогает.
– Поменяйтесь, – предложил судья.
– Почему это я должен меняться? Они виноваты, а я должен меняться…
Волков сказал это таким тоном, что всем стало ясно: он скорее покончит жизнь самоубийством, чем сдаст свои позиции.
Закончив выступление, Волков сел на место с видом неудовлетворенным и униженным, но не смирившимся. Его жена Рита сняла пальто, чтобы не было жарко, расстегнула курточку на Славике. Она сидела на стуле, широкая в плечах и в бедрах, с широким свежим лицом, и вид у нее был домашний и какой-то уютный.
– Понимаете, – говорила она смущенно, – только ребенка укачаешь, вдруг грохот, пение. Он подхватывается, плачет…
Славик рассеянно крутил светлой головкой, не подозревая, что речь идет о нем. Волков погладил ребенка по волосам, и чувствовалось, что сделал он это скорее для судьи, чем из отеческих побуждений.
Потом выступил Максимов. Он любил внимание к себе масс, но в силу обстоятельств был лишен этого в своей жизни. Сейчас, получив на несколько минут аудиторию и внимание, засверкал всеми своими гранями. Он заявил, что надо соблюдать правила социалистического общежития. А так как дом – своего рода общежитие, и, безусловно, социалистическое, то этот принцип имеет прямое отношение ко всем его членам. И нечестно ставить рояль на голову трудящимся, а если человеку хочется поиграть, пусть идет в места общего пользования, садится на сцену и играет сколько вздумается.
Маша нервно двигала пальцами по колену, продолжая играть по привычке, превратившейся в безусловный рефлекс. На ней было кожаное пальто, сшитое по моде, но не по последней, а по той, которая еще будет. Маша предчувствовала моду. Из-под пальто глядели ноги в клетчатых брючках, на голове маленькая, как у жокея, клетчатая кепочка. Здесь в суде все это смотрелось немножко бестактно, но Маша была умна, хитра и умела все свои недостатки обратить в достоинства.
Она достала из сумки две бумаги. Одна – вырезка из газеты, где сообщалось о том, что Маша хорошая пианистка и ее деятельность необходима людям, так как прибавляет в их жизни красоты и осмысленности. Другая бумага – справка из Москонцерта, в ней указывалось, что Москонцерт отдельного помещения для репетиций не предоставляет. От себя Маша добавила, что готова съехать с квартиры и поселиться в любой другой, но нет гарантии, что ее не выселят и оттуда, и тогда ей ничего больше не останется, как поселиться со своим «Беккером» под открытым небом, как в узбекском кинофильме «Белый рояль».
В своем выступлении Маша очень тонко и точно выдержала пропорции ума, такта, юмора, беззащитности и легкой безысходности. При этом она обожала глазами судью и народных заседателей, и те, в свою очередь, готовы были простить ей все, и даже если бы она совершила серьезное преступление, ее все равно оправдали бы или дали очень маленький срок.
Волков был примитивен в своем качании прав и неделикатной настырности. Он не учел такого серьезного фактора, как Л. О. – то есть личное обаяние.
Маша распространяла свое личное обаяние вместе с волнами духов «Шанель», и казалось, что она не обвиняемая и даже не свидетель, а так… И только по тому, как бегали по колену ее пальцы с профессионально коротко остриженными ногтями, можно было догадаться, что все-таки обвиняемая.
После Маши к судейскому столу вышла Нина.
– Вам мешают соседи? – спросил судья.
Глаза у него были грустные и круглые, как у бульдога Борьки. Нина посмотрела в эти знакомые глаза, и в носу у нее заломило. Ей вдруг стало жалко себя, не из-за рояля, а в принципе. Судья внимательно смотрел на нее, и Маша тоже смотрела, и Юра перестал крутить в руках свою замшевую кепку.
– Но ведь она не виновата, – тихо сказала Нина. Это был компромиссный ответ. В нем она и обвиняла Машу, и оправдывала ее: «Конечно же мешает, но она не виновата».
– А кто виноват? – спросил судья. Это был классический вопрос.
– Стены тонкие… – сказала Нина.
– Точно! – обрадовалась старуха из зала. Видно, сама запуталась в поисках истины.
– Подумаешь, рояль… – сказала тетка помоложе. – Вон у нас один знакомый из Африки приехал, крокодила привез. Он у него в ванне живет.
– Так крокодил же молчит, – вмешался Волков.
– Ага, молчит… Зато выйдет на лестничную площадку и сожрет кого-нибудь. Это же аллигатор!
Судья постучал кулаком по столу, прекращая прения. Расстановка сил была невыгодной для Волкова, он чувствовал это и с надеждой ждал выступления своего адвоката.
Выступил адвокат. Это была женщина лет семидесяти, по всей вероятности, на пенсии, подрабатывающая от случая к случаю.
– Каждый человек имеет право на отдых и на труд, – начала она. – Товарищ Волков лишен такого права и на отдых, и на труд…
Адвокат говорила очень медленно, сильно растягивая каждое слово, и могла бы говорить бесконечно, если бы ее не перебил судья.
Судье изрядно надоела эта история, в которой ему все давно было ясно. День только начинался, впереди было много других дел. Судья посоветовался с заседателями и объявил: «Иск Волкова о выселении Полонских оставить без удовлетворения. Обвиняемая играет на рояле не по ночам, а днем, не раньше шести утра и не позже одиннадцати вечера. Ее действия не могут быть рассмотрены как хулиганские, а если человек не хулиганит и не нарушает норм общественного поведения, выселить его никто не имеет права».
Далее судья вынес частное определение: Полонским купить толстый ковер и повесить его на стену.
Когда суд окончился, Рита заплакала. Увидев, что мать плачет, разревелся Славик.
Судья медленными движениями собирал бумаги и думал, возможно, о том, что стены тонкие, а люди не слышат друг друга. В суд ходят.
Маша поднялась и вышла из зала, прямо держа спину, мелко ступая, как балерина.
– Сейчас придешь домой и ляжешь спать, – сказал ей Юра. Он беспокоился о жене и хотел, чтобы она возместила сном нервную затрату.
Нина, Маша и Юра вышли из суда.
Надвигалась весна, снег лежал бежевый, хрупкий, ощетинившийся. Выступали обнажившиеся от снега бока земного шара. В глубине двора виднелась темная от дождей детская деревянная горка.
Юра остановил такси, все втроем уселись на заднее сиденье. Когда машина проехала несколько метров, Нина сказала:
– Слушай, давай договоримся…
– О чем? – спросила Маша.
– Я буду работать с семи до одиннадцати, а ты садись в одиннадцать. Не в десять, а в одиннадцать. Один час…
Маша не ответила, по-прежнему рассеянно глядя за стекло на пешеходов, которые шли пешком. Ей по ее режиму было удобно просыпаться в девять, а садиться за рояль в десять. А в одиннадцать ей было неудобно, потому что некуда девать дорогой утренний час.
Вечером Полонские пригласили Нину к себе на блины. К блинам подавалась красная рыба, белые грибы, сметана, земляничное варенье, пахнущее лесом. Водка была перелита в пузатый графинчик старинного зеленоватого простого стекла. В высоком хрустальном кувшине с широким горлом стоял рубиновый гранатовый сок. Стол был не загроможден, и от всего, даже от сочетания цветов на белой скатерти, веяло уютом, умением жить внимательно, со вниманием к каждой детали, чего совершенно не было в Нининой жизни. У нее в доме жил бульдог Борька, который линял по весне, и его шерсть лежала на всем. Однажды у Нины остановились часы, и часовщик спросил: «Откуда у вас в часах собачья шерсть?»
Юра поднял тост за выигранное дело, и все пили за выигранное дело, не переоценивая свою победу и отдавая ей ровно столько, сколько она заслуживала. Потом пили за дружбу, за друзей, за искусство, и все мало-помалу захмелели и вступили в состояние благостного понимания и проникновения. И Нина уже не помнила, что у нее отнята возможность работать, а все казалось славно и светло, и хотелось добра всем, даже Волкову.
Черный беккеровский рояль стоял величественный и равнодушный, тускло мерцая при свечах лакированным боком. Свечи – это не дань моде. Электрическая лампочка светит всем, а свеча – только тебе. И когда ты сидишь перед свечой, которая горит только тебе, хочется думать о чем-то высоком и подлинном, неизмеримо превышающем каждодневные человеческие помыслы. Хорошо вернуться к прошлому, и быть к нему снисходительным, и найти в нем то, что дает силы жить дальше.
Маша посмотрела на часы: было десять, до одиннадцати еще оставался целый час. Она села за рояль и запела польскую песню «Эвридики». В этой песне говорилось о том, что каждую ночь из туманной Вислы выходят Эвридики и танцуют до зари.
Нина представила себе этих танцующих Эвридик пятнадцатилетними девушками, почти детьми, с высокими шеями, большими глазами. Они прекрасны одним только своим существованием, и, для того чтобы быть любимыми, им не надо быть умными и оформлять детские книги.
В дверь позвонили. Маша сняла руки с клавиш. Все были уверены, что явился Волков, или Рита, или в крайнем случае послали Славика.
Но это был не Волков. По этажу ходил дядя Сережа и звонил в каждую дверь. В руках у него были кооперативные книжки, длинные, как блокноты, в мягких синих обложках. Все обитатели седьмого этажа вышли на лестничную площадку.
– Вот, – сказал дядя Сережа, раздавая книжки их владельцам. – На последней странице напишете: кому вы завещаете кооперативный пай.
– Как это «завещаете»? – не понял Юра.
– Кооперативная квартира – частная собственность, – объяснил дядя Сережа, заранее выучив на память сложную формулировку. – Так что, если помрете, надо предупредить, кому останется.
– А я, может, не собираюсь помирать, – вызывающе проговорил Волков, позабыв, что еще днем обещал покончить жизнь самоубийством.
Поражение на суде Волкова не обескуражило, он знал, что из каждой, даже проигранной ситуации можно найти выход и извлечь свою пользу. Из данной ситуации Волков собирался извлечь бесплатную мастерскую и надеялся получить ее вне очереди, как инвалид, пострадавший на «нравственном фронте».
– Ты, может, и не собираешься, – Максимов коротко, встревоженно глянул на Нину, – а вот выйдешь на улицу, на тебя сверху сосулька упадет, и «здрасьте, Константин Сергеич»! – Под Константином Сергеичем Максимов имел в виду Станиславского.
Максимов засмеялся своей шутке, приглашая глазами посмеяться остальных. Он хотел, чтобы Полонские и Нина забыли о суде, будто никакого суда и не было. Но соседи не засмеялись.
Дядя Сережа вручил кооперативные книжки седьмому этажу и пошел вниз на шестой. Ему предстояло обойти весь дом.
После ухода дяди Сережи веселье, затеянное Полонскими, было как-то смято. Все вдруг вспомнили, что придется когда-нибудь умирать, и в этой связи все победы и поражения показались преходящими.
Все попрощались и разошлись, каждый в свою квартиру, каждый за свою дверь.
Настала ночь. В небе над Метростроевской улицей остановилась полная луна. На ней были пятна, напоминающие глаза, нос, рот, и луна походила на рожицу, рисованную рукой ребенка из книжек Нины Демидовой.
Пираты в далеких морях
«Для технического проекта число единиц оборудования подсчитывают отдельно по номенклатуре и каждому типоразмеру…»
Я стал думать, как перевести на английский язык «типоразмер», но в это время в мою дверь позвонили.
Я отворил дверь и увидел соседку с девятого этажа по имени Тамара: Тамара сказала, что завтра в девять утра ей необходимо быть в больнице и чтобы я ее туда отвез.
Мне захотелось спросить: «А почему я?» С Тамарой мы живем в одном подъезде, но встречаемся крайне редко, примерно раз в месяц возле почтового ящика. У меня квартира номер 89, а у Тамары 98, и почтальон часто бросает мою корреспонденцию в Тамарин ящик. И наоборот. Это единственное, что нас связывает, и совершенно неясно – почему в больницу с Тамарой должен ехать я, а не ее муж.
– А почему я? – спросил я.
Тамара задумалась, обдумывая мой вопрос, потом подняла на меня глаза и спросила:
– Значит, не повезешь?
Я смутился. Я понял: если я сейчас скажу «нет», Тамара повернется и уйдет, а у меня будет нехорошо на душе и я не смогу работать. Как нервный человек, я услышу Тамарины претензии, я стану мысленно на них отвечать и пропущу время, в которое я засыпаю, а потом не смогу его догнать. Я начну гулко вздыхать и думать. Причем думать не впрок, например на завтра, а задним числом. Я продумаю уже произнесенные слова и уже совершенные поступки. На все это уйдет ночь, следующий день, выброшенный из работы, плюс полкилометра нервов. А на то, чтобы отвезти Тамару в больницу и вернуться, уйдет два часа. Два часа плюс ощущение нравственного комфорта.
– Пожалуйста, – сказал я. – Я отвезу.
– В восемь тридцать. Внизу, – уточнила Тамара и ушла.
Я совершенно не умею отказывать, если меня о чем-то просят. В медицине это называется: «гипертрофия обратной связи». Это значит: в общении с другим человеком я полностью ставлю себя на место партнера и забываю о своих интересах.
Очень может быть, что в моем роду какой-нибудь далекий предок был страшный хам. И моя деликатность – это как бы компенсация природе, действующей по закону высшего равновесия. Я плачу природе долг за своего предка.
Я лег спать и скоро заснул с ощущением нравственного комфорта. А Тамарин муж, должно быть, заснул возле толстой и красивой Тамары с ощущением нравственного дискомфорта и человеческой несостоятельности.
Больница находилась у черта на рогах.
Я притормозил машину возле вывески.
– Пойдем со мной! – велела Тамара.
– Я лучше тебя здесь подожду, – уклонился я. – Я боюсь.
– Значит, тебе страшно, а мне нет.
– А зачем ты сюда приехала? – спросил я.
– Мне надо исключить, – хмуро ответила Тамара.
– А в другом месте нельзя исключить?
– Здесь специалисты лучше.
Тамара вылезла из машины и пошла к каменной широкой лестнице. Я запер машину и поплелся следом за Тамарой, как Орфей за Эвридикой.
Мы вошли в вестибюль.
Тамара взяла в регистратуре какую-то карточку, потом села в какую-то очередь и посадила меня возле себя. Я хотел спросить: долго ли надо сидеть, но постеснялся такого житейского вопроса на таком, в сущности, трагическом фоне.
– Почему муж с тобой не поехал? – спросил я.
– А я и не хочу, чтобы он ехал. Я от него скрываю.
– Почему?
– Муж любит жену здоровую, брат – сестру богатую…
– Это если муж и брат – гады, – сказал я с убеждением.
– Почему гады? Нормальные люди. Это нормально.
– Если это нормально, то это ужасно…
Тамара промолчала.
Против меня у другой стены сидел старик. Старик громко шутил и сам смеялся своим шуткам. Его оживления никто не разделял. Люди были брошены в одиночество, как в океан, плыли в нем, хлебая волны, и не видели другого берега. Старик пытался демонстрировать силу духа. Ему не верили. Смотрели серьезно и осуждающе.
Я взял Тамару за руку. Она положила голову мне на плечо.
– Дура я, – сказала Тамара.
– Почему?
– Все свою диссертацию кропала. «Гальваномагнитный эффект в кристаллах германия». Катька – двоечница, у Левки – вторая жизнь. Я здесь. Вот тебе и эффект…
– Но человек должен куда-то стремиться.