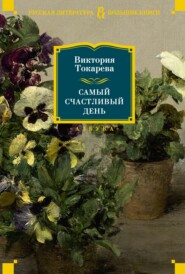скачать книгу бесплатно
Лариса опять поставила на меня свои глаза и держала их долго – дольше, чем возможно. Потом выпила полстакана залпом, будто запила лекарство, и пошла из комнаты.
– А ты почему развелась? – крикнула Лариска.
– Профессия развела! – крикнула я. – Я ведь все время играю, на семью времени не остается.
– Разве нельзя и то и это?
– Может, можно, но у меня не получается.
– Ну и дура! – сказала Лариска, возвратившись с кофе. – Подумаешь: Франция, Америка… А заболеешь – стакан воды подать некому.
– Это да… – согласилась я.
– Французы послушают твой концерт, похлопают и разойдутся каждый к себе домой. А ты – в пустую гостиницу. Очень интересно!
Лариска села к столу и снова разлила вино по стаканам.
– За что?
– За рараку! – сказала я.
Вошла девочка, протянула Лариске тетрадку.
– Я тебе покажу галантерею! – заорала Лариска напряженным басом. – Только об этом и думаешь! Никуда не пойдешь!
Она хлестнула девочку тетрадкой по уху, смяв тетрадь. Девочка втянула голову, дрожала ресницами и не отрываясь смотрела на меня. Ей было тяжко терпеть унижение при посторонних.
На балконе проснулся и закряхтел ребенок, не то засмеялся, не то заплакал.
– Я пойду, – сказала я и встала.
Лариска отшвырнула старшую дочку и вышла со мной в прихожую. Два красных пятна расцвели на ее щеках.
– Будешь за границей, привези мне парик, – попросила Лариска. – Причесаться некогда с этими паразитами!
Больше мы не виделись.
Через восемь месяцев я уехала в Австралию.
В Австралии все было абсолютно так же, как и в других странах: сцена – моя рабочая площадка. Приподнятые лица. Преобладающие цвета – черно-белые. Хрустальная люстра, сверкающая всеми огнями, существующими в спектре.
Я сначала все это вижу, потом не вижу. Сосредоточиваюсь на клавишах и жду, когда во мгле моего подсознания золотой точкой вспыхнет рарака и я разожгу от нее свой костер. Потом я обливаюсь керосином и встаю в этот костер, чтобы он горел выше и ярче. А незнакомые люди с приподнятыми лицами сидят и греются возле моего костра, притихшие и принаряженные, как дети.
Австралийцы долго хлопали. Я долго кланялась.
А дальше все было так, как предсказывала Лариска: австралийцы встали и разошлись по домам. А я поехала в гостиницу и легла спать.
Хорошая слышимость
На Метростроевской улице выстроили кооперативный дом. Дом строился долго, года три или четыре, за это время в нем сменилось два председателя. Один ушел сам, надоело быть выразителем частнособственнических интересов, а другого сместило правление за то, что использовал служебное положение в личных целях.
Тем не менее дом был построен и заселен, и на первом этаже возле лифта был посажен сторож дядя Сережа, который дежурил попеременно со своей женой.
Кооператив назывался «Художник-график», но жили в нем не только художники, а представители самых разнообразных специальностей. Лучше других дядя Сережа знал фотографа Максимова, потому что к нему ходило очень много женщин. Максимов пользовался у них громадным успехом, так как был холост, некрасив и казался легкой добычей.
Вкус у Максимова был самый разнообразный. Когда в лифт входила молодая женщина и возносилась вверх, дядя Сережа прижимался животом к решетке, открыв от напряжения рот, ждал, на каком этаже остановится лифт. Убедившись, что кабина стала на седьмом этаже, дядя Сережа удовлетворенно крякал и отходил. За все время он не ошибся ни разу.
Иногда с шестого этажа спускалась девяностошестилетняя старуха со странной фамилией Бекш. Бекш устанавливала свой раскладной стульчик, садилась возле парадного, дышала воздухом. Улица против дома шла на подъем, и машины в этом месте ревели моторами, фыркали выхлопными газами. Кто-то норовил перебежать дорогу. Бекш смотрела на все это остановившимися стеклянными глазами, замечала то, что в обычном здоровье никогда и не заметишь.
Когда с улицы появлялась молодая Нина Демидова с бульдогом Борькой на поводке, дядя Сережа оживлялся и весело кричал:
– А у нас все дома!
Это была шутка, смысл которой заключался в том, что, дескать, Нина в этом доме не живет.
Нина смеялась и спрашивала:
– Дядя Сережа, пойдешь за меня замуж?
Это тоже была шутка. У дяди Сережи уже была жена.
Дяде Сереже хотелось побыть подольше возле Нины, и в знак особого расположения, а заодно чтобы скоротать время, он сопровождал ее на седьмой этаж. Ехали, как правило, молча. Мелькали этажи. Потом лифт останавливался, дядя Сережа распахивал железную дверь, выпускал Нину и Борьку на седьмой этаж.
На седьмом этаже, так же, как и на других, было четыре квартиры. Там жили: пианистка Маша Полонская с семьей, экс-председатель Волков с женой Ритой и сыном Славиком, Максимов без семьи и художница Нина Демидова, тоже без семьи.
В дверь экс-председателя Волкова было врезано семь замков, причем каждый был изготовлен по специальному заказу и содержал в себе какой-нибудь секрет. Попасть в квартиру Волкова было так же сложно, как в сейф.
У Полонских на дверях висела медная табличка под старину. На ней каллиграфическим почерком сообщалась фамилия хозяина, его имя и отчество.
На двери Максимова не было ни таблички, ни замков, зато был врезан оптический глазок, чтобы можно было посмотреть из квартиры, кто к тебе пришел. Такие оптические глазки, говорят, врезают в дверь популярные киноартисты, потому что к ним ходит очень много народу, и преимущественно без приглашения.
Дверь у Нины Демидовой была нормальная, без таблички и без оптического глазка, но очень грязная. Она никак не могла собраться купить электрический звонок, и все, кто к ней приходил, стучали в дверь ногами.
Двери на седьмом этаже были в чем-то одинаковые: обитые дерматином под муар, с металлическими кнопками по краям, а в чем-то совершенно разнообразные. И хозяева были похожи на свои двери: в чем-то одинаковые, а в чем-то совершенно разнообразные.
Полонские. Есть поговорка: в каждой избушке свои погремушки. Под избушкой имеется в виду квартира, а под погремушками – неприятности. Если перевести поговорку на современный язык, получается: в каждой квартире свои неприятности. В квартире Полонских никаких неприятностей не было.
Маша – красивая блондинка, с высокой шеей, маленькой птичьей головкой и осмысленной талией. Замечательная пианистка.
Юра – рослый брюнет, огромный и широкоплечий, похожий на белого негра. Интеллектуальный спортсмен. Оба были здоровые и талантливые, у них рос ребенок – тоже здоровый и талантливый, но рос он не с ними, а у Машиных родителей, так что все сложности и неудобства воспитания доставались родителям, а Маше и Юре доставался результат. И как-то так выходило, что все радости в этой жизни они получали легко и даром.
Максимов. Хотел жениться и искал себе жену. К будущей жене он предъявлял следующие требования:
1. Чтобы она была молодая, красивая и знаменитая, например чемпионка по фигурному катанию или диктор Центрального телевидения. Чтобы на улице все узнавали ее и оборачивались.
2. Чтобы она была замечательная хозяйка, экономная и изобретательная. Могла прожить неделю на три рубля.
3. Чтобы имела идеальный характер и, когда Максимов бы напивался в гостях, тащила бы его домой молча, не ругаясь.
4. А когда бы она ему надоела, мог бросить ее на год или два и уехать, а она бы в это время верно ждала его и не обижалась.
До сих пор такой жены Максимов не нашел и пребывал в постоянном состоянии поиска.
Волков. Экс-председатель, тот самый, который использовал служебное положение в личных целях. Во время строительства дома он подвинул свою стенку вправо, отчего его комната стала на 10 сантиметров шире, а у Максимова – на 10 сантиметров уже. Возможно, Максимову это не нравилось, но Волкова его мнение не интересовало. Поговаривали, что Волков настлал у себя паркет без изоляционной прокладки, так что потолок у него получился на пять сантиметров выше, чем в других квартирах.
Есть люди, которые все гребут к себе, а есть люди, которые все гребут от себя. Волков греб к себе.
Нина Демидова была художник-график, оформляла детские книги. Она очень любила детей и старалась получше для них рисовать. Дети – существа благодарные, но эта благодарность не возвращалась к Нине, потому что дети никогда не запоминают фамилию художника.
У Нины жил бульдог Борька, но принадлежал он не ей, а ее хорошим знакомым. Хорошие знакомые уехали на три года за границу, а собаку не взяли, оставили Нине. Через три года они обещали вернуться и забрать ее обратно.
Три года назад, когда дом только еще начинал строиться, у Нины был муж. Они жили на стипендию, снимали проходную комнату возле Белорусского вокзала, вместе преодолевали трудности. А когда дом был построен и трудности оказались позади, муж ушел к новой жене, к новым трудностям. Иногда он звонил по телефону, но уже как чужой муж. У Нины вообще все было чужое: дети, собаки, и даже квартира была записана не на нее.
Соседи превосходно сосуществовали, забегали друг к другу за солью, за спичками и затем, чтобы поговорить о странностях любви.
Случалось, к Нине заходила старуха Бекш, присаживалась на краешке стула и вспоминала своего покойного мужа, с которым она познакомилась в Цюрихе.
– Ваш муж был немец? – удивлялась Нина.
– Нет. Киевский мещанин.
– Зачем было ехать в Цюрих, чтобы познакомиться там с киевским мещанином? Вы могли бы познакомиться с ним в Киеве…
– Конечно, – соглашалась Бекш. – Мы могли бы познакомиться с ним в Киеве, но мы познакомились в Цюрихе.
Маша Полонская приходила к Нине каждый день, а Волков не заходил никогда, боялся бульдога Борьки.
Максимов прибегал и спрашивал: «Не могли бы вы мне одолжить ложечку сливочного или любого другого масла?» Или: «У вас не найдется в долг три, а лучше пять рублей?»
Нина всегда давала ему в долг и деньги, и масло и при этом видела, что Максимов немолод, лет сорока шести, и ему хочется простых библейских радостей: с детьми, обедами, скучными уютными семейными вечерами. А любви, на которую он обречен, ему уже не хочется.
Все было мирно между соседями до тех пор, пока Маша Полонская не купила в комиссионном магазине рояль фирмы «Беккер». В лифт он не помещался, и рабочие на плечах волокли его на седьмой этаж.
Это было не какое-нибудь современное пианино фирмы «Лира» или «Латвия». Это был старинный инструмент из выдержанного дерева, служивший, возможно, самому Михаилу Ивановичу Глинке.
Звук у рояля был глубокий, сочный, клавиши чуть тугие, что позволяло развивать технику. Маша преодолевала сопротивление клавиш, и звуки, летящие из-под ее пальцев, отзывались в ней весной. Такое чувство бывает, когда в апреле ешь первые огурцы.
Что касается Нины Демидовой, то у нее было совершенно другое чувство. Музыка за стеной доносилась с такой явственностью, будто кто-то включил радио. Слышна была каждая нота, каждая музыкальная фраза.
Детские крики за окном, шум машин – неорганизованные звуки улицы – ее, как правило, не отвлекали. Но Чайковский вырывал ее из необходимого рабочего состояния.
Нина затыкала уши ватой, потом повязывала голову махровой простыней, но все время ловила себя на том, что прислушивается, не могла сосредоточиться и падала духом.
Нина была человеком добрым и доброжелательным, но в такие минуты тихо желала, чтобы случилось что-нибудь в доме Полонских, в их накатанном благополучии. Например, сломала бы Маша правую руку и два года не подходила к инструменту. Или: посадили бы Юру в тюрьму, а Маша, как жена декабриста, последовала бы за ним в Сибирь. Или просто: поменялись бы Полонские на большую площадь и переехали из этого района в другой.
К Маше по утрам приходил певец из Москонцерта. «Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь. И слова любви в устах твоих немеют…» – пел Машин певец.
«В устах твоих немеют», – поправляла Маша мелодическую неточность.
Нина сидела с обвязанной головой, слушала переплетение двух сильных красивых голосов, и ей казалось, что лучшее в жизни обходит ее стороной, и она немножко завидовала Маше, которая умеет приспособить не себя к жизни, а жизнь к себе.
Максимову «Беккер» не мешал. Он проявлял пленки, печатал карточки, для этой работы ему не обязательны были ни вдохновение, ни особое состояние.
С Волковым же дело обстояло самым трагическим образом. Он был художник-плакатист, работал дома и по нескольку раз в день ходил к Маше выяснять отношения. То, о чем Нина Демидова тайно мечтала в тиши ночей, Волков обещал реально: обломать руки, посадить в тюрьму и даже обговаривал реальные сроки.
К обещаниям Волкова Маша отнеслась с юмором и продолжала играть – одна и с певцом. Поэтому в одно прекрасное солнечное утро к ней пришла повестка из районного суда, в которой сообщалось, что Маша должна явиться в суд такого-то числа по такому-то адресу. В случае неявки было обещано привести ее под конвоем.
– Ты знаешь? – Маша протянула Нине повестку. Лицо у Маши было растерянное.
– Знаю. – Нина знала о предстоящем суде и ждала его, как соловей лета.
– Я хочу попросить тебя пойти на суд. В свидетели…
– Зачем?
– Ты скажешь, что я тебе не мешаю. А то меня выселят.
– Я не могу быть твоим свидетелем, – отказалась Нина.
– Почему? – Маша подняла высокие брови.
– Потому что ты мне мешаешь. Не даешь работать. Говорить об этом на суде я не буду, поэтому я лучше не пойду. Обойдись без меня.
Маша помолчала, ее глаза наполнились слезами. Она повернулась и пошла, мелко ступая, как балерина.
В этот день она больше не играла на своем рояле, может быть, боялась тревожить соседей накануне суда, а может, просто была расстроена предательством Нины, предстоящим судом и неопределенностью положения в собственном доме.
Нина могла бы воспользоваться тишиной и работать, но ей тоже не работалось. Лежала на диване, смотрела в потолок и думала о том, что, отказываясь быть Машиным свидетелем, невольно поддерживает Волкова, который отрицательно заряжен и не прав в принципе всем своим существованием. Думала о том, что умеет быть широкой до тех пор, пока это не задевает ее интересов. А если так, то какая разница между ней и Волковым.
Бульдог Борька, чувствуя своим тонким организмом настроение Нины, томился, шумно, меланхолично вздыхал и слонялся из угла в угол, клацая когтями по паркету.
Суд был назначен на десять часов утра, но судья запаздывал, и члены жилищно-строительного кооператива «Художник-график» сидели в коридоре на деревянной скамейке. Ждали.
Свидетелем Маши была Нина Демидова. Она должна была сказать, что музыка за стеной ей не мешает, а, наоборот, вдохновляет и облагораживает.
Свидетелем Волкова был Максимов. Он должен был заявить, что рояль ему мешает, лишает необходимого одиночества.
Помимо Максимова Волков привел жену Риту и сына Славика, которые тоже страдали от шумного соседства и готовились предстать перед судом вещественным доказательством, живым укором.
Полы в суде были дощатые, скамейки деревянные. Все крашено чем-то бежеватым, тусклым. Люди ходили сумрачные, сосредоточенные, и Нина, не умеющая переносить обстановку судов, больниц – обстановку несчастий и зависимости, – мечтала, чтобы все скорее кончилось и она ушла домой.
Максимов сидел на лавке, ел плавленый сырок. Не успел позавтракать дома. Вид у него был сконфуженный, вероятно, от предстоящего лжесвидетельства. Почему он на него пошел, было не ясно, скорее всего Волков пообещал ему три, а лучше пять рублей и подарил плавленый сырок.
Группа Волкова держалась особняком. Когда Славик подошел к Нине, Волков резко оттащил его, хотя между Ниной и Славиком никаких противоречий не было.
Нина иногда поглядывала на Волкова, как бы спрашивая глазами его шансы на успех. Ей очень хотелось, чтобы Волков выиграл процесс, тогда она сохранила бы свой моральный облик и получила возможность работать по утрам.
Наконец появился судья. Все прошли в зал. Судья сел на стул с высокой спинкой, а по обе стороны от него – народные заседатели, две немолодые женщины.