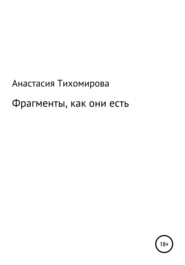
Полная версия:
Фрагменты, как они есть

Анастасия Тихомирова
Фрагменты, как они есть
ОПЫТ ГРАНУЛАМИ. ВСЕ, ЧТО ПРИШЛО В ГОЛОВУ ЗА СЕКУНДУ ПЕРВУЮ, ВТОРУЮ…
Я стоял коварно с ожиданием разрешения презумпции, которую сам сочинил отвратно, но толково. В чем отвратность? В координации, которой не было. Я прошелся по комнате – нагнулся и отсеялся далее. Рассеянность – вот, что хотелось бы. Но прозаичное стеснение блестящей концентрации охватывало больше, чем лапа голодного зверя при нападении. Кратко бы выучить хотя бы какой-то острый нос, треугольник, верхушку горы, незачем знать рассуждения, которые плыли и остывали, и плесневели, которые были «до» принятого решения и т.д., и т.д. Но хотя бы лакомый кусочек – результат, что-то после знака "=". Что угодно только не эти фоновые прыжки, которые не мчатся и не стремятся со скоростью водопада – нет. Я снова сел. Они даже не толкаются между собой. Это шепот и глухой крик, который заставляет только подозревать и оставлять это разодранное предположение, потрепанное мыслью неаккуратно. Новое поползновение движется против течения. Так что же делать? Положить левую на правую? Без критики писать восторженно и смело в кантовском спокойствии или писать медленно со всякой прочей цензурой. Я крутил на пальце кольцо от набора ключей и не гремел, но варварски надеялся на равновесие psicho в том продлении момента. Мой энтузиазм отброшенный и вялый, уже не для пользования прямого и не для созерцания, но для пропорционально-промежуточного начинания "если что" – он клеится к ощущениям, но трансцедентальный обморок меня не оставляет. Так что мысленная аберрация подкосила не только самим своим фактом, но и исказила гадание их, прогнозирование подушки безопасности, которая апатично будет следовать иерархическим принципам, душащих рано утром. О, этот полноводный кошмар, который плескается вверх тормашками, вода, заметьте, газированная, колючесть ее превосходит иглу, настолько газы остры, и поскольку на 70% я состою из воды, она дает о себе знать по утрам. Когда я пребываю в этом зажмуренном сжатом одиночестве меня коверкает отнюдь не совесть, но некоторая дамочка с рыльцем в парандже, насвистывающая в определенном контексте, сделав дыру, которая на штанах казалась бы кратером. Так вот своим мини-ртом она сделала отверстие в мое psicho, ничего нового в этих страданиях не дав, только разве что ее зажмуренные глаза звучали глухо, в них проглядывалось мучение, которое я созерцал или ел, но сам не испытывал, к сожалению, никакого наслаждения от собственного потенциального проживания вреда или, говоря обще, страдания, невыносимости. Это утренний мрак давит своим скулением и неопровержимыми танцующими ликами с колкими носами, пригвоздил их к себе временем, случайно, теперь, только теперь, они стали грязными повторениями, что сотворили повседневность.
ГЛАВА 2.
Кстати говоря, возможно все это из-за того, что однажды, я взялся за выпивку. Эта оплошность с алкоголем стала для меня недоразвитой. Объясняю, я приноровился к пиву, когда случился эпизод, требующий этого вмешательства. Мне надоело рулить в опыте предсказуемом – в стиле водоворота, вращающегося по своей оси, жаждал новизны, которая встречалась в текстах по философии и поэзии, но она, эта новизна, была чем-то подпорчена, так что плесень не забавляла. Мне пришлось искать новшества в абсурдности. Но это не чистая, сама по себе абсурдность, ее делает таковой контекст, он развеселая и притягательная юмористка – да, но мне было запрещено пить, поскольку я принимал лекарства для psicho. Потому такой рев, который издала эта комичная дамочка – почти проститутка – алкоголь, моя близкая подружка, с ней я не общался долгое, очень долгое время, так как это было вредно. Но она ждала меня все это время с распростертыми ладонями, не всеми руками, конечно, но все же. Ладоней достаточно, поверьте, такой большой промежуток не быть вместе… – можно соскучиться, а можно возненавидеть и прочее, прочее. Так вот, я напился до чертиков, так что даже заиграл между прядей моих огонек или даже кривой нимб. Мне пришлось быстро шевелить пальцами, чтобы зафиксировать этот свежий опыт, под пеной пива и прочими рыхлостями. Я остервенел, но не нес чепуху, только поверил, что являюсь гением. Мои наконечники ума плакали, так как свисали очень дисгармонично. Итак, я принялся писать, в таком духе, ничего не разберешь в голове, тем не менее, у меня быстро вылуплялось еще не назревшее, оно выскакивало как дельфин. Все же открытие дверей приглянулось, еще бы дамочка-алкоголь была симпатична, только потому, что много обещала.
Из этого всего можно сделать вывод, что если желание и представление совпадают и настает момент решения: 1) Прозябать в этом вечно вращающимся в одну сторону становлении или 2) Совершенно поддаться своему желанию-предположению, чтобы вычленить свою идею и воплотить ее, сделать лично-культовой фигурой.
Но когда мне назначил психиатр дополнительную таблетку, которая, как оказалось, обеспечила верховенство образов и их сочетаний в гипер-быстрый поток, который можно разъединить только если сильно напрячься. Слонявшаяся и плюющая мастика жизни кровожадно растягивалось шпагатом в очень трагичной вакханалии тянущихся ног. Она была черной. Матовая. И билось мое сердце украдкой под этим темным небосводом. Который еще можно назвать дирижером, который сделал из солнечного сплетения барабан, любые инструменты казались для дирижера рабочими, он ими пользовался. Эта беспробудное с шоколадным оттенком течение низвергло все в развалины, которые ощущались картинно. Рим не сразу строился.
Потому я попробовал не писать день, целый день, так как собирался умереть. Все способы – были сложные, потому умереть сладко можно только во сне или собственной смертью при одряхлении сердца, мозга. Но мне только двадцать лет. Я не знаю, как умереть. Кроме того, что если смерть является последствие замороженного полуфабриката чувств и состояний их палитры, то есть смерть есть застывший в вечности осадок жизни. Что если это так? И уйти из жизни не равно покою… Что если это так? Вот, что больше всего волновало.
С другой стороны, я был очень ненасытным, так как все воспринималось мной как каверзное, с критической серьезностью. Везде вызов, как в скорую помощь – остро, метко, необходимо. Во всем видел необъятность, так как результат не был мне близок, но и сам процесс редко, когда радовал. Акт творения воспринимался очень зорко – редко, но без внимания – часто. Акриловые нейроны визжали с первозданным ритмом печатал, как авто-программа – бешенная, бешенная скорость. До неузнаваемости самого себя. Связано ли открытие этого потенциала с таблеточкой и пониженной внезапно самокритикой? Вряд ли, но возможно. Я хочу, чтобы это было вряд ли. Что опредмечивание мой дискурс на экране ноутбука было симфонией жизни. А музыке, кстати говоря, я страшно завидовал. Как появление этого безбашенного порыва, так и гниение в болотном цвете премножили доверие физиологическим принципам. Как иначе? До таблетки я не писал столько, кроме того, во мне сидела толстая пятая точка проблем.
Однажды, я был как под кокаином, писал и писал, и писал. Так словно могучее ветрило моих мышц воссияло призраком и было гонимо смерчем, в поисках насилия над собой, которая приносит наслаждение, так как она мне поддается как герой.
И скитания завершились счастливым концом. Незаметно и превратно, с некоторой вульгарностью. Я писал и писал, и писал. Все могло остановить, но не следовало превращаться в надменного поэта, который слагает, выпрыгивая из джинсов, не рифмы, но прекрасное сияние, от букв, каждая из которых становится вылитой. Я писал и писал, и писал. Видел только то, что внутри. Я писал, и писал, писал.
Экстремальный симптом нашествия бритого населения, которые мчатся или ползут всегда все по пропорциям стиля одинаковые. Правда, волокнистые разочарования не всегда сопутствуют, так что бросает в жар – то есть встречаются и люди с имиджем, но это такая редкость, что хочется чихнуть и сдуть их воздухом своей дырявой – из двух дырок фабрики. Как они ходят? Еле шевелятся, несмотря на быстроту, конечности сгибаются атрофировано, с дискомфортом, для них это напряжение души, голени и носа, который дышит уже слишком часто. Привычка спешить находится в сердце почти каждого, шатание в направлении компаса – ровное или нет, сбивает их с толку, вонзая хитрость походки, не прыская универсальной маркой. Они спешат, потому как сейчас им холодно или просто не могут "быть здесь и сейчас" – это правда, но не вся, как бы ее следует откорректировать надежно. Находиться здесь и сейчас, когда получил признание и стал даже учителем человечества, как мессия, очень удобно, все привилегии держатся за вас, господин.
Долго размышлял с несуразным инстинктом одухотворения, вернее, потребности в том, что прекратить любовное отношение к своему психиатру. Я только содействовал скрипучему синдрому беспрекословности относительно Юрия Сергеевича, относительно его преломляющейся картиночной броскости. Она вздымает и ставит на голову, так что кровь приливает остроумно и держится как в бассейне со стоицизмом и катастрофической балансировкой. Которая ввергает в покой, казалось бы. Но это вовсе не так. Когда вы смотрите в что-то неподвижное, вы можете отождествиться с этим, замереть, но чаще происходит противопоставление. И это терпимо.
Я предполагаю такое заключение: гении отличаются от среднего класса очень тонко. В речи это непоправимо незаметно, что ж, продолжу. Адекватными мыслями называл мой отец все подряд почти, что-то только ввергалось с неким опрятным рождением, без нагромождения и лестными замашками. Отец мой считал их – эти мысли – голосом судьбы, которые вещают внезапно и приходят как дитя или озарение. Если что-то выглядело просто и с пикантностью, то пусть это останется в рамочке. Обязательно надо прибить это насекомое с легкостью, чтобы не поломать крылышки – повесить в рамочку со стеклом. Каждая фраза, с которой он оказывался солидарен и если она была близка ему, то отсюда следовало неприхотливое обязательство превратить это в аксиому. Прославлять ее на коленях почти что… Стыд перед примитивизмом был настолько стеснен, что даже походил на камень. Рваные, отодранные представления – их куски, одетые в ненужные аксессуары, которые ничего-ничего не обозначают. Просто так выглядят. Были достоинством моего отца. Если вдруг я думал также, как и он – это превращалось в открытие. Затем праздновалось за мини-столиком в голове. Лихо мычать и с претензией у отца получалось несравненно. Но к черту его. Чтобы вдоволь возмущаться, надо искрить в разных ипостасях, язвить зверски.
Как-то раз я пошел к психологу. Мультяшный опыт. Но с намеком на мелодраму. Она говорила, что все мы воспринимаем через уже прожитое или уже ощутимое. Этот пример поражает своей узостью, в хорошем смысле этого слова. Только вот адаптация ко всем шероховатым теориям с длинной шерстью не применим. Кант считает, что существует чистое знание – трансцендентное или иное знание apriori. Оно может быть аналитическим или синтетическим. Дело в том, что по своим критериям я утратил испытание новизны при чтении, и писанине. И с этой жалобой рванул к Оксане Алексеевне. С надеждой, как это всегда бывает, что она раскроет карты. Но она их только спутала, нажав потным пальцем, немного соскользнув и задев все прочее. Она не просто предположила, но утвердила как бы занозу далее. Кроме того, это обоснование было крайним и слишком заезженным. Так что вульгарность кодировалась, чтобы снова не стать подобием интеллектуального совершенства. К чему этот обман? С внешностью отчаявшегося понятие провоцировало антисостояние своего эпизода оформления. Даже ему было стыдно за словечки и переодевание, которым смутила и в которое заставила одеться эта дамочка. Как это несносно. Оксана Алексеевна была чертом с бледной кожей и толстым лицом, так что притягательности нигде не наблюдалось. Но что уж там – лицо, жирные фразы, без костей. Каркас совершенно отсутствовал. Соблюдение некоторого закона в свою пользу шаталось с скоростью гиперкара Devel. Зачем мне это прославление уверенности, в местах, где я вижу только сомнение. Зачем мне это? Так еще платить за это деньги, за экскурс в псевдо-философию. Спорить с ней равно подрыванию авторитета. Психологи, даже клинические являются телами без костей. Они выбрали удобные выдумки и порхают ими до усталости. Так что это усталость дает плоды в форме гнилой мухи. Но заметьте, есть мясо, гнилая муха – это уже что-то, правда неприменимое почти нигде, но бросить ее в глаза можно, так чтобы она застряла. Как и сделала Оксана Алексеевна. Бросалась мячикам из мух , кружкам, размером с точку. Это были антивитальные осадки. Кислотный дождь. Но выглядел он с взглядом на ее авторитет очень примечательно, но отнюдь не гибко. Ее теория не сгибается вовсе. Она прямее прямоты. Как это уродливо.
Что касается Юрия Сергеевича – это талант, мега-мозг. Он совершенно внятно и стилистически блестяще создает гипотезы, которые далее никак нельзя вычеркнуть! Он хороший специалист и кажется трудоголик. Это призывает восхититься. Именно к нему я отношусь с дороговизной и клейкостью и иначе быть не может. Он мне очень дорог. Его холодный нрав сочетается с симпотизированием высокого полета. Он мне дорог.
Но вернусь к обсуждению, которое никак не касается сравнения двух фигур. Добавлю только, что Оксана Алексеевна презентовала некий треугольник потребностей, который отодрал меня так хлестко в первую секунду. Так что я не мог вникнуть. Оказалось, что он был распределен на человечество, которому нужно отдельно физиологическое удовлетворение, отдельно духовное, творческое. Причем духовное стояло выше творческого в этой пирамид псевдо-жизни, так как она видимо была рассчитана на кукл и кенов. Такое искусственное разграничение, которому хочется доверять, что все так просто. Смешение всех частей треугольника было антиприродным, так что для меня это превозношение ультиматума лужи ни в коем разе не было пригодным. Эти категории прятались под мякоть. Это не похожее на мягкость представление судьбоносно. Но тем не менее надо иметь какую-то умственную карьеру, чтобы различать ясность от блеска. Так что она со своими ошибочками твердого характера создала комичную ситуацию. Знаете, я желал признания, кроме того, я сказал, что хочу быть гением. И что вы думаете? Какая у нее реакция? Пока вы думаете, я приучу себя держать рот на замке, то есть дать вам время порассуждать.
Я с крохотным небом вместе, прикасаясь к его губам, говорил с бывшем другом, который и оставался как печать бывшим, тем не менее озарялся новым колпаком, который раздирает облака своим бульварным эпатажем. И наполянял своими воплями бактерии в моих царапинах. Кошкой скрывался в подъездах, когда мы играли в догонялки. Своим лбом он поливал цветы в ночных горшках. Так воротилась его мысль. он был так невысок, что даже не дотягивался до проводом, лежащих на столе. Своей ручонкой он лез куда не надо. Но все-таки все мужчины лезут своей ручонкой куда не надо. безоружная церковь ему могла приглянуться только при свете солнца, так как золотые купала сияли ему прямо в глаз. О, он обрученный своим браслетом на шее, обручен с ним, так как это крещение очень не формально, но скорее со всей кардинальностью. Со всем отрывочным поглаживанием и смертельным прикосновением. Дима бежит и трепет своим ожерельем, которое подпрыгивает то вверх, то вниз. Он влеком жезлами и всем тем, что напоминает фаллос. Так как он игривая нимфоманка-гей – такой вот диагноз. Платья он не носит, но скорее одет как стереотипный мужчина. Он заставляет потупиться и косить глаза, так что наш пакт несерьезен, поскольку это извращение является не то, чтобы отвратным, но каким-то кривым. Гей, женоненавистник, сам женщиной быть не хочет, презирает их в сексуальном отношении. Он ассоциируется у меня с решеткой, которая составляет его нутро, к которой он падок, терпко присобачился и живет в ней со всяким прочим туалетом. Его изящный мех, как на светской львице – его усы, есть клюющие, они похожи на пеликана. Его привлекает все большое. А, его усы подобны усам Ницше. Цветы в вазе для него не отрада, но некоторое преимущество по отношению к другим цветам. Которые все еще живут полноценно. Дикие цветы. Ведь он как и я считает прерванную жизнь более сладким изыском , нежели, какая-то другая длящаяся в сплетенном становлении, которое кончается только с повеления шага Бога. Я не верю в Бога. Но об этом позже. Дима мой протеже, вовсе не безразличный к окружающему, скорее, презентабельно зависимый от людей, как и в прочем я. То есть мы экстраверты. Дима верит в гороскопы и прочую дребедень. Но в нем есть и плюсы, простыней своего дыхания он открывает из черноты какую-то серую посредственность, но некоторые даже не умеют открывать – им не хватает личностного роста, чтобы дотянуться. Похоть, его похоть, островная тварь, которой постоянно чего-то мало. И постоянное нытье – конечно же, раздражает, но вызывает и понимание. Он тянет своим языком воздух , творя рельсы или какой-то пунктир, чтобы оправдать воздух, который на самом деле одержим субъективными поощрениями. Дима попросту снимает на камеру почти все подряд, так что эта одержимость словить время, которое и так уже хватается перцепцией. Он смазывает все трагичное до джема или меда. Как вы думаете, почему? Да потому что. Как иначе жить если не в иллюзиях, которое более с перцем, чем другие, то есть, как можно быть в правде, и какая в ней сила? Так говорит, как минимум, мой отец, что "Сила в правде", этот тот же систематически ошибочный предикат, который выдвигала Оксана Алексеевна. Только даже хуже, одной фразочкой выдрать из контекста и пользоваться универсально – в этом весь мой отец, жалкое существо. Дима и мой отец могут быть настолько иногда пленительные в своей ограниченности. Обоих я не люблю. Я люблю только свою маму и Юрия Сергеевича. С веселостью бешеной собаки я открываю глаза, которые почти всегда хмурые, тем не менее эта хмурость граничит с трезвостью. Это не та хмурость, которая присуща большинству идиотов для пущей концентрации, которой нет.
В петле его насморк и сам он уже давно, только вот она призрачная или прозрачная, или духовная. Он обдирает свои пальцы и буквы в книгах – это шутка, так как совсем он не обдирает буквы в книгах, так как он их не читает. Представьте себе, не читает. Ни капли, ни секунды. Идет над ним солнце или луна – никогда, поверте, он читает. Злоба цветов для него сочетание игрушечное и не воспринимаемое. Черт, мне надоело уже жаловаться на свое окружение. Простите меня.
На своих обоях без узора я вижу Юрия Сергеевича, вернее, ранее видела. Сейчас я пустой стакан. Собственно, о стаканах. Оксана Алексеевна тоже стакан, но полный ошибками и грязи. Так вот, знает, что она ответила на мое нейтральное завершение разговора вопросом: "А что если я хочу стать гением, первым поэтом века?"
– Гений, настоящий гений не может проситься стать гением!"
Это было бы проклятием для неженки. Но я тоже неженка, что же делать? Зачеркнуть все, что она сказала, выкинуть не правдоподобно и как-то хищно, но насущно немного поправить уголок этого суждения и принять его, новое почти что, исправленное суждение. Я, на самом деле, ждала, очень ждала ее присутствие
в моем присутствии. Об ожидании я еще могу сказать.
Ожидание чего-то и прикосновение к нему не всегда дает тот эффект, который можно заполучить в простом продлении времени, которое тянется руками и ногтями к непревзойденному, точнее, к тому что кажется непревзойденным, чаще всего исполнение желания хуже его ожидания, но всегда есть несколько процентов, которые показываю доступность еще не решенного. Эти несколько процентов составляют желания, которые не исполняются. Которые пробуждаются как-то раз и потом ждут, когда выйдет кто-то из ванной, чтобы занять ее и умыться. Все мы находимся в ожидании Годо, кто-то больше, кто-то меньше. Тоска, которая не дает покоя, вот , что заставляет ждать. Загробные визгливые желания, которые не дают помучиться сполна, но только отрывками. Отрывистыми ударами понимания конца. Сумасшествие, которое не гонится за искажением, но только за точностью, определенностью, пением цикад и исступленный нож между зубов, все это в одной картинке. В забитом странствовании и плюшевом различении этого путешествия я нахожу еще одну монаду в этому этом. Каблуки этого танца очень вихревые, несмотря на толщину этого каблука. Мглистая дорога, которая прозябает в своей узости есть истощение восстанавливающее и мечтательное.
Мои скулы сражаются за эзотерическую пищу своего презентабельного вида. Они как будто жестяные и чехарде измотанные лепестками ветра. Осилить который можно только с трудом загинания мускул лица, ветер – есть чужие лица перед которыми надо выглядеть напыщенно, чтобы обезопасить себя. Ведь фильтрация и распознавание происходит по принципу удовольствия – то есть когда вы видите чужака с жирно-надменным лицом, то сразу бросается идея его скрытности кувыркания на кровати с какой-то простушкой или любого иного удовольствия, которое оставляет отпечаток. Если надменность усредненная, серая, посредственная – в этом есть что-то живое и настоящее, то есть не наигранное. Тоже касается и серьезности и прочего хлама, который горбится на лице в созвездие. Изъезженный центральный момент – на лице могут читать озабоченность, проникновение, грусть и прочее, прочее – это предвзятость указывает на нищету ума. Когда я однажды шел со шваброй, купленной в ОКЕЙ, она была вместо флага, то скорее это замещение флага свободы подобало только смеху, которые смотрелись как смертельный разрез на полотне. Хотелось сказать: "Что ж, зубастые, опрокиньте свои ожидания, я просто несу швабру."
Знаете, мне надоело программировать в субъективность то, что я вижу внешнее – деревья, лужайки, солнце. Описывать, как я их вижу. Больше новизны можно собрать с описания истинного субъекта или субъектов и их отношений.
Кроме того, эти тяжелые, иногда обвинительные суждения никак не контрастируют с валянием на пляже. Если я лежу на пляже – я не стану нежиться на солнышке, и верить в это. Что отдых увлеченный в помощи своей инстанции-работы – обязательно творческой. Отдыхать для работы, но не от нее. Я это слышал много раз. Но некоторые теряют стрелку между отдыхом и работой – чаще получается так, что мы становимся трудоголиками, поскольку остановится непривычно и можно утонуть и задохнуться в этом нерегулируемом балансе. Равновесие между трудом и отдыхом еще сложнее, чем работать часами-часами. Редкие прогулки меня сопровождали чем-то мучительным, но от них я был голоден к писанине. Это заставляло меня концентрироваться, как лимонный сок обжигать и не жалеть ничто. Как с Димой – я несколько раз уходил от него, фактически бросал, когда внезапно чувствовал кончину нашей прогулки, если он сообщал, что пойдет по делам уже скоро – я не мог этого вытерпеть и обрывал прогулку сразу же. Или случаи – кидал его потому что сочность слагаемых стояла в голове смирно, из уважения молчала и я не мог к этому относиться просто или безразлично. Мне хотелось поддерживать наш контакт. Я и сочность слагаемых. Тем не менее, я хотел расцеловать голову Димы за его понимание и отсутствие обвинений. Вздыбилось ржание моих волос – они становились торчком, так как я постоянно их зачесывал назад и это оперение головы без потенции к лысым идеям, было для Димы шуточным. Как-то раз я сказал ему, что я панцирь от бренда Rich – он рассмеялся и продолжил со мной общение, которое хотел остановить. Это окровавленное бредом выражение спасло наши с ним отношения. Тротуаром щекоча себе ноги я прогуливаюсь всегда с кем-то и иногда можно наткнуться на разрисованную находку. Чаще всего эта находка соперничала с окурком, который случайно заметил, так как он испачкал подошву белого кроссовка. У меня вытекал глаз, так что я не совсем мог быть вменяемым, но и видел приближенно – через пенсне, которое постоянно падает, слетает стервятником. Зато у пенсне есть плюс – не нужно шаркать в сумке, чтобы найти лупу. Я стоял под вывеской, которая как будто стрелкой указывала на меня, тыкала глубоко через горло прямиком в сердце. В ту же минуту орал аэроплан, царапающий голубой желудок. Солнце было дряблое, так что не горело напыщенно, но просило всех успокоиться. По людям текло, не вынимая их души вовсе, долголетие этого неба. Которое только сегодня было "этим". Какая-то конкретика перебивала меня и тормозила, как лежачий полицейский. Эта шкатулка поползновений облаков меня нарушала, мне хотелось видеть чистоту, которой в природе почти нет, но она есть у солнца, у капли дождя. Которую, в свою очередь, отвергала Оксана Алексеевна. Когда взгромоздилась на меня своим свирепым доказательством. Я провалился в сон, как неожиданный случай – так внезапно, повис в нем, как капля на ландыше. Парик сна не овладел лбом, так что мне снилось как я проживаю эпизод из жизни снова, но только тогда он мне казался новым и случившимся поверхностно задев меня – я истязался в этом сновидении. Что-то негативное с тростью и замашкой тривиального проходимца, который что-то из себя возомнил. И проходился этот проходимец со мной – я был как будто на поводке. В свое оправдание хочу сказать, что если бы сон выдался праздничным – меня бы это не остановило. Я бы все равно скулил и жаждил большего. Кстати, следует сказать у меня шизотипическое расстройство личности. Но это не мешает моей материи, которую я создаю с каждым днем. Это скорее является причиной моего помешательства на писательстве. Я вам так скажу, что это не точное указание и обвинение расстройства, как двигателя моего расставания быстрого со всем подряд, это кроме того моя натура, которая прилично выглядит для меня. Кто-то, возможно, заплачет над тем, что я пишу. Но мое упрямство тратить время только исключительно плодотворно – есть загнивание среди множества предположений, которые меня удерживают, но и которые одновременно дают источник. Шмыгнуть от барабанного боя сложнее, чем замереть – мы ведь чаще всего не показываем свой страх, думая, что это слабость, но самом деле, это только и только чувствительность, которая плодотворна, она необходимо нужна. Потому что глупая вилка выбора не играет ни на каком инструменте при страхе, так как он всемогущ, но при этом он является, сгибаясь под ужасом ненастоящего поведения, я начинаю выветриваться как газированная вода. Сколько сил тратится на то, чтобы испытывать страх, но иногда он чертовски воодушевляет. Итак, вкрадчивый сон прокрался. Ха, если бы. Он пришел с топотом, потому я его принял. Как можно было ему отказать?

