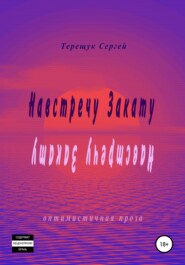
Полная версия:
Навстречу закату

Сергей Терещук
Навстречу закату
Introitus
– Как он здесь оказался? – ревёт неистовый океан.
– Что он делает? – свистит ветер.
– Он не умеет летать! Он разобьётся! – кричат встревоженные чайки.
– Самодовольный безумец! Несчастный! – шипит солнце, погружаясь в воду.
По берегу бежит человек.
Он оставил машину на краю дикого пляжа и побежал. Его босые ноги вязнут в прохладном песке.
Но он бежит.
Соленый ветер треплет его слипшиеся от пота волосы.
Но он продолжает бежать.
Он бежит прямиком к обрыву. Он расстегивает на бегу рубашку. Он раскидывает руки в стороны. Воздушный поток развивает за спиной шелковую ткань. Ещё секунда, и он взлетит.
Но, нет! Он продолжает бежать…
К обрыву…
А если посмотреть на происходящее глазами песчинки? Такой крошечной и беззащитной. Она лежала тут никого не трогая, не усложняя жизни и воспринимала окружающее как должное. Без лишних вопросов о смысле ее бытия и прочих непонятных вещей. Лежала столько лет… что даже и не вспомнить сколько. А он, такой огромный, ворвался босой ногой в ее жизнь, безжалостно разметав сестер и братьев по ветру. И унесся дальше, не ведая, что сотворил. Одним шагом перевернул сотни ни в чем не повинных судеб. Изменил песчаный мир навсегда. И этот его шаг останется единственным в памяти несчастных песчинок.
А если взглянуть на эту картину глазами Времени? Оно тоже ничего особенного не делало. Оно просто было тут всегда. Было, есть и будет. Никого, не трогая и ни о чем не спрашивая. Это ему все задают вопросы и предъявляют претензии. А оно ведь просто идет. Шло и будет идти. Вот уже сколько лет, что даже и не представить. Такое старое, молодое и совершенно без возраста. Для Времени этот бегущий человек сам как песчинка, затерянная в пространстве. И на крохотное мгновение застрявшая в памяти. А Времени до него нет никакого дела. Абсолютно. Оно холодно и индифферентно. Это у бегуна с ним проблемы. У Времени для нас нет ни секундочки времени. Это мы стараемся с ним что-то сделать. Пытаемся остановить, замедлить. И как бы это смешно ни звучало, желаем управлять им. А в сущности пытаемся организовать сами себя. Когда же не получается, жалуемся на Время. А оно всегда опережает нас. Каждую секунду. Оно, в сущности, далеко впереди… и позади… и вокруг нас. Как бескрайний океан. Мы же барахтаемся в нем, размахивая руками и зовя на помощь.
Так как же нам быть? С какой точки зрения посмотреть на неизвестного мужчину? Из живых, теплокровных и живородящих, то есть млекопитающих, ну, в смысле мыслящих существ, тут только мы с вами. Непричастно наблюдаем со стороны. Я хочу сказать, что мы такие же человеки, как и он, а значит, только мы можем адекватно взглянуть на происходящее. И как только мы это сделаем, отбросив лень и предрассудки, безразличие и надменность, в этот самый момент тут же возникнет закономерный вопрос:
– Какого корабля мачтового этот гражданин тут потерял? Зачем он бежит? Откуда? Или от кого?
И не надо смотреть на меня искоса, а тем более с угрозой в недоверчивом взоре. Да, вы тут по моей вине. Даже по моей прихоти, если вам угодно. И, конечно, мне известно немного больше, чем вам. Поэтому, чтобы вы поняли смысл своего присутствия тут, я расскажу все, что знаю. А примите вы это или нет, это уж как сочтете удобным для себя.
Но прежде давайте еще раз взглянем на нашего героя. Вы тоже это видите? Да! Он из последних сил перемещается в пространстве к обрыву… но его лицо… На нем нет печати страдания и тени сомнения. Напротив! Выражение совершенного счастья и гармонии с самим собой…
При этом человек неумолимо стремится навстречу Закату…
Теперь я поставлю на паузу эту незатейливую короткометражку про бегущего гомо сапиенса в стиле неореализма и начну рассказ. И начну, пожалуй, знаете с чего? С самого начала. Нет, не с того начала начал, когда материя сжалась до каких-то там критических размеров и произошел взрыв и началось вот это вот все, в чем мы с вами обитаем… Тем более, что свидетелем этого события я не был. И не с того начала, когда его родители в предгорьях Карпат в старенькой гостинице занимались безудержным сексом на скрипучей кровати. Этого я тоже не видел. Но так мне представляется в моей фантазии. А начну уже, наконец, с начала конкретно этой истории. С первого шага к этой точке на карте, который он сделал шесть месяцев назад. С поворотного события. Или точнее будет его назвать переворотным. Так как оно не просто повернуло, оно перевернуло всю его жизнь с ног на голову. И произошло это так, как обычно случается все самое важное – катастрофически внезапно. То есть, когда мы к этому абсолютно не готовы. Застигнутые врасплох, тепленькие и беззащитные. Произошедшее проникает в самую суть, бьет по оголенным нервам, как зубной врач холодным острием. И вскрывшаяся истина сопровождается нестерпимой болью, за которой следует прозрение.
Kyrie
От песнопения «Kyrie eleison» происходит русское слово «куроле́сить» (простые прихожане не понимали греческих песнопений, произносимых наспех – «куролес» стало синонимом бессмыслицы).
Подарок.
Алекс, а именно так зовут этого мужчину, проснулся раньше будильника, в холодном поту от ужаса, что его жизнь прошла мимо. Вся. Абсолютно. Не исключая момент рождения. Даже, скорее всего, как раз начиная с этого самого момента. С момента первого вздоха и до вот этого выдоха.
Роды были фееричными, даже в чем-то искрометными, как залп одинокой новогодней хлопушки… Забытой в чулане.
Юная роженица. Зеленые стены операционной в старенькой деревенской больнице. Медицинское оборудование времен Ледового побоища. Молодой врач гинеколог, он же ветеринарный доктор по совместительству, принимающий роды у колхозной живности, и глуховатая старушка-акушерка. И еще слегка припоздавший новоиспеченный папаша. Вот все, кто был свидетелем неожиданного появления Алекса на свет.
Почему неожиданного? – подмигивают в нервном тике, как бы спрашивая нас, электронные часы.
А вот почему!
Молодая семейная пара знойным сентябрьским утром 1967 года, 25 числа, решила провести выходные вдали от городского шума, гама и пыли. На автобусной станции они сели на первый попавшийся автобус. Конечным пунктом значилось неведомое молодоженам село Межирич. То, что ехать предстояло пять часов, их ничуть не пугало. И то, что дорога обещала быть похожа на стиральную доску, не остановило. И сочувствующие взгляды других пассажиров не вызвали подозрения. Молодые жаждали движения и приключений. И ничего, что на седьмом месяце беременности.
Наглотавшись дорожной пыли и встряхнувшись как следует, счастливые, они покинули старый ПАЗик на конечной станции и отправились куда душа поведет. Не задумываясь о последствиях, совершенно юные мама и папа Алекса, повстречавшись с диковинкой в виде стога сена, устроили безудержное катание с его вершины. Неудачное приземление вызвало странные новые неизвестные ощущения внизу девичьего живота. А тут еще и дождь начался.
Весело хохоча, они добежали до ближайшего здания, которым оказалась свиноферма. И тут под недовольные визги и презрительные похрюкивания у девушки начались схватки.
Свинарка, ухаживавшая в тот момент за поросятами, со всей своей необъятной сердобольностью откликнулась на панические призывы о помощи. Она предложила молодой паре мотоцикл «Урал» в качестве средства экстренной доставки роженицы до больнички. Но потенциальный папаша пользоваться данным транспортным средством не умел. Тогда женщина, чертыхнувшись: “Эх, городские…”, отыскала в подсобке что под руку попалось в виде одноглазого сторожа Борьки, спавшего в облаках вечно свежего перегара. Извлекла его, полусонного, на свет божий. И усадив девушку с невменяемым пастушьим телом на двухколесное чудовище, отправила по скользкой, размокшей, разбитой тракторами дороге “к Савельичу с Леонидовной роды принимать”.
– А ты чего? – обратилась она к молодому человеку, когда мотоцикл, вихляя и весело раскидывая комья грязи, скрылся за пригорком.
Он в ответ растерянно развел руками и заплакал от беспомощности.
– Тя как кличут, горемычный?
– Василий! – всхлипнул парень.
– Ну, вот что, Василек! Неча тут сырость разводить! И так вон поливает как из лохани!
– А чего делать? – проскулил молодой человек, размазывая слезы, дождь и пыль по лицу.
– Бери свои длинненькие ноженьки в свои же тоненькие рученьки и дуй, милай, за моциком! А то самое главное в своей жизни худущей профукаешь!
И женщина, шлепнув огромной мозолистой ладонью по плечу городского гостя, вывела его из анабиоза и придала нешуточного ускорения. Длинный худенький парнишка побежал за мотоциклом, путаясь в ногах, руках, слезах и струях осеннего дождя.
– Вот обморок ходячий… – произнесла ему вслед свинарка, широко перекрестила, рассекая знамением струи дождя, и пошла к своим подопечным. – Иду, иду, вы ж мои хорошие!
По дороге она ласково пнула свиноматку по розовому заду резиновым сапогом.
– Манька! А ты когда уже родишь, шельма! – поскользнулась и шлепнулась в свежую кучу навоза.
– Да чтоб вам всем провалиться…
Василек, будто услышал пожелание и потеряв равновесие, скатился за пригорок, демонстрируя чудеса бобслея в тракторной колее. Он скользил вниз неуправляемым болидом по жирной грязи, даже не предпринимая ничего для собственного спасения. Отдавшись на волю судьбы, Василий иногда тихонько всхлипывал: “Ой, мамочки, хера себе!”, уносимый дождевыми потоками. Длинный пологий склон был частью глубокого древнего русла, на дне которого покоились валуны, оставленные древним же ледником. На противоположной вершине оврага как раз и примостилось покосившееся от сырости село Межирич.
В тот момент, когда молодого человека выбросило из колеи и шмякнуло о доисторический камень, мотоцикл с его супругой издал непристойный звук, что обычно случается с человеком от чрезмерной натуги, и скрылся из виду, взобравшись по склону. Стадо, мирно жующее траву в лощине, встрепенулось от испуга. Старому племенному вожаку спросонья показалось, что над ним щелкнул грозный хлыст пастуха, и он, взбрыкнув задними копытами, пошел легкой рысью на лежащего в отключке Василька, увлекая за собой пятьдесят шесть голов рогатого скота.
Ударившийся головой молодой человек только-только начал приходить в сознание. И если бы не пастух с своими двумя овчарками, бросившийся на перехват, то неизвестно, какая отбивная вышла бы из хрупкого долговязого парня из-под двухсот двадцати четырех копыт.
– Ты как? – спросил мужчина, приводя молодого человека в чувства.
– Вы кто? – Василий ошарашено смотрел на жующее стадо, на мокрых собак, на дядьку в плащ-палатке.
– Егорыч я, пастух местный! А ты откель такой свалился?
Парнишка еще раз встретился взглядом с быком, вопрошающим грустными коровьими глазами, глянул на верх склона, откуда произошел его стремительный спуск, потом в направлении исчезнувшего мотоцикла, осмотрел себя, извалявшегося в грязи, почесал слипшиеся на затылке волосы, и тут его неожиданно озарило.
– У меня жена рожает… – только и смог ответить он, оттолкнулся от пастуха и сначала побежал, а через десяток метров пополз на четвереньках по мокрому склону вслед за молодой роженицей.
– Не местный… – задумчиво проговорил пастух вслед карабкающемуся незнакомцу и с подозрением посмотрел на торчащий из земли камень. Лощину Егорыч знал с детства, как все мозоли на своих пальцах, но этого камня он не помнил. И заподозрив неладное попытался сдвинуть странный булыжник в сторону. Но ничего у него не вышло. Поковыряв землю вокруг рукояткой плетки, пастух понял, что камень уходит вглубь и просто так его не взять. Был он подозрительно округлой формы и имел матово-желтый блеск. В тот момент, когда в голове пастуха мелькнула мысль вернуться сюда на следующий день, прихватив лопату, мотоцикл с роженицей остановился у дверей сельской больницы.
– Савелич! Леонидовна! – заорал матом Борька. – Рожает, леший ее так!
– Манька? – в окне показалась круглая лопоухая, в очках-линзах, голова молодого специалиста широкого профиля, Григория Савельевича по паспорту, в народе именуемого Гриня, а по-сельски, почтительно – Савелич.
– Не! – грустно протянул Борис. – Баба!
Он обернулся через плечо, чтобы указать на роженицу, но впал в крайнее изумление, не увидев ее на сидении. Девушка к тому времени сползла за мотоцикл и рвала там, стоя на четвереньках в полуобморочном состоянии.
– Твоя? – выскочила на улицу Валентина Леонидовна. – Ууу, так бы и дала промеж… глаз!
– Окстись… – сплюнул махорку одноглазый сторож Борис. – Городская! Я вообще спал, когда она рожать удумала… Меня, вишь, мама Глаша разбудила… (Так в селе звали заслуженную свинарку, члена партии и обладателя Ордена Трудового Красного знамени, Глафиру Тимофеевну.)
Но Леонидовна не собиралась выслушивать всю душещипательную историю пробуждения Бориса.
– Помогай, давай, сокол ты наш ясноглазый! – оборвала она его, подхватывая девушку под левую руку.
Борис тут же схватил роженицу под правый локоть, и они потащили ее внутрь здания старой больницы, которая и не такое повидал на своем веку.
И если бы стены могли говорить… Если бы мы могли их услышать, то узнали бы, как восемнадцатилетняя комсомолка Валя пришла сюда работать медсестрой в далеком 1928 году. И как переступила она только что выкрашенный порог и на следующий день стала специалистом широчайшего профиля. Потому что была единственным человеком в деревне, имеющим хоть какое-то отношение к медицине. Потому как ничего другого ей не оставалось. Потому что тамошний бессменный фельдшер, устав принимать больных на задворках библиотеки, решил отметить окончание строительства отдельно стоящего здания больницы, а также приход молодого специалиста в лице Валентины Леонидовны, и так увлекся этим делом, что скоропостижно скончался, упав с новенькой крыши и сломав себе позвоночник.
– И какой бес понес его на верхотуру? – спрашивал потом председатель колхоза у заплаканной комсомолки Вали.
Она в ответ только пожимала плечами и вытирала слезы.
– Ну, значит, так тому и быть, Валентина. Принимай лазарет! Будешь тут за главного.
Так и стала комсомолка Валя за главного, за старшего, за доктора, за медсестру и много еще за кого. Нет, сначала ей искали подмогу. И даже несколько докторов приезжало… Но надолго никто не задерживался. Последний 20 июня 1941 года приехал. Всего-то на неделю. А потом уж не до этого было. Так и стала девушка Валя единственным и бессменным “дохтуром”, освоившим со временем все смежные, встречные и поперечные профессии и специализации. Дойдя до всего своими руками, головой и сердцем. И доросла до почетного звания Леонидовна. Хотя в трудовой единственной записью так и числилась она медицинской сестрой.
А еще стены этой уставшей, но все еще стоящей самостоятельно, больницы могли бы рассказать, как пришедший с войны, здоровый и невредимый рядовой Борис, двадцати пяти лет, грудь в орденах, отметил свое возвращение домой и затеял бодаться со своим тезкой, племенным быком, называя его фашистской мордой. Чистокровный русский бык Борька, советский до последней клеточки своей говяжьей души, не выдержал такого оскорбления и выбил рядовому Борису левый глаз. И, конечно же, знакомая нам уже Леонидовна оказала первую помощь.
– И какой бес понес его бодаться с этой скотиной? – традиционно спросил председатель на пенсии.
На что совершенно четко и на сей раз без всяких там слез Валентина Леонидовна ответила:
– Delirium tremens… Белая горячка.
А десять лет назад случился праздник и на больничной территории. Приехал молодой врач по распределению. С дипломом, пахнущим типографией, горящими широко раскрытыми зелеными глазами, жадными до деятельности руками и еле пробивающимся пушком на щеках. Заикаясь от застенчивости и покрываясь потом, он представился Григорием, и уши его заалели.
– Господи! – всплеснула руками Леонидовна. – Дитятя! Ну ей бо, ребенок! Как тебя мамка-то называет?
– Гриня… – тихо произнес молодой человек.
– Гриня!.. А батю твоего как зовут?
– Савелий… – прошептал парнишка.
– Ну, вот что, Григорий Савельевич… – Валентина Леонидовна взяла парнишку за плечи. – Будешь главным дохтуром! А то устала я… да и слышать стала плоховато. Как через вату. Люди жалуются, а на что, я ужо не всегда понимаю. Так, не ровен час, неправильный диягнез поставлю. Принимай хозяйство.
И Леонидовна, приобняв Гриню по-матерински, ввела его под своды деревенской больницы. Где он стал полновластным хозяином. И с годами заслужил общее уважение, приобрел высокое звание Савелич, растерял свои волосы и посадил зрение. А Леонидовна, умудренная своим горьким опытом, и впрямь стала ему вместо матери, оберегала от напастей и сдувала пылинки.
Так они вдвоем и дожили до того памятного дня в сентябре 1967 года.
Вы спросите, какое это имеет отношение к истории? А я вам отвечу. Все имеет отношение к нашей истории. Да! Отношение имеет все! Все, что хоть как-то связано с нами во времени и пространстве. Все, что хоть как-то повлияло на нас и на наше появление на свет. Коснулось наших тел, наших мыслей и нашей души. Все это то, из чего мы и создаемся, и все это то, из чего в результате мы состоим. Принимаете вы это или нет. Нравится вам такое или вас от этой муры тянет блевать! Но мы – это большое скопление воспоминаний, желаний, стремлений и чувств. И не только наших собственных, сугубо личных. И от нас зависит, станет все это кучей мусора на краю галактики или засияет скоплением звезд, вроде млечного пути. Хотя иногда нам и кажется, что в наше колесо некто нехороший воткнул огромную безобразную ржавую хреновину, и оно не крутится, и телега наша не едет… Но ведь мы сами срулили на ту дорожку, на которой нас и поджидала эта ржавая хреновина… Это уже вам лично от меня.
Что же касается нашей истории.
Так вот… В тот момент, когда “дохтур” Савелич и акушерка Леонидовна укладывали на операционный стол девушку по имени Алла, а одноглазый сторож Борис трясущимися руками закуривал на крыльце козью ножку, из-за пригорка на околице показалась мокрая голова с огромной шишкой на лбу. Потенциальный молодой отец был похож на юного однорогого фавна, который отстал от праздничной вакханалии по случаю появления на свет своего первенца и в данную секунду занят отчаянными поисками трудового коллектива под руководством бригадира Диониса.
– Чур меня! – вскрикнула увидевшая это явление тетка из коровника и выронила ведро со свежим молоком.
– Где роддом? – ответил запыхавшийся Василек.
– Такого нема, родимый… – придя в себя, ответствовала женщина. – А лазарет, это тудой!
Она махнула рукой вдоль единственной улицы и, повинуясь ее указующему жесту, фавн Василий поскакал, шлепая отсыревшими копытами фирмы “Цебо”, навстречу своему преждевременному отцовству.
Мимо проносились, убегая в прошлое, белые хаты с соломенными крышами. Крынки на плетнях отсчитывали неумолимые секунды. Время – размокшая промокашка – расползалось и просачивалось сквозь пальцы, и не было никаких шансов удержать его в руках.
Щелкнули ножницы, перерезая пуповину как торжественную ленту и делая отсечку на воображаемом фамильном хронометре, чтобы запустить новый отсчет времени, народившейся жизни.
Одновременно с этим стартовым “Клац”, показав единственно возможное время на круге, не лучшее и не худшее, просто единственное, потому как сравнивать было не с кем и не с чем, через финишную черту порога больницы перешагнул промокший от пота, дождя, грязи и слез Василий.
– Хули так долго? – участливо встретил наконец добежавшего парнишку нервно курящий Борис.
Молодой человек хватанул ртом воздух, неопределенно махнул в сторону и заскользил по кафельному полу, оставляя следы грязи, похожие на раздавленных слизняков. Его и без того несуразно длинные и непослушные ноги разъезжались во все стороны. В этой какофонии взмахов и движений казалось, что непослушных конечностей гораздо больше, чем положено одному человеку. Ну, как минимум восемь. Это был осьминог, упорно пытавшийся продемонстрировать чудеса фигурного катания и выполнить тройной тулуп. Безумный танец происходил под стоны роженицы, разносящиеся по коридорам, и неистовое сопение и бормотание самого Василька.
– Аллочка… – шептали его губы.
– Аллочка… – беспомощные слезы сжимали горло.
Сбившееся синкопами дыхание и врожденное чувство приличия не позволяли кричать.
– Аллочка… – хрипел Василек, глядя на расплывающуюся надпись “Операционная”.
Внезапно тишина ударила по барабанным перепонкам. Сквозь тихий звон Василий слышал только собственное дыхание. Он с трудом проглотил тягучий ком и потянулся к дверной ручке. В эту же секунду заботливые руки Леонидовны протягивали еще не осознавшей свое счастье мамаше мальчика пятидесяти двух сантиметров в длину, четырех с половиной килограммов весу и двух минут от роду. Ребенок задумчиво смотрел в потолок еще не видящими голубыми глазами и кому-то улыбался.
Обретя статус молодого отца, Василек, осторожно приоткрыв дверь, стал медленно протискиваться сквозь образовавшуюся щель между створками и тут же замер, пригвожденный неожиданным возгласом.
– Уберите от меня “это”! – прокричала уставшая от боли и страха Аллочка и отбросила в сторону четыре с половиной молчаливых килограмма трех минут от роду. Ничего не понимающий младенец, виноватый только в том, что он родился, повинуясь закону всемирного тяготения, устремился к земле. По всей видимости, подчиняясь этому же закону, стали вытягиваться лица Василия и Савелича, а также отвисать их челюсти и округляться их глаза…
– Я хочу спать… – думала в этот момент, следя за параболой полета, мама Алла.
– Не успеть… – молча констатировал Гриня Савелич, оценивая траекторию падения и препятствия в виде операционного стола на своем пути.
– … – ничего не думал Василек, уставший от погони.
Вселенским параличом ознаменовалось Внезапное Жестокое Решение Судьбы. Все и вся подчинились ее воле… Холодная неизбежность сковала мироздание. Время застыло. Пространство заледенело. Стены, окна, предметы, люди покрылись инеем…
Единственным человеком во всем мире, не согласным с таким исходом, оказалась старенькая акушерка Валентина Леонидовна. Она, конечно, была глуховата, но никак не слеповата и все еще могла похвастаться неплохой реакцией. Именно она, бодро и непринужденно, поймала будущего Алекса в полуметре от кафельного пола. Именно она остановила руку злого рока, прервала фатальное падение. Комсомолка Валя, обладая непокорным атеистическим нравом, пошла наперекор несправедливому, по ее мнению, решению, которое в корне не соответствовало ее личному представлению о счастливом будущем, да еще и было принято кем-то некомпетентным и где-то там непонятно где.
Как раз в этот исторический момент в операционную ввалился докуривший свою козью ножку Борис. Он часто заморгал единственным глазом и пробубнил:
– Че тут робится… – потом оценил ситуацию зорким оком и добавил. – Вы охренели детями кидаться??? А еще городские…
Все это могли бы рассказать зеленые стены операционной старой сельской больницы… Если бы они могли говорить… Если бы могли мы услышать…
На следующий день все уже было хорошо. Даже очень хорошо. Так хорошо, как редко бывает. Мальчика холили и лелеяли. А что касается первой реакции молодой мамаши, то была она результатом шока, потом-то она души не чаяла в своем первенце. До последнего удара своего сердца…
Однажды мама рассказала Алексу эту историю, произошедшую в селе Межирич. Рассказала, как веселый анекдот. Восьмилетнему мальчугану, кормя при этом грудью годовалого братика. А Алекс, не моргая смотрел на маму, не зная, как реагировать. Она смеялась, а у него в ушах звенело “уберите от меня это”… “Это”? “Это”– что? Предмет? Кулек? Комок мяса? Вопрос так и остался без ответа. Однако мальчугану хотелось доказать, что он совсем не “это”. А потом история неожиданного рождения выцвела, поблекла на фоне новых радостных событий и была отправлена в дальние уголки памяти вместе с другим ненужным хламом. Там она покрылась пылью, затянулась паутиной. “Анекдот” забылся сам собой…
А что касается того камня, о который треснулся головой Василий, то он оказался суставом окаменелой берцовой кости гигантского мамонта.
Все эти, описанные выше, мысли промелькнули в голове Алекса стремительным куролесьем, между отрывом головы от подушки и принятием сидячего положения на кровати.
Итак.
Он проснулся раньше будильника в холодном поту. Сел на кровати. Вытер капли пота со лба, машинально надел тапки и… вспомнил, что сегодня в двенадцать тридцать ему исполняется пятьдесят три года.
Сегодня день его рождения!
А жизнь прошла мимо…
От этой мысли по спине пробежала холодная сороконожка и резко кольнула под левую лопатку своим огненным жалом. Нервная система отозвалась электрической дрожью.



