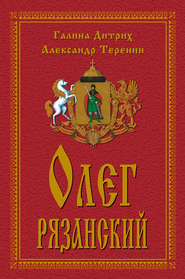
Полная версия:
Олег Рязанский
– Да! Но при чем здесь моя Лопасня?
– Не ты ли, Дмитрий Иваныч, обещал за помощь, супротив Ольгерда, отдать Лопасню? Да или нет?
– Да. Обещание было, но услуги не было. Не могу я за одно лишь стояние возле Москвы отдать тебе мою Лопасню?
– Изначально Лопасня чьей была? Рязанской. А прадед твой князь Даниил воспользовался случаем и примкнул Лопасню к себе!
– Я не несу ответственность за то, что произошло 150 лет назад! Лопасня досталась мне в наследство и я могу подтвердить это, если ты, Ольг Иваныч, не возражаешь?
Олег Рязанский не возражал и хозяин распорядился позвать из подполья-хранилища человека с бумагами, касаемыми описаний земель московских.
Князья не успели и раза чихнуть, как подпольный человек предстал перед ними. Нашел, что нужно, откашлялся:
– В год 1263, когда безвременно почил доблестный князь Александр Ярославич, прозванный Невским, его сыну Даниилу в удельное владение отошел окраинный угол владимиро-суздальского княжения…
– Пропусти, – перебил князь московский, – и читай касаемое Лопасни.
– Согласно записи в духовной грамоте Ивана Калиты от 1339 года, Лопасня в числе двадцати других населенных мест отошла его сыну, а по следующей грамоте, все те владения с упоминанием Лопасни переписаны на имя ныне правящего князя московского Дмитрия Ивановича в совокупности с другим ценным имуществом: двумя иконами, двумя цепями золотыми, золотым же поясом, сплошь усыпанным драгоценными каменьями, саблей, обвязью и серьгой золотой с жемчугом, наподобие той, что висела в ухе киевского князя Святослава – сына Игоря, внука Рюрика, вкупе с коробкой сердоликовой, золотом окованной, из которой пил, веселясь, Август Кесарь, император римский. А византийский император Константин Мономах, отправил ту чашу сердоликовую как свадебный дар нашему Володимеру Мономаху вместе с шапкой мономаховой, цепями ошейными, обвязью…
Дверь трапезной скрипнула, приотворилась… Это прискакал на прутике Василек, первый сынок Дмитрия Ивановича, зимородок.
– Шустряк, – умилился отец, – вырастет, великим князем станет!
В левой руке наследника нитяные поводья от лошадки-прутика, в правой – деревянная сабелька. Воспитанник не сердобольных нянек, которые только и делают, что сопли дитю подтирают, а настоящих мужчин. Дядьки веников не вяжут, у них все строго, по часам, по команде, по расписанию: направо – на оправку, налево – вприпрыжку на кормление, ну, и так далее…
Олег Рязанский одарил скакуна на палочке гостевым пряником, а отец погладил по головке, стараясь не замечать укоризненного взгляда дядьки-воспитателя.
– Подрастет сынок и за твою дочку его отдам, если ты, Олег Иваныч, возражать не станешь.
– А Лопасню впридачу отдашь? – усмехнулся гость.
– Олег Иваныч, ты никак позабыл, что приданое с испокон веков с невесты берут?
– Надеюсь, и ты помнишь о дарах со стороны жениха: за смотрины, за сговор, за содержание невесты до дня свадьбы. Не мною подсчитано, но за время пребывания ее в доме родительском она съест две бочки репы с капустой, по бочке грибов соленых и моченых яблок, пяток овечек, сорок кур, яиц без счета, рыбы всяческой… Сколь киселя употребит овсяного и горохового, твердых как студень! А сколько обуви износит и душегреек, и платков с подпоясками…
– Не грех вспомнить и о тратах жениховых родителей: на сватанье, на рукобитье, на пропитие сыночка матерью, за выкуп невесты, за вывоз ее из дома родительского…
– Не позабудь и о свадебном подарке будущему зятю от тестя! Припомни, какой отменный пояс с золотыми цепями ты получил от своего тестя князя суздальского через самого почетного гостя – тысяцкого. Пояс-то не просто опояска, а лицо князя!
И рассмеялись оба, до свадьбы как до Луны, а они…
– Что касается Лопасни, – снова завел свою песню Олег Рязанский, – то посул, как и долг, платежем красен.
– Олег Иваныч, ну, почему мы о какой-то речонке такой длинный разговор ведем?
– Не обижай реку, Дмитрий Иваныч! Лопасня с притоками Никажель, Челвенкой, Люторкой да Елинкой – река величественная, полноводная, судопроходная, многорыбная: лещики-подлещики, щуки-окуни да иже с ними водяной. Крепостица на берегу. Пусть и бревенчатая, но дубы в два обхвата. По округе маслята-опята, опять же ягода разная: полевика, земляника, брусника, водяника, дурника, голубика, черника, красника, княженика… Бобры-зубры, лисицы-куницы… Брод удобный через Оку при устье Лопасни, а с Лопасни дороги торные хоть в твой Серпухов, хоть в мою Тулу.
– Тула, Ольг Иваныч, насколько известно мне, не твоя, а владение хатун Тайдулы, супруги покойного Джанибек-хана.
– Чьей бы Тула ни была, а только при ней мой караул стоит, скачи от Тулы хоть на Дон, хоть на Волгу. Однако, вернемся к разговору о Лопасне…
– Оставь в покое мою Лопасню; что ты к ней прицепился?
– Вот как, – дернул себя за ус Олег Рязанский, – Где твоя честь, Дмитрий Иваныч, где слово княжье?
Разговор зашел в тупик. Одному бы опомниться, другому в чем-то поступиться…
От слов до оружия путь короткий. Разозлился князь рязанский, собрал рать и взял Лопасню! Изгоном, без предупреждения!
Словом не убьешь и комара. Московский князь озлился тоже и с акцией возмездия отправил на Олега Рязанского свое войско. Сражение состоялось на поле бранном, под Скорнищевом неподалеку от стольного града князя рязанского. Кое-как замирились, но Лопасня так и осталась камнем преткновения меж ними… Кто прав? Время рассудит.

Эпизод 2
Ничто не исчезает бесследно

1374 год
Москва. Кремль. Палаты княжьи. В трапезной стол на двадцать трапезников, не менее, а в хмури и одиночестве сидит только один – III Дмитрий Иванович, князь московский. Не то государственными делами озабочен, не то семейными. Бывает, что их друг от друга и отличить трудно. Рождение сына что это? Семейное дело или государственное? А с потолка на стол что-то капает… Размеренно, безостановочно. Если крыша прохудилась и каплет в результате дождя, то понятно. Но дождя не было уже с неделю и для выяснения причины князь кликнул служителя.
Тот вошел в легкой дремоте и телогрее нараспашку. Подставил под капель ладонь, принюхался. Дотерпел, пока в ладони скопилась лужица, опробовал, усы вытер:
– Верь, не верь, Дмитрий Иваныч, а каплет с потолка мед хмельной… – и снова ладонь подставляет, а в нее уже не одиночные капельки устремляются, а струйкой!
Дмитрий Иванович подставил под ручеек жбан, велел позвать дознавателя.
Тем временем в трапезную потянулись должностные лица поглядеть на диво дивное и князь этому не препятствовал, выражая народолюбие. Людское любопытство понять можно. Когда мироточит икона – чудно, но понятно. Но когда с потолка сам по себе льется хмельной мед – чудно, но непонятно!
Первым любопытствующим был посланец от московского тысяцкого Василия Вельяминова, якобы, по делу безотлагательному, а именно: ежели завтра приспичит играть сбор народного ополчения, то с каждого двора вместо одного воина в боевой готовности придет всего по пол-воина! Затем ввалились дядьки – воспитатели малолетнего княжича с жалобой на отсутствие у княжича прилежания в счете на трех палочках! Бухнулся в ноги налоговый крючкотвор, уверяя, что мзды не брал и на него возведен зряшный поклеп, и каждый между делом макал в жбан палец, оценивая на вкус не можжевеловый ли хмельной напиток, не черемховый ли, столь крепкий, что им можно упиться до смерти, сборный, донниковый или паточный, вареный или вешний, гречишный или горчишный, падевый, приварной, молодой, старый, стоячий, крупчатый, боярский, княжий, ангельский…
Наконец появился дознаватель Щур. В кафтане укороченном, в сапогах выше колен, с увеличительным третьим глазом. Перво-наперво удалил всех лишних из трапезной и в сопровождении стольника, виночерпия и князя московского полез на чердак. Где на одной половине сохли трофеи охотничьи, на другой – пух с перьями для перин княжеских, а возле оконца чердачного лежал на пузе бочоночек, из которого текла-вытекала веселая медовуха!
– Батюшки! – завопил стольничий, – вчерась вечером с виночерпием мы собственными руками перетащили на чердак двадцать два полнехоньких бочоночка, а сейчас в наличии лишь один да и тот с дыркой!
– Перестань орать, – наступил ему на ногу дознаватель Щур, – и объясни толком, зачем нужно было перетаскивать бочоночки на чердачный сквозняк, если им место в подвале с одной и той же температурой?
– Потому, – затрепетал голосом стольник, – что подземные грунтовые воды вышли из-под контроля земли, угрожая затоплением погреба, и чердак оказался самым подходящим местом для временного пребывания бочоночков. Сам князь наш, Дмитрий Иваныч, отдал такое распоряжение.
– Я? – удивился князь московский и устремил взгляд на дознавателя. Тот понял и мигом взял расследование в свои руки. Для начала так встал на пороге, чтобы всяк входящий обязательно споткнулся о его ногу, отчего заранее приготовленный ответ в момент вылетал из головы входящего. Во-вторых, смотрел сквозь увеличительный глаз таким образом, что окончательно подавлял волю к лжесвидетельству. Веревочка в руках Щура крутилась, вертелась и, наконец, завязалась узлом на личности отсутствующего племянника виночерпия. Виночерпий без устали головой о стенку бился, пока Щур выяснял облик племянника. По словам виночерпия, племянник худосочен, голенаст, безбров, нос сливой с двумя дырочками и живет не в Москве, а в Переяславль-Залесском, в семидесяти верстах отсюда! А по описанию посторонних незаинтересованных лиц, племянник лопоух, броваст, носаст, с испепеляющим огнем во взоре! Не иначе, как происки нечистой силы, подумали все, кроме дознавателя, а стольничий тоже ударился лбом о стену:
– Где мои двадцать пять бочоночков просмоленных? Чем теперь буду людей опаивать?
– Остынь, – наступил ему Щур на ногу, – лет двести тому назад князь Изяслав в распрях ворвался на конях в Путивль-город, вотчину своего брата Святослава! Пограбил город, пригород, церковь, из княжьих погребов выволок двести бочек медовухи, а ты голову бьешь из-за каких-то двадцати! Твое дело давать правдивые показания, а не вышибать последние мозги!
Убрал Щур свою ногу с чужой ноги, обернулся к Дмитрию Ивановичу:
– Яснее ясного – на чердаке тати ночные орудовали. Числом не менее трех. Один забрасывал аркан с крюком на зубец кремлевской стены, откуда бочоночек самоходом катился вниз. По другую сторону стены – второй соучастник. Примет бочоночек, третьему передаст. Тот грузит бочоночек на телегу. Для самовывоза. Остается проверить версию, а заодно и погреб.
Проверили и обогнув овчарню, бочарню, пекарню, вышли из кремлевских ворот на кремлевскую набережную. С порубленными соснами для нужд отопления, с отходами рыбной и сельскохозяйственной продукции и прочими свалками. От и до. Воняет – дышать нечем! Для уточнения своей версии Щур носом к земле пригнулся, чуть не пластается в предвкушении результата:
– За ночь торная тележная колея не претерпела изменений, как и следы человеческие. Двое из них – лапотники, а третий, чую по запаху, в сапогах дегтем промазанных. Вот этого татя, в сапогах, и будем искать. По оставленным индивидуальным следам. По каблуку левой ноги наружу стоптанному. Из-за плоскостопия. Наследственного. По такой примете я злоумышленника и через десять лет отыщу. Срисую, замерю, предъявлю… Где-то такие следы мне уже встречались…
– Щур, очнись, ты в своем уме? Это же мои следы, я утром сюда по нужде бегал!
– То-то они показались мне знакомыми… Но ничего страшного. По другому следу пойдем. По кровавому. Один из татей неосмотрительно малой кровью плевался, что бывает, ежели зуб выбит. Поскольку обнаруженных драк с кровопролитием не учтено со вчерашнего вечера, то зуб, следовательно, выбит не в драке, а вырван зубодером по причине гнилости. Отыскать того, у кого зуб в свежем отсутствии – дело плевое…
Виночерпий поразился ходом блистательного рассуждения и решил внести добавление:
– По моему разумению, не чужие тати орудовали, а свои в доску. Откуда чужаки могли бы узнать, что погреб подвергся затоплению?
Дознаватель Щур глянул на виночерпия свысока, хотя и стоял на земле коленями:
– Погреб, уважаемый, не затоплен, а подвергся оговору с умыслом. Тебе сказали и ты поверил, разиня винная, а проверить сказанное – ума не хватило. Однако, не будем зря падать духом, выявим особь злонамеренную, повяжем, привлечем… А вот налицо и очередная улика в виде волосьев от хвоста лошади, кои прилипли к колесной смазке и вырваны при движении. Улика окраса бурачного, к охвостью переходящего в черно-фиолетовый…
– Это же волосья от хвоста моего коня с лишними ребрами! – воскликнул Дмитрий Иванович, – эй, конюшенный, ступай и погляди в своем ли стойле мой сивко-бурко?
Через минуту старший конюх прибежал весь в мыле:
– Верь не верь, князь Димитрий, а не углядел за твоим конем батюшка-дворовой! Прозевал коня, не смотря на то, что его борода под цвет твоей бороды и в масть хвоста твоей лошади! И камень с дыркой, лошадиный бог-охранитель, от вида которого должен каменеть ворог, исчез! А все потому, княже, что помощничков дворового – овинника с гуменником, ты сам в отпуск отправил!
– Я? – удивился Дмитрий Иванович, а стольничий вторично ударился лбом о стену:
– Не зря вчера с вечера до полуночи филин-пугач на угловой башне ухал-стонал, беду предвещал, но никто на это не обратил внимания. А похитители украли не что-нибудь, а весь запас качественной медовухи для праздных княжьих пиров с круговой подачей жбанов всем застольникам, когда упиваются бражники до крайности, до отрыжки. Остался в наличии лишь морс ягодный, да брага недоделанная, да яблоки моченые кузьминские, можайские…
– Перестань ныть, – снова наступил ему на ногу Щур, – найдем бочоночки, куда они денутся… В граде Киеве из княжьей усыпальницы выкрали череп князя киевского Святослава Игоревича. Удачлив был князь и в княжении, и в походах ратных. К устью Волги на хазар ходил, по Дунаю на болгар, по Черному морю на Византию, а погиб, угодив в засаду на днепровских порогах. Печенежский князь Куря велел изготовить чашу из его черепа. Челюсть отделать золотом, в глазницы вставить сапфиры для похвальбы на пирах, дескать, смотрите, какого великого воина он завалил!
– Зачем же красть такую примечательную вещь? Ни купить ее, ни продать…
– Разные тому есть причины: на спор, ради озорства… По сей день ищут. Кража века!
Очередной рассвет над Москвой-рекой. За Даниловым монастырем умолкло сторожевое било, а на Таганском холме застучали мастеровые. Это позже на Таганке появится небо в клеточку и одежда в полосочку. А при князе Дмитрии Ивановиче там без устали трудились железных дел мастера, изготовители всяческих котлов: едальных, стиральных, пятиведерных помывочных. Кузнецы-молотобойцы для лучшей ковкости часами били железо из болотной руды для гвоздей, подков, бранных доспехов. Только для одной кольчужной рубахи до пупа, требовалось избить около пяти килограмм железа для тридцати тысяч плоских колец! А мечи, а ножи? А шлемы с бармицей для защиты шеи и плеч? А личины с наносником по западной моде? А наручни и поножни на восточный манер? Даже до Кремля долетал перестук молотобойщиков…
– Голова трещит после вчерашнего дня… – посетовал утреннему прислужнику князь московский, – принеси-ка мне медовухи…
– Не могу, княже, не обессудь…
– Что?
– Дмитрий Иваныч, никак ты и впрямь позабыл, что всю медовуху тати повывезли? Осталось лишь сусло, да буза из проса. Что принести? Рассолу?
– Вон!
Прислужник удалился, а дознаватель Щур появился. Самолично. Без вызова. Имел право. Доложил:
– Проследил я путь ночных татей от Кремлевских стен вплоть до по-рубежья с Тверью. А дальше не сунулся, Тверь не моя епархия…
– Опять происки со стороны тверского князя? – вскочил с нагретого места князь московский. – Да он у меня… Как кость в горле, как карась на сковородке!
– Не волнуйся, княже, в Твери мой свойственник поусердствует. Как получит сведения на лихих татей, зажмурит два своих узких зрака, а третьим, увеличительным, направит их прямиком в сыскную избу. А не получится, применит заговор против лиха, лихоимцев, лиходержателей. Ежели и это не поможет, обратится с молитвенной просьбою к ангелам, архангелам из небесной рати, поголовно перечислив их трижды горячим шепотом… Так что, не печалься насчет бочоночков, будут отысканы и доставлены в целости и сохранности, разве что один-другой могут нечаянно распоясаться и пустить слезу… В случае чего не гневись на производственные издержки… – обрадовал потерпевшего Щур и пустил на волю легкий смешок, на который Дмитрий Иванович, хоть и князь, но правильно отреагировал…
В распахнутую дверь вплыла белой лебедью супружница князя, Евдокия Дмитриевна. Чудо, как хороша. Лебединая шейка в оторочке лебяжьей. В белых ручках поднос с двумя чашами пития ею лично приготовленному на зверобое, девясиле, жгучем стручковом перце. На подносе же связка круто просоленных пластов щучьих, арбуз и Гороховец, особо приятный после трудов праведных. Пусть он и считается тяжелой едой, зато в животе лежит сытно.
Глаза у княгинюшки опущены, губы сердечком… Засмотрелся на княгинюшку Щур, грудь выпятил, распушил хвост. Евдокия Дмитриевна метнула в его сторону искрометный взгляд, дескать, не по чину пялишься, поставила поднос, вышла с поклоном. Безмолвно. Чему Дмитрий Иванович остался доволен. Осушил чашу, якобы, с устатку, хотя с утра с места не сдвинулся. Сидя принимал донесения, сидя отдавал распоряжения. А княгинюшка Евдокиюшка туда-сюда ноженьками, вся в движении, вся в полете. То подскажет молодайкам как цветной подклад использовать к однотонному верху. То проверит – перевернуты ли рогожи перед порогами. Сметена ли гусиным перышком пыль с образов в красном углу. Хорошо ли отскоблена хлебная лопата и срублена ли ель, притягивающая грозу? В промежутках покормит маленького, проследит, чтобы средненький невзначай не поел приторно-сладкую спорынью, после чего зашумит в ушах, закружит в голове, зуд пойдет по всему телу и дай бог ребятенку выжить… Не княжья жизнь, а сущая каторга!
– Одного не могу понять, – спросил у гороховой похлебки Дмитрий Иванович, – почему не слышали сторожа, как вдоль стен громыхала телега с двадцатью бочонками?
Щур ему в ответ будто дитяти малому:
– Только пустая телега гремит! И бочоночки твои не на одной телеге вывезены. Разве в состоянии одна лошадь в одну лошадиную силу потянуть такой груз? На двух спаренных лошадках везли, так что первый кнут старшему конюху за извращенную информацию. Одно из двух – либо конюх с татями в сговоре был, либо спать горазд и гнать его надо с конюшни в три шеи! Кстати, могу тебя и обрадовать, один беглый бочоночек отыскался в доме племянника твоего ключника и не наградить ли ключника плетьми за идею покражи бочоночков, а его племянника со светящимися во тьме глазами, батогами? Полагаю, что вскорости отыщется и твой парадный конь с лишними ребрами. Он хорош лишь под седлом, а не в хомуте. Тати от него, как пить дать, избавятся, хлопот много, а проку чуть. Распрягут и бросят. Побегает твой конь немного на вольных хлебах, проголодается и вернется. Между прочим, а сам ты где был в ту злополучную ночь?
– Ну, Щур… Да за такие слова… Знаешь куда тебя отправить можно?
– Димитрий Иваныч, сядь, успокойся… и поставь на место табурет! Знаю, что той ночью пребывал ты в опочивальне. Но не в своей… Молчу! И не хватай чугунный подсвечник! А неблаговидные случаи, связанные с царственными особами, были. Например, римский император Нерон, чтобы отвести от себя подозрения, сам поджег Рим! Предлагаю подумать над ликвидацией разницы между высотой кремлевской стены и княжьими палатами, дабы у других разбойничков не возник соблазн воспользоваться этим же способом для изъятия княжьей казны или другого казенного имущества. Посему, надобно либо передвинуть княжьи палаты поближе к центру Кремля, либо отодвинуть подальше Кремлевские стены.
Поставив в разговоре жирную точку, Щур сверканул увеличительным глазом и удалился. Не прощаясь и без разрешения. Имел право. С измальства на княжьем дворе жил. С малолетним Дмитрием из одной миски кисели-каши хлебали. Только Дмитрий вырос до княжеского звания; а Щур так и остался неизвестно чьим подброшенником…
Ветер усилился, захлопал ставнями. Дмитрий Иванович высунулся в окно:
– Эй, кто там внизу, закрыть ставни и позвать зодчего!
Ставни закрыли, но вместо зодчего пришел старший каменщик.
Руки – лопаты, плечи – шире дверей. Снял шапку:
– Не придет зодчий, Димитрий Иваныч.
– Заболел или сломал ногу?
– Хуже, княже, ушел он.
– К теще на блины?
– Он не женат, княже. По его объяснениям, человек высокого искусства должен быть свободен от брачных уз, иначе он не создаст ничего выдающегося. У него страсть другая. Не человеческая. Чуть грянет рассвет над Москвой-рекой, как он бежит любоваться восточной угловой башней. Кланяется ей, вздыхает. А на закате припадает коленями к подножью западной. Гладит ладонями белый камень, смыкает во блаженстве очи пред красотой изваянной. Блаженный… но я его понимаю. Вчера отдал мне все чертежи и ушел…
– Но почему?
– Он обиделся.
– Что ему не хватало?
– Свободы творчества. Простора деятельности. Зодчий сказал, что у него руки не подымаются заниматься всякой мелочевкой наподобие оконных наличников или навесом над ступенями заднего крыльца. Его призвание – возводить сооружения типа Кремлевских стен, Оружейных палат, иначе он зачахнет без воплощения в жизнь своих идей за отсутствием поля деятельности.
– Так дать ему поле! Хоть Ходынское, хоть Кучково!
– На Ходыноком поле регулярно проводятся ратные сборища, стрельбища и прочие игрища, а Кучково поле – место карательных экзекуций…
– Отдать его зодчему! Пусть творит! Но сначала пусть закончит наличники и ликвидирует скрип половиц в стольной.
– Поздно. Зодчий взял циркуль, отвес, сажень мерную и. удалился. И светлый дух белого мячковского камня последовал за ним. Так и пошли вместе. В обнимку.
– Куда?
– Вдоль Тверской-ямской, Тверскою заставою…
– В Тверь? Догнать! Вернуть! Впрочем, отставить, поеду за ним сам. Эй, конюшенный, седлать лошадей!
Поехали… Проехали Чистополье, Калинов-мост, Черемушки, а далее запетлял зодчий, заложил дугу на девяносто градусов. Не иначе как следы заметает, раз свернул на юг и пошел через Внуково, Дедово, Батюшкино… На большаке из-за поворота вывернулся десяток людей конных. И в одном из них узнал Дмитрий Иванович князя рязанского. Окликнул:
– Вот так встреча, Олег Иваныч!
Съехались. Князь московский на коне со звездой во лбу. В чужих краях выпестованном, в дар привезённом. Но годный лишь для коротких выездов. А князь рязанский на коне приземистом, рыжем с веснушками и гривой, ветром раздвоенной, а не приглаженной конопляным маслом. Седло князя московского из тисненой кожи, стремена посеребряны и в узорах. А у Олега Рязанского стремена деревянные. Не от скупости, а для удобства. Зимой ноги в деревянных стременах не мерзнут.
Сначала поздоровались лошади. Первым, длинноногий скакун под чепраком ковровым. Ударил о землю правой задней, шварканул левой о правую переднюю и снова топнул. А конь князя рязанского под чепраком дерюжьим и оттого не скользким, лишь слегка приподнял неподкованное копыто, дескать, мы тоже умеем так, но не хотим. Он статью невзрачен и ростом не вышел, зато родом от небесных лошадей с крыльями, не знающих в беге пота и усталости. Одну из них, отбившуюся от табуна, присмотрел несчастный одноногий и одноглазый скиф, выгнанный из племени по ущербности. Подкараулил он коня, заарканил, обрезал крылья, приручил, прискакал на нем к сородичам и стал вождем, так-то…
Поздоровались и всадники. По-человечески. После чего князь московский слегка ослабил поводья:
– Откуда путь? Судя по месту сворота на большак, похоже, к сестре в Брянск ездил? В леса, глухие, дремучие, дебрянские с брынскими разбойниками? Не по поводу ли женитьбы князя смоленского на твоей дочери? – то был элегантный точечный укол копьем в адрес Олега Рязанского насчет преобладания у последнего дочерей.
– А твой путь куда? – ушел от ответа князь рязанский, – судя по взопревшему коню, он под тобой готов наземь брякнуться от усталости. Рабочий конь и на соломе скакун, а длинноногий пустопляс и на овсе еле-еле ногами перебирает… – Это был ответный удар булавой с набалдашником в особо чувствительное место, но Дмитрий Иванович сделал вид, будто у него запершило в горле:
– Отлавливаю одного беглеца, что нацелился на Тверь, а сам кругами пошел…
Солнце тем временем на обед повернуло и комары взъярились – на людей набросились. Дмитрий Иванович в раздражении по щекам комарье стал размазывать, а Олег Иванович неэффективно бить плетью.



