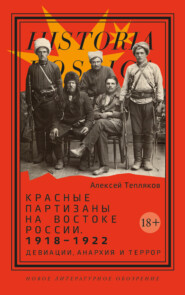скачать книгу бесплатно
Глава 4
КРИЗИСЫ КРАСНОЙ И БЕЛОЙ ВЛАСТЕЙ
В чехарде сменявших друг друга властей региона можно видеть и особенные, и общие черты, способствовавшие их недостаточной устойчивости. Недолгие по продолжительности периоды существования красных и белых правительств характеризуются перманентным кризисом власти, причем царившая повсюду партизанщина выделялась в качестве особенно опасной для государственности черты. Красногвардейские отряды с их слабым командованием и символической дисциплиной были близки к партизанским по всем основным характеристикам: случайный состав, плохая военная подготовка, выборность командиров, невысокая боеспособность и дисциплина, обилие люмпенов и криминала, страсть к мародерству, пьянство, склонность к панике и низкий моральный уровень.
Говоря о сибирских отрядах Красной гвардии, известный томский историк утверждает, что с ее стороны встречались «террор, трусость и предательство»[674 - Ларьков Н. С. Начало гражданской войны в Сибири. С. 104.]. О маргинально-анархичном составе красногвардейцев Енисейской губернии пишет А. П. Шекшеев[675 - Шекшеев А. П. Красная гвардия как сообщество маргиналов // Евразийство: историко-культурное наследие и перспективы развития: Сб. материалов межвузовской научно-практической конференции памяти Г. Г. Котожекова / Ред. Н. А. Бухарина. Абакан, 2001 (Котожековские чтения. Вып. 1). С. 103–107.]. Однако другой исследователь, приводя большой материал о преступлениях красногвардейцев и тем не менее противореча сам себе, заявляет, что «данные примеры были не правилом, а скорее исключением»[676 - Хипхенов Г. И. Правда и «кривда» о красных отрядах. С. 155.].
Характерно, что видный алтайский партизан и чекист Ф. Я. Глазков во всех проблемах винил спецов-офицеров: «…а главную роль сыграли в подрыве власти офицерство, влившееся в ряды красной гвардии[,] и творили черт знает что от имени Советской власти… Красная гвардия была в стадии организации… к подрыву [власти] фактов можно привести очень много, а посему в Змеиногорском уезде Советская власть просуществовала от 15 марта 1918 года и по 3 июня 1918 года». Весной 1920 года сибирские чекисты отмечали, что в делах по обвинению в «исторической контрреволюции» налицо «подавляющий процент с[е]редняка и даже пролетариата деревни, который в [19]18 г[оду] шел против нас, так как кулацкие советы его угнетали, разоряли»[677 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1022. Л. 2; ЦА ФСБ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 16. Л. 209.].
Опорой власти стали части из военнопленных Центральных держав – из тех, кто был благодарен большевикам за Брестский мир и надежду сменить статус военнопленного на положение революционного кондотьера. Как отмечал В. Д. Вегман, интернационалисты в лице мадьяр, немцев, латышей и китайцев «были самой солидной и положительной опорой Советов», беспрекословно выполняя приказы и образцово исполняя возложенные на них обязанности[678 - Цит. по: Наумов И. В. История Сибири: Курс лекций. Иркутск, 2003. С. 195.]. Председатель Уральского облсовета А. Г. Белобородов 22 июня 1918 года писал Я. М. Свердлову: «Уфимские „боевые дружины“ в панике бежали от чехословаков, взятые на заводах красногвардейцы тоже не выдерживали… Серьезную боевую силу у нас представляют военнопленные-интернационалисты, мадьяры в особенности, которые на чехословаков наводят ужас. Хорошо также расправляются с контрреволюционерами. Жаль только, что их мало»[679 - Обухов Л. А. Прикамье в годы Гражданской войны // Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война на востоке России», 25–26 ноября 2008 г., г. Пермь. Пермь, 2008. С. 216.].
Низкая сознательность и боеспособность защитников большевистской власти проявлялись летом 1918 года повсюду. В своих воспоминаниях лидер Самарского горкома РКП(б) М. М. Хатаевич признавал: «В… части рабочих, среди которых было сильно влияние эсеров, меньшевиков и анархо-максималистов, мы встретили элементы паники, пораженческих настроений»[680 - Хатаевич М. М. В те дни // Были пламенных лет. Рассказывают участники гражданской войны в Самарской губернии. 1917–1920. Куйбышев, 1963. С. 27.]. Эхо былого малодушия настигало позднее самых видных чиновников: весной 1937 года первый секретарь Куйбышевского крайкома ВКП(б) В. П. Шубриков был понижен в должности как скрывший от партии свое дезертирство в 1918 году из «Владикавказских красноармейских частей»[681 - Собеседник на пиру: Памяти Николая Поболя / Ред.-сост. П. Полян. М., 2013. С. 558.].
О психологической неустойчивости основной части красногвардейцев говорит такой факт: действовавший весной 1918 года у монгольско-китайской границы карательно-грабительский отряд черемховских рабочих испытал такой шок от внезапного самоубийства своего вожака Шевцова, что в отряде сразу распространился слух, будто остальные командиры (К. М. Кошкин и Д. М. Третьяков) сговорились с белыми и задумали измену, из?за чего Шевцов и застрелился. Командиров арестовали, но, не обнаружив ничего компрометирующего и остыв, так же легко освободили, причем Третьяков был назначен начальником отряда, а Кошкин остался комиссаром[682 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1331. Л. 11.].
Стремительная всеобщая паника при первом серьезном натиске врага, характерная для толпы, вполне отвечала и модели обыденного партизанского поведения. Неудивительно, что в настоящих сражениях около 20 тыс. сибирских красногвардейцев продемонстрировали низкую, «партизанскую» боеспособность и оказались быстро разгромлены сравнительно небольшими, но сплоченными отрядами белых добровольцев и чехословаков. Даже такой яро анархический оплот, как Черемхово, красногвардейцы оставили без боя, поскольку многие рабочие вспомнили про свои традиционные занятия сельским хозяйством и предпочли просто разбежаться по заимкам[683 - Там же. Л. 15–16.]. По воспоминаниям Р. Гайды, в августе 1918 года под станцией Мурино было убито 700 красных, в плен попало 2,5 тыс., а чехословацкие легионеры потеряли убитыми четырех, войска А. Н. Пепеляева – 70. Вскоре под Иркутском при взятии станции Посольская белые захватили 59 поездов и тысячи пленных (относительно убитых Гайда писал, что в течение нескольких дней собирались трупы красных, «грузились в поезда и увозились в леса для погребения»), чехословаки же потеряли убитыми 22 человека и ранеными 30, а Пепеляев – убитыми 100 и ранеными 300[684 - Там же. Оп. 4. Д. 1524. Л. 119–120, 131, 132.].
Эта досадная разница в потерях (даже при отмеченной Д. Г. Симоновым склонности Гайды завышать военную роль чехословаков и потери красных[685 - Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия. С. 20.]) в советское время по возможности скрывалась преувеличением численности и организованности противника. Ортодоксы резко раскритиковали новаторскую книгу Г. Х. Эйхе[686 - Эйхе Г. Х. Опрокинутый тыл.], широко использовавшего документы белых армий и Чехословацкого корпуса, за умаление советских достижений на окраине России при сопротивлении белым в 1918–1919 годах. Так, В. С. Познанский обвинил экс-главкома НРА ДВР Эйхе в том, что аналогичные оценки можно было «прочесть в антисоветской литературе, издававшейся в 20?е годы на Западе»[687 - Познанский В. С. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией. С. 27.]. Но Эйхе доказательно атаковал и мифы о геройстве сибирско-дальневосточных большевиков, на деле растерявшихся и быстро уступивших громадный регион немногочисленным чехословацким частям и белым заговорщикам[688 - Один из вожаков отряда Каландаришвили в 1934 году публично признал: «Легко мы достались белогвардейцам. Расстреливали нас абсолютно даром». См.: Воспоминания участников Гражданской войны в Восточной Сибири. С. 207.], и большое преувеличение военного значения сибирской партизанщины в конце 1919 года.
Мятеж чехословацких легионеров начался фактически с выступления в городе Мариинске, причем там он носил характер не только стремительной военной победы, но и успешной полицейской операции. Когда небольшой отряд омского большевика Григория Сорокина, очень медленно ехавший из Омска в Забайкалье воевать с Г. М. Семёновым, 24 мая 1918 года занял Мариинск, отрядовцы тут же перепились и, разоружив с пушечной стрельбой местную милицию, принялись увлеченно грабить горожан, отбирая продукты, лошадей и т. д. В ответ чехословаки 25 мая внезапно атаковали и разоружили красных[689 - Там же. С. 127, 299; Перевалов М. Таежные партизаны. М., 1933. С. 14–15; Кадейкин В. А. Рабочие Сибири в борьбе за власть Советов. Кемерово, 1966; Горелов Ю. П. К вопросу о возникновении Мариинского фронта (май–июнь 1918 г.) // История белой Сибири: Материалы 6?й международной научной конференции. Кемерово, 2005. С. 48–50.]. Вместе с красногвардейским командованием из атакованного чехами Мариинска сбежали и уездные большевистские руководители, оставив победителям пушки и винтовки.
Несколько дней спустя красногвардейцы из городов Кузбасса попробовали отбить Мариинск, но 1 июня после крупного боя оказались наголову разбиты. Как писала пресса, в результате сражения «среди чехов убито 7 человек, из которых трое раненых были приколоты большевиками, в чем мог убедиться всякий желавший видеть истерзанные трупы чехов»[690 - Эйхе Г. Х. Опрокинутый тыл. С. 20; Сибирская жизнь. Томск, 1918. 15 июня. № 36.]. Р. Гайда писал, что под Мариинском нескольких артиллеристов-разведчиков схватили мадьяры, а после отступления красных были найдены их «изуродованные тела с разрубленными черепами без ушей и носов»[691 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 1524. Л. 370.]. Он же зафиксировал террор коммунистов и против белых, отметив, что в июньских боях под Черепановом русские раненые «попали в руки большевиков и были ужасно изуродованы, среди них был и храбрый поручик Сергеев»[692 - Там же. Л. 51.]. Современный исследователь подтверждает: после боя на станции Усть-Тальменская под Черепановом 9 июня 1918 года красногвардейцы захватили девятерых тяжелораненых белых (в том числе штабс-капитана А. И. Лаврентьева, подпоручиков А. Улановского, Сергеева и Новикова) и расправились с ними, поднимая на штыки и разбивая головы[693 - Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия. С. 61–62, 66.].
Уже первые серьезные стычки большевиков и белых показали, с какой свирепостью коммунисты добивали раненых и уничтожали пленных, что целиком оправдывали в мемуарах (так же, как и случайные жертвы среди своих, принятых за классового врага). Летом 1918 года такие эпизоды фиксировались на всех фронтах: «Красные преследовали белогвардейцев, по пути добивая раненых, убивая и прикалывая притворившихся мертвыми. <…> Подобная жестокость в добровольческой стадии гражданской войны во время боя не подлежит осуждению… Все дело зависит от экзальтированного состояния масс». Командир роты 4?го Уральского полка даже случайно зарубил уездного продкомиссара Жилина, так как «красной ленточки не было, а без нее он по своей тучности был похож на буржуя»[694 - Кашеваров М. С. Красная страничка из истории 4?го Уральского полка. С. 23–25.].
Когда каппелевцы 2 июля 1918 года обнаружили тела двоих пленных, «обезображенные до неузнаваемости» красноармейцами Г. Д. Гая, ими «овладела дикая ненависть», и они, в свою очередь, брать пленных перестали (отметим, что с августа 1918 года В. О. Каппель приказывал пленных сохранять и отправлять в тыл). Красные в ответ заявляли, что это-де сами белые изуродовали убитых, чтобы дискредитировать врага. Однако аналогичные зверства в рядах красных войск процветали все время. Так, Каппель получил донесение, что «в селе Кротовке 12 августа 1918 года красноармейцы захватили двух раненых чехов… издевались [над ними] и зверски добили». Мемуарист писал, как тем же летом в Казани большевики расправлялись с чехословаками по одному подозрению: «Привели человека, которого сняли с лошади и разоружили на… улице. Подозревая в нем чеха, без допроса его увели в сад для расстрела»[695 - Мазунин В. До и во время чехов (Казань – Арск) // Борьба за Казань. № 1. С. 48. Телеграмма Троцкого от 3 ноября 1918 года, отправленная в войска по случаю революции в Австро-Венгрии, содержала предупреждение: «За расстрел пленных чехо славаков виновные будут подлежать самой суровой ответственности» – и предписывала безоружных чехословаков пропускать на родину (см.: РГВА. Ф. 176. Оп. 3. Д. 554. Л. 210).].
Однако порой расстрел был наилучшим выходом для пленного. Один из командиров 1?й Екатеринбургской дружины интернационалистов, Ю. Г. Циркунов, писал, что схваченного при взятии города Каинска в начале июня 1918 года М. О. Азеева-Меркушкина (лидера эсеров Новониколаевска, командированного Временным Сибирским правительством в конце мая в Каинск на должность уездного комиссара) они «расстреляли вместе с частью чехов[,] взятых в плен, на болоте»[696 - ГАНО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 3710. Л. 73.]. Но по информации командующего войсками Томского района Л. Д. Василенко, Азеев-Меркушкин был «изранен штыками и сожжен на медленном огне»; пресса также сообщала, что чиновник с несколькими чехословаками оказался «увезен в окопы на ст[анции] Кожурла, где они были подвергнуты пыткам и в конце концов зажарены на огне»[697 - Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства (26 мая – 30 июня 1918 г.): сборник документов и материалов / Сост. В. И. Шишкин. Новосибирск: НГУ, 2005. С. 87, 193–194; Наша Заря. Омск, 1919. 7 июня. № 120. С. 2.]. Красные солдаты впоследствии спокойно вспоминали, как жгли живьем или топили в море захваченных генералов[698 - Ганин А. В. Казни пленных белых офицеров на Южном Урале в 1918–1919 годах // Гороховские чтения: Материалы 9?й региональной музейной конференции / Сост. А. Н. Лымарев. Челябинск, 2018. С. 53–54.].
Настоящая резня шла на Юге России. Генерал Я. А. Слащёв вспоминал: «Придя в свои станицы и в города, белые нашли горы трупов своих родных и единомышленников… мужья находили своих жен зверски убитыми с вырезанными грудями и т. п. Началась месть – трудно было добиться пленного для допроса или захваченного комиссара… Если их не убивали при захвате, то почти всегда кончали по дороге в штаб. Удержать толпу не было никакой возможности, и белые наделали зверств не меньше, чем красные»[699 - Слащов [Слащёв] Я. А. О Добрармии в действии в 1918 году. Часть II / Публ. А. С. Пученкова // Новейшая история России. 2016. № 1. С. 227.]. Группа войск И. Ф. Федько, именуемая 1?м Черноморским революционным полком, 1 мая 1918 года завершила высадку в Ейске и приняла участие в карательных экспедициях против восставших казаков. Так, в станице Должанской матросы учинили массовые расстрелы, а священника Краснова и станичного атамана заживо сожгли в топке парохода. О диком терроре в станице Копанской свидетельствовали сами большевики: «Убитые люди убраны в огромные ямы, куда свалено 22 подводы человеческих трупов… Начальник Приморско-Ахтарского отряда расстреливал пленных из пулемета группами, а именно по 20 и более…»[700 - Берлизов А. Е. Красный террор // Комсомолец Кубани. 1991. 26 янв.]
В конце июня 1918 года, во время продвижения колонн полковника Г. А. Вержбицкого из Ишима, на станции Карасульская «белые наткнулись на три тела зверски умученных большевиками белых бойцов». Один из дипломатов 18 января 1919 года сообщал британскому министру иностранных дел А. Д. Бальфуру: «Во время боев в Уссурийском районе в июле 1918 года д[окто]р Т. нашел на поле сражения ужасно изуродованные трупы чешских солдат. У них были отрезаны половые органы, вскрыты черепа, изрублены лица, вырваны глаза и вырезаны языки…»[701 - См.: Филимонов Б. Б. На путях к Уралу. С. 73; Мельгунов С. П. Красный террор в России. С. 94.] Организатор Красной гвардии на Урале анархист П. И. Жебенёв, летом 1918 года воевавший с чехословаками и дутовцами, вспоминал о ряде подобных случаев: «…несколько наших красноармейцев у раненых белых вынимали мозги, вырезали половые органы»[702 - Центр документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 41. Оп. 2. Д. 198. Л. 12 (цит. по: Горюн А. П. Распятая на звезде. [Б. м.], 2021. См.: [Эл. ресурс]. URL: http://t1.topbook.me/books/1357015122373/online/ (дата обращения 6 марта 2023 года). Подобное отношение к содержимому вражеских голов проявляли и противники коммунистов. В селе Журавлиха Рахмановской волости Пугачёвского уезда Самарской губернии повстанцы большого отряда Ф. Попова в начале 1921 года «расстреляли Председателя Волисполкома т. АНОХИНА и в доказательство этого гнустного (так! – А. Т.) дела аккуратно вынули его мозги и[,] заморозив их и завернув в две газеты, поехали показать их своему руководителю и вдохновителю Овчинникову в Малую Таволожку… и доказать ему свою преданность, но на пути были пойманы и расстреляны. Мозги эти находятся в Пугачёвском Отделе Здравоохранения» (см.: ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 7. Д. 1508. Л. 14 об.).].
На станции Худоеланская под Нижнеудинском 21 июня 1918 года красногвардейцы, как писал один из них впоследствии, атаковали и «взяли в кольцо три неприятельских [чехословацких] эшелона… и с помощью броневика разоружили, беспощадно расправляясь со зверями по-зверски»[703 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 777. Л. 41.]. Согласно ранним мемуарам А. Н. Буйских, он видел на станции Худоеланская опрокинувшийся паровоз, на котором ехали 12 разведчиков-красногвардейцев, плененные после крушения и замученные казаками[704 - Буйских А. Н. Революционные очерки. Кн. 1. С. 90.]. Начальник пулеметной команды барнаульского красного отряда уточнял, что неприятельских эшелонов было два и большинство окруженных ушло пешим порядком в Нижнеудинск, после чего утром последовала «расправа с небольшою кучкою чехо-белых»[705 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 766. Л. 108 об. В новейшей монографии, как и в мемуарах Р. Гайды, утверждается, что эшелон был один (см.: Новиков П. А. Гражданская война в Восточной Сибири. С. 75).] (речь шла о садистской расправе с ранеными).
Гайда приводил в качестве примера мадьярских зверств именно этот эпизод на станции Худоеланская: «Я припоминаю то озлобление, которое охватило солдат, когда под Нижнеудинском были найдены изуродованные трупы 14-ти наших раненых братьев и штатского русского доктора, ранее ухаживавшего за ними. У них были выколоты глаза, и у двоих из них были вырезаны половые органы. Доктору Белянину сначала перебили руки… потом разрубили щеки и отрезали уши»[706 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 1524. Л. 131, 132.]. По уточненным данным, из 140 легионеров было убито 12, а врач Н. П. Белянин, согласно мемуарам одного из мадьяр, участвовавших в его убийстве, был зарыт в могилу живьем[707 - Хипхенов Г. И. Сражение за Нижнеудинск 24–26 июня 1918 г. // Белая армия. Белое дело. Екатеринбург, 2018. № 5. С. 9–10.].
После взятия белыми станции Посольская, расположенной на юго-восточном берегу Байкала, 18 августа в лесу было найдено тело замученного подполковника Б. Ф. Ушакова (он отличился 29 мая, захватив Канск за 40 минут), который являлся начальником штаба российских войск А. Н. Пепеляева в составе Чехословацкого легиона и случайно попал в плен. Гайда писал: «Труп Ушакова был изуродован… один из чешских солдат был под мышки подвешен на дерево, облит керосином, зажжен и таким образом мадьярами замучен… Вполне понятно, что озлобленность наших войск против большевиков и особенно против интернационалистов еще больше усилилась, и поэтому многие из мадьяр, захваченных в плен в этом бою, поплатились своей жизнью»[708 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 1524. Л. 370. Однако советский историк написал, что Ушаков был расстрелян: Познанский В. С. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией. С. 263.]. Поручик И. К. Волегов, служивший в одном из оренбургских казачьих полков, вспоминал, что «…если попадал в плен офицер, то у живого офицера вырезали на плечах погоны, а если на погонах были звездочки, то сколько было звездочек, столько же гвоздей вбивали в их плечи». Казакам, кроме того, на ногах вырезали «лампасы»[709 - Волегов И. К. Воспоминания о Ледяном походе. Данденонг, 1988. С. 50–52.].
«Дознание, снятое [прапорщиком Усмановым] на основании приказания командира стерлитамакского корпуса 25 февраля 1919 года, по поводу зверств большевиков, учиненных над солдатами 6?го Б[атальона]…» показало (вряд ли редкую) картину рубки пленных национального полка. Во время боя с красными 11 февраля 1919 года в деревне Старо-Кобясовой 1-я и 2-я роты оказались окружены и сдались – около 170 человек. Когда этап подошел к деревне Калгасу, «…все пленные были выстроены и началась зверская резня, которую старший унтер-офицер Кужахметов отказывается передать – боясь кошмара. У него ранена голова в трех местах, правое ухо рассечено, проколот левый бок ниже легких, пальцы правой руки разрублены на отдельные висячие клочки до основания кисти, два пальца отрублены, а левая рука также раздроблена и отрублены пальцы». Показания унтера подтвердили девять уцелевших татар и башкир, большей частью с отрубленными руками[710 - Вестник Приуралья. Челябинск, 1919. 22 марта. № 8.]. Подобные жестокости, типичные для обращения красногвардейцев с пленными, чрезвычайно повлияли на обилие и распространенность повсюду актов мести со стороны и белых, и чехословаков.
Добавим, что описанные уцелевшими бойцами картины отступления красных отрядов, полностью разбитых на Байкале под Слюдянкой, демонстрировали жестокость и по отношению к своим. Обессилевшие при походе через тайгу, питавшиеся ягодами, бойцы неделю спустя делали в день едва шесть-семь верст: «Многие отстают, прося их пристрелить, или взять с собой, сначала брали их с собой, а потом просто пристреливали, раз отстал, все равно и так и так погибать»[711 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1331. Л. 31.]. При отступлении отряда Каландаришвили «один командир взвода пристрелил жену (у ней начались родовые схватки) и застрелил себя»[712 - Новиков П. А., Хипхенов Г. И. «Саяны на военном фоне»: Поход красного отряда во главе с Н. А. Каландаришвили осенью 1918 г. // Известия Лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 1. С. 181–195.]. (Известный енисейский партизан М. Т. Савицкий в мае 1919 года под селом Вершино-Рыбинским, раненный четырьмя пулями в шею и лицо, просил добить: «Его свой же партизан штыком в живот ткнул. Он вскочил и бежал за партизанами, крыл матом…»[713 - Комарова Т. С. Гражданская война в Енисейской губернии. С. 93; ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 1400а. Л. 13.])
Итоги красного правления за первые пять месяцев 1918 года показали, что сибирские коммунисты вступили в конфликт с большинством жителей региона[714 - Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири. С. 421.]. Летом 1918 года население не поддержало большевиков, а его активная часть оказала серьезное сопротивление узурпаторам, разогнавшим Учредительное собрание, подписавшим позорный Брестский мир и установившим «диктатуру пролетариата», сразу представшую в виде бестолковой и мародерской анархии. Итогом оказалось создание организованного антикоммунистического подполья. В свержении большевиков видную роль сыграла сибирская кооперация, израсходовавшая на поддержку подполья и легионеров Чехословацкого корпуса около 20 млн рублей[715 - Пивоваров Н. Ю., Рынков В. М. Сибирская кооперация в системе властных отношений в эпоху войн и революций 1914–1920 гг. // Власть и общество в Сибири в ХX веке: Сб. научных статей. Новосибирск, 2012. Вып. 3. С. 53.].
Главной причиной, толкавшей часть сибиряков на вооруженную борьбу с советской властью, стал произвол, допущенный коммунистами по отношению к значительной части населения. Прежде всего, это репрессии против зажиточных сословий, офицеров, кооперации, православной церкви, депутатов Учредительного собрания, а также многих рядовых граждан, запреты на деятельность популярных в Сибири политических партий (меньшевиков, эсеров, кадетов) и их прессы, ограничения в торговле, произвольные реквизиции и конфискации, крайне низкое качество управления.
Уже к маю 1918 года Томская тюрьма была заполнена рабочими, солдатами, крестьянами, «низшими служащими Боготольского ж. д. района», эсерами[716 - Из истории земли Томской. 1917–1921. Народ и власть: Сб. документов и материалов / Сост. В. И. Марков, Б. П. Тренин. Томск, 1997. С. 285.]. Когда в начале июля 1918 года белые захватили небольшой город Ялуторовск Тобольской губернии, из тюрьмы были освобождены «до 170 местных крестьян, посаженных советскими властями за саботаж и прочие преступления против революции»[717 - См.: Филимонов Б. Б. На путях к Уралу. С. 79–80.]. Помнили жестокости красных и соседи-уральцы: чекисты Особого отдела наступавшей на Урале 3?й армии отмечали в августе 1919 года, что часть населения Шадринского уезда проявляет «недоверчивость из?за массовых репрессий и несправедливостей местной власти в 1918 году в некоторых волостях»[718 - РГВА. Ф. 176. Оп. 6. Д. 4. Л. 16 об.].
Есть сведения о расстрелах большевиками и левыми эсерами офицеров в Красноярске. Именно в связи с причастностью к этим расправам активной создательницы боевых отрядов в Енисейской губернии, члена ЦИК Советов Сибири, комиссара печати и одного из проводников насильственных хлебозаготовок – А. П. Лебедевой[719 - О фанатизме этой революционерки писали и однопартийцы: «Когда товарищи советовали ей поступить сестрой милосердия, то получили отрицательный ответ потому, что ухаживать за ранеными белогвардейцами, активными врагами революции, она не могла» (Красная Голгофа. С. 70).] («особенно настаивала в свое время на расстреле офицеров»[720 - В этом Ада Лебедева была не одинока: согласно белым источникам, коммунист и член Сибирской облдумы М. М. Рабинович (расстрелянный в Омске весной 1919 года) на Анжерских копях «агитировал о избиении офицерства» (см.: ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 768. Л. 61).]) казаки сотника И. Д. Фереферова 27 июля 1918 года выхватили ее из толпы советских работников, конвоируемых в Красноярскую тюрьму, и затем беспощадно замучили, зарубив на берегу реки Качи. С ней погибли командующий вооруженными силами Енисейской губернии Т. П. Марковский и «гроза красноярской буржуазии» – начальник милиции С. Б. Печерский[721 - Красноярский рабочий. 1923. 14 марта; Сидоров В. Партизанам и красногвардейцам Восточной Сибири. М.; Иркутск, 1932. С. 17. Советская пресса по свежим следам признавала, что бывшая эсерка Лебедева «заплатила мученической смертью» именно за свою «непримиримую ненависть к насильникам и эксплуататорам» (см.: Красноярский рабочий. 1920. 26 марта. № 63. С. 1).].
Протест же против избыточного насилия проявлялся подчас даже среди самих красных силовиков: так, председатель Енисейского губревтрибунала И. Королёв уже в феврале 1918 года застрелился, не желая участвовать в большевистских репрессиях[722 - Сибирская газета. 1991. № 40. С. 8.]. Но они только усиливались. Енисейский губисполком 4 марта приказал уездным совдепам: «Принимайте строгие меры наблюдения за контрреволюционерами. Всякие попытки сопротивляться Советской власти беспощадно подавляйте»[723 - Познанский В. С. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией. С. 74.].
Сибирь была с 5 апреля того же года объявлена на военном положении. Один из лидеров омских большевиков в это время откровенно признавал, что советская власть держится только на штыках[724 - Познанский В. С. Сибирский красный генерал. Новосибирск, 1972. С. 87.]. В апреле, в ответ на высадку японского десанта во Владивостоке, деятели Центросибири решительно восклицали: «Рабоче-крестьянская власть завоевана потоками крови рабочих и крестьян[,] и они не отдадут ее, каковых бы новых потоков крови это ни стоило». В июле они провозглашали то же самое: «Рабочий класс не остановится ни перед какой кровавой и разрушительной борьбой за свою власть…»[725 - Власть труда. Иркутск, 1918. 12 апр. № 65; Центро-Сибирь. Иркутск, 1918. № 21. 1 августа.]
В ответ на силовую политику коммунистов по всей Сибири возникли тайные и явные вооруженные организации в более чем в 40 сибирских населенных пунктах. Основой этой почти 6-тысячной тайной армии были офицеры. С момента большевистского переворота до восстания Чехословацкого корпуса только в Томской губернии возникло 17 подпольных организаций и за февраль–май 1918 года произошло 36 вооруженных антибольшевистских выступлений. Среди последних были и крупные: продолжительное восстание в Нарыме в марте–апреле; выступление 1,5 тыс. рабочих и членов их семей на Судженских копях Кузбасса 26–27 марта; стихийный бунт почти тысячной толпы в Барабинске 18 мая, сопровождавшийся самосудом над начальником милиции Горбачёвым (подавленный омскими красногвардейцами) и др.[726 - Дробченко В. А. Антибольшевистское сопротивление в Томской губернии в октябре 1917 – мае 1918 г. // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 2. С. 82.]
Во время мятежа 18 апреля в Бийске погиб председатель городского революционного суда большевик К. И. Фомченко, были избиты члены горсовета. При попытке большевиков конфисковать продукты в томском Иоанно-Предтеченском женском монастыре 24 мая агрессивно настроенная толпа при явном участии белых подпольщиков смертельно ранила главу местной чрезвычайной комиссии Д. И. Кривоносенко, пытавшегося отстреливаться[727 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1157. Л. 10; Звезда Алтая. Барнаул, 1927. 6 и 24 нояб.; Борцы за власть Советов. Томск, 1959. Вып. 1. С. 126–128.].
Вооруженный протест наблюдался и в Восточной Сибири. В селе Троицк Голуметской волости Черемховского уезда Иркутской губернии бывшие политссыльные И. Зотин и И. Мызгин создали «Союз батрацкой молодежи», составленный из освобожденных уголовников и солдат-дезертиров. Организовав боевую дружину, они приступили к захвату чужой собственности. В ответ граждане создали отряд самообороны, который в феврале 1918 года выдержал настоящий бой с красногвардейцами. Те устояли только при поддержке красных отрядов из Тырети[728 - Тумуреев И. Бандитизм как проявление социального кризиса в 1920?е гг. (по материалам Иркутской губернии) // Прибайкалье в истории России: Материалы научно-практической студенческой конференции. Иркутск, 2008. С. 91–92.]. Но 14 марта окрестные крестьяне соседних волостей тысячной толпой разгромили совет, самосудом уничтожив до 20 человек во главе с председателем исполкома Крыловым. Сами большевики признавали, что троицкая власть организовалась из воров-рецидивистов, объявивших себя анархистами и мстивших «крестьянам за жестокую расправу последних с ними за недавние кражи»[729 - Новиков П. А. Гражданская война в Восточной Сибири. С. 54.].
Красногвардейцы в столице Урянхая Белоцарске 10 или 11 марта 1918 года были легко разогнаны казачьей сотней. Не дав ни выстрела в ответ, они «бросились разбегаться кто куда может», были переловлены, обезоружены и отпущены. Однако казаки вскоре ушли, что дало возможность большевикам восстановить власть и отобрать имущество около десятка самых зажиточных купцов (Вавилиных, Шепелиных, Сафьяновых), конфисковав до 7 тыс. лошадей, 12 тыс. голов крупного рогатого скота, 4 тыс. овец и 310 маралов – примерно на 1 млн рублей. В ответ в мае в двух селах (Туран и Уюк) вспыхнуло Туранское восстание, в ходе которого красногвардейский отряд был сначала разбит, но затем, собрав весь личный состав (300 человек) под командованием Цивинского и С. К. Кочетова, нанес восставшим поражение и арестовал 30 зачинщиков, отправив их в Минусинск[730 - ГАРФ. Ф. 374. Оп. 27. Д. 1902. Л. 15, 18, 19.]. Оставшиеся на свободе вскоре, с помощью усинских дружинников и староверов Мало-Енисейска, свергли красных и арестовали 90 человек; председатель Урянхайского крайсовета С. К. Беспалов был убит. Арестованных крепко избили и отправили в ту же Минусинскую тюрьму, поменявшую хозяев; в последующий месяц в селах выловили еще сотню сочувствовавших советам[731 - ГАРФ. Ф. 374. Оп. 27. Д. 1902. Л. 20, 21, 23, 24.].
Следует отметить, что в мае–июне 1918 года в Томске и Барнауле произошли вооруженные выступления офицерских организаций, чья подготовка не была должным образом законспирирована, и подавленные с заметными потерями для заговорщиков. В Омске к началу года, согласно мемуаристу-большевику, только зарегистрированных офицеров насчитывалось 7 тыс.[732 - Полюдов Е. В. «Атамановщина в Сибири», рукопись // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1418. Л. 13.], а военная организация образовалась уже 9 января и действовала по конспиративной системе троек и пятерок. Один из белых подпольщиков откровенно поведал о ситуации в городе: «Деньги добывались торгово-промышленными кругами, а оружие и пулеметы экспроприировались у большевиков». Члены организации смогли проникнуть во все советские учреждения Омска, в их руках был телеграф, который даже не пропускал либо искажал иные распоряжения и сообщения властей. Накануне бегства большевиков совдеп узнал об этой организации, и латыши-красногвардейцы приступили к арестам и расправам. Но благодаря наличию собственной контрразведки почти все заговорщики успели скрыться[733 - Бурлинский П. Освобождение Омска // Наша Заря. Омск, 1919. 7 июня. № 120. С. 1.].
Как известно, события ночи с 25 на 26 мая 1918 года, связанные с восстанием 31-тысячного корпуса чехословацких легионеров (численность которых распределялась так: в Поволжье 10 180 человек, на Урале и в Сибири – 7350, на Дальнем Востоке – 13 500; боевой состав в целом – не более 20 тыс. человек. А на линии Чулым–Новониколаевск–Тайга под командованием капитана Р. Гайды на Красноярском, Омском и Барнаульском направлениях лишь 910 штыков[734 - Симонов Д. Г. К вопросу о численности Чехословацкого корпуса на востоке России в период Гражданской войны // Региональные процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории. Новосибирск, 1998. С. 146.]), резко изменили ситуацию и не позволили большевикам разгромить белое подполье. Напротив, в течение всего нескольких недель Западная Сибирь освободилась от коммунистической власти.
В течение лета она пала и в Восточной Сибири. В ночь на 14 июня 1918 года в Иркутске около 400 восставших офицеров А. В. Эллерц-Усова захватили губернскую тюрьму, убив коменданта-латыша А. К. Аугула и двух охранников. На свободу вышло 157 узников, в том числе 50 политических. Выступление встретило отпор, и к утру восставшие рассеялись в пригородных лесах. Чекисты И. С. Постоловского, позднее пойманного и повешенного, начали аресты (схватив до 150 человек), пытки и скороспелые расстрелы, не щадя и гимназистов. Попытку избиения одного из арестованных предпринял даже председатель Иркутского военревкома Я. Д. Янсон. Как вспоминал П. П. Постышев, «ревком повел беспощадную борьбу с повстанцами, начали действовать пролетарские военно-полевые суды, военно-революционный трибунал…»[735 - Новиков П. А. Гражданская война в Восточной Сибири. С. 62, 81; Постышев П. П. Гражданская война на Востоке Сибири. С. 16.].
Первый иркутский террор оказался скоротечен: казнив 42 человека, причем только 12 – по приговору военно-полевого суда, а остальных – без суда и следствия (трупы нашли обожженными и изрубленными)[736 - Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924 гг. Иркутск, 1994. С. 293–307.], красные 11 июля бежали из Иркутска, став отныне мишенью мстителей. П. Д. Яковлев, появившийся в Иркутске на следующий день после входа в него чехословаков, утверждал на следствии, что «никаких расстрелов в это время не было… и только обывательщина расправлялась с красногвардейскими и советскими работниками»[737 - ЦА ФСБ. Д. Р-45369. Т. 1. Л. 36 (было убито несколько человек).].
Тут следует отметить, что стихийные попытки погромов, предпринимавшиеся в данный период, белые власти пресекали. Когда 24 июня 1918 года отряды повстанцев, намереваясь изгнать коммунистов из Минусинска, подошли к городу, за ними «следовали тысячи пустых подвод и толпы мужиков и женщин, жаждавших его разграбления». Но офицеры и казаки тут же разоружили окрестных крестьян, рассчитывавших поживиться городским добром, чем сильно их разочаровали[738 - Журов Ю. В. Енисейское крестьянство в годы гражданской войны. С. 74–75; Шекшеев А. П. Деревня против города. С. 107.].
В Чите советские власти в начале 1918 года организовали грабительскую группу в составе командира 1?й Забайкальской казачьей дивизии вахмистра М. В. Янькова (анархиста, до революции судимого за мошенничество и подлоги), председателя горсовета Е. П. Попова, начальника красногвардейского штаба М. Я. Перцева и председателя контрибуционной комиссии. Они вместе со своими приближенными занимались взяточничеством, вымогательством и грабежом, а отобранные у населения ценности транжирили в кутежах. Когда их действия выплыли наружу и началось следствие, читинские лидеры в апреле 1918 года скрылись (впоследствии Перцев и Попов стали вождями партизанских отрядов в Западной Сибири[739 - Яньков был арестован белыми и повешен в Иркутске в ноябре 1918 года.]), а уже в мае читинская Красная гвардия со своим штабом была распущена[740 - Ларьков Н. С. Начало гражданской войны в Сибири. С. 102–103; Штырбул А. А. Анархистское движение в Сибири в 1?й четверти XX века. С. 6–7.]. (Тогда же, 22 мая, предводитель Красной гвардии в Верхнеудинске В. А. Жердёв был забит до смерти прямо на городском митинге, где призывал бороться с атаманом Семёновым[741 - Партизаны Прибайкалья: воспоминания участников гражданской войны в Бурят-Монголии. С. 227; Исторические спецкурсы: Учебное пособие: В 2 ч. / Под ред. Л. А. Зайцевой. Улан-Удэ, 2010. Ч. 1. С. 117.].)
Подпольную работу в Чите вели эмиссары атамана Семёнова Л. Власьевский, Г. Крахмалёв и Февралёв, но чекисты внедрили в их ряды своего агента, бывшего офицера Н. Фёдорова. В ночь на 12 апреля 1918 года красные произвели аресты подпольщиков, захватив оружие и списки членов Союза возрождения Родины. Однако деятельность антибольшевистского подполья не прекратилась. Попытка выступления была предпринята частью читинцев 19 июня, когда «офицеры, попы, чиновники» решились выйти на улицу, обстреливая и обезоруживая часовых: «Эта жалкая попытка была смята беспощадно. Первый сводный отряд под командой тов. Кельманова разгромил черносотенные толпы. Пойманным было воздано по заслугам»[742 - Партизаны: Сб. статей, партизанских и красногвардейских воспоминаний, исторических документов и боевых песен, посвященный трехлетней героической борьбе рабочих и крестьян Забайкалья за власть Советов. Чита, 1929. С. 34 (мемуары Н. Шитова «Красногвардейцы Читы Первой в боях с белогвардейщиной»), 203.].
Тогда же читинские власти обстреляли и разогнали крестный ход, подошедший к тюрьме, куда были заключены местные преподаватели Закона Божьего: одна женщина погибла, несколько человек получили ранения. Большевики провели аресты демонстрантов и впоследствии 16 человек осудили к заключению[743 - Константинов А. В., Константинова Н. Н. Забайкалье: Ступени истории (1917–1922 годы). Чита, 2009. С. 29, 30; Жигалин Я. Большевики с турецкого фронта // Партизаны. Чита, 1929. С. 72.]. Между тем Союз возрождения Родины действовал: уцелевших его членов возглавил полковник Ивановский. Но чекистам снова удалось внедрить в их среду своих агентов – Г. Мордвинова и В. Калинина. Поэтому накануне падения Читы, когда белые готовили выступление, чекисты арестовали активистов с Ивановским во главе. Тем не менее белые смогли поднять на восстание казаков Титовской, Знаменской и Нерчинской станиц. А 26 августа 1918 года красные были вынуждены бежать из Читы[744 - Василевский В. И. Забайкальская белая государственность в 1918–1920 годах: краткие очерки истории. Чита, 2000. С. 147.].
Очень короткий период советской власти в Якутии тем не менее также успел безнадежно скомпрометировать большевиков. При взятии Якутска в июне 1918 года отрядом А. С. Рыдзинского красногвардейцы убивали многочисленных пленных якутов в церкви, казначействе, школе, на почте (истребив в бою и после до 70 человек), а захваченное оружие в изобилии досталось уголовным элементам[745 - За Советскую власть в Якутии (Воспоминания). Якутск, 1957. С. 125, 126; Борьба за власть Советов в Приленском крае. С. 25.]. Один из виднейших тамошних партийцев, И. Н. Барахов, вспоминал: «В Якутске в то время существовала партизанщина, без твердой направляющей руки, без надежных и популярных руководителей. Стоявшие во главе движения руководители еще больше разлагали массы»[746 - За Советскую власть в Якутии. С. 24.]. Председателем Якутского облисполкома совета рабочих и казачьих депутатов в августе 1918 года являлся левый эсер Л. Н. Аммосов, который, по утверждению прессы, «занимался поставкой самогонки». Сами красные признавали, что вербовали в свои ряды без всякого разбора любой криминал: «Набралось немало уголовных каторжан… в результате уголовщина нас захлестнула»[747 - Хипхенов Г. И. Крушение Центросибири. С. 355.].
Советская власть в итоге продержалась в Якутии чуть больше месяца. Навербованная из уголовников Красная гвардия под натиском добровольческого отряда поручика М. И. Гордеева разбежалась и была вскоре выловлена, причем «знаменитый убийца Дибень с сподвижником был убит на свинцовом заводе в устье Алдана»[748 - С. К. Ликвидация большевизма в Якутии // Народная Сибирь. Новониколаевск. 1918. 28 нояб. № 121. По другим данным, уголовника звали Дибель, и он смог скрыться. Хипхенов Г. И. Крушение Центросибири. С. 356.]. Священник Сивцов в телеграмме правительству сообщал о гибели значительного числа сторонников властей, «преимущественно Якут»[749 - ГАРФ. Ф. 176. Оп. 1 Д. 16. Л. 153.]. Некоторое время спустя тунгусы и чукчи Колымского и Верхоянского уездов пожертвовали 12 тыс. рублей семьям погибших от рук большевиков в Якутской области[750 - Наша Заря. 1919. 26 марта. № 65. С. 2.].
На Уссурийском фронте, где действовало почти полтора десятка тысяч красных, они активно довольствовались за счет местных жителей, что привело к ряду восстаний. Вооруженные антибольшевистские выступления в августе 1918 года произошли и в Амурской области (казачьих станицах Иннокентьевская, Михайло-Семёновская, Черняево и Поярково, Полетинской волости), и в Приморье (в Бикине, Имане). В ответ войска террористическими мерами приводили крестьянское население к покорности. Командовавший Уссурийским фронтом бывший офицер В. В. Сакович «…решил дать урок не только для сегодняшнего, но и для завтрашнего дня. Мятежи были подавлены им с плебейской решительностью и с той суровостью, которой требовала грозная обстановка»[751 - Ильюхов Н. К. Эхо Приморских сопок // За советский Дальний Восток. Владивосток, 1990. Вып. 5. С. 48. Также Сакович в августе ввел в прифронтовой полосе и в тылу военно-полевые суды для борьбы с контрреволюцией. (См.: Дальневосточные известия. Хабаровск, 1918. 14 авг. № 147.)].
Многие уголовные достижения персонажей, выдвинувшихся в период первой советской власти, были на слуху у общественности: «…Достаточно вспомнить читинских комиссаров: есаула Ян[ь]кова, Перцева, Попова и др., обворовавших читинский совдеп, комиссаров Винокурова[752 - О Павле Винокурове известно, что он в 1918 году расхитил деньги в Чите, при белых сидел в тюрьме как уголовный, затем подозревался в провокаторской деятельности и был расстрелян Иркутской губЧК (кстати, его брат был сотрудником ИргубЧК). ГАНО. Ф. Д-143. Оп. 1. Д. 68 (АСД по обв. Г. Крейцвальд). Л. 198–198 об.], [В. А.] Смолина, Пережогина, Мордоховича – из уголовных преступников; барона [А. А.] Таубе, начальника большевистского штаба в Иркутске из русской аристократии[753 - В довоенный период весь штаб Иркутского округа именовал Таубе, как «образец глупости и невежества», не бароном, а «бараном Таубе». Хипхенов Г. И. Крушение Центросибири. С. 58.], увезшего несколько сот тысяч из Иркутского совдепа, офицера Дмитревского, обворовавшего в Якутске своего зятя; знаменитого курганского Церетели, судившегося за грабежи неоднократно; омского [члена исполкома З. И.] Лобкова – Зямку, мальчика с темным прошлым, но вертевшего головы всему Омску в течение многих месяцев, и уголовного [председателя омского ревтрибунала, бывшего боевика Камо в Баку А. А.] Звездова[754 - А. Звездов неграмотно, но ярко описывал свои похождения: «…Я почти был инициатором организации группы бомбистов. При одной из экспроприаций [в Баку], где я был начальником, у меня спали усы и меня узнал Управляющий Конторы Строганова… [Если] нужно… устранить сыщика – это дело нашей группы… Как меня не разыскали, я думаю, что все мои грехи замял управляющий А. М. Карякин и Вице-Губернатор, друг управляющего, который меня очень любил… <…> Я легко укрылся в Ярославле, я уже успел дать урок по экспроприации. <…> После постановления Лондонского Съезда (РСДРП о запрете экспроприаций. – А. Т.) Костромской Комитет нам предложил сложить оружие, но мы не подчинились и решили создать свою С-Д организацию, тем более у нас были очень сильные партийныя силы, а главное 30 тысяч экспропр[иированных] денег и 10 пудов перекселину (пироксилина. – А. Т.)… После нападения на Окружной Суд[,] где мы хотели взять у нас взятое оружие, но операция была не удачна и в конце ноября 1906 года сел и я… Нас двоих привлекли за убийство… полицмейстера, но благодаря того, что с нами сели два брата Стенкевича, коих отец был каким то инспектором и другом следователя по важнейшим делам Количева[,] нам не устроили очной ставки». В ноябре 1916 года матерый боевик Звездов оказался мобилизован в армию (см.: ГАНО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 119. Л. 44).]! Всех впрочем не перечислить»[755 - В. П. Из коммунистического рая // Заря. 1919. 19 февр. № 37. С. 3.].
К этому перечню всевозможного крупного жулья можно добавить военкома Семипалатинска К. Шугаева, который, угрожая расстрелом, забрал у местного фабриканта С. Плещеева 200 тыс. рублей и арестовал его сына в качестве заложника. Плещеев переписал номера изъятых у него кредиток и направил жалобу в следственную комиссию совдепа, где имелись противники военкома. При расследовании выяснилось, что руководители совдепа поделили эти 200 тыс. между собой; следственная комиссия смогла изъять 40 тыс. рублей у комиссара труда и промышленности – студента Лягина. На глазах у горожан Шугаев гонялся за членом следкомиссии Милютиным, но компрометирующих материалов отобрать не смог. После суда, на котором, по мнению местной прессы, «одна часть мошенников судила другую такую же часть», Шугаеву предложили уехать из Семипалатинска[756 - Аманжолова Д. А. Казахский автономизм и Россия. С. 47.]. Деповские рабочие Омска в марте 1918 года провели самовольный обыск на квартире областного комиссара продовольствия, большевика Митяева, обнаружив немалое количество мануфактуры и готового платья; материалы комиссии были переданы в ревтрибунал[757 - Помозов О. А. День освобождения Сибири. С. 357.].
Процесс национализации, а фактически – экспроприации частного имущества в промышленной сфере властями Степного края (нынешний Северо-Восточный Казахстан) и Туркестана имел вид «карательной акции, носившей репрессивный характер»[758 - Медеубаев Е. И. Военный коммунизм в Казахстане: политика, практика, идеология (1918–1921 гг.). Актобе, 2001. С. 76–77.]. Население Степного края порой само расправлялось с большевиками. В поселке Ермак (50 верст от Павлодара) 9 мая 1918 года группой пьяных рабочих был убит попытавшийся арестовать агитатора-«антисоветчика» С. И. Царёв – чрезвычайный комиссар Экибастузских копей и член Павлодарского совдепа. В ответ отряд красногвардейцев арестовал 60 человек по обвинению в заговоре, но те оказались освобождены после бегства большевиков от чехословаков. Другой видный комиссар, Токаш Бокин, активный участник антироссийского восстания 1916 года, после захвата красногвардейцами 3 марта 1918 года города Верного стал секретарем областного Семиреченского военно-революционного комитета. Бокин столь рьяно взялся за реквизиции байского добра, что в июне сами советские власти арестовали его за грабежи и присвоение ценностей. В сентябре алашординцы выкрали Бокина из тюрьмы и зарубили за городом[759 - Борцы за Советскую власть в Казахстане. Алма-Ата, 1987. Вып. 2. С. 235–236.]. (Отметим, что в южных губерниях России, подконтрольных армии и правительству генерала А. И. Деникина, происходили сходные процессы криминализации местной власти[760 - Карпенко С. В. Экономический кризис и коррупция: Из истории тыла белых армий юга России (1918–1920 гг.) // Экономический журнал. 2015. № 1 (37). С. 109.].)
Бегство большевиков сопровождалось еще большими грабежами и мародерством. Сводка из Екатеринбурга от 8 июля 1918 года сообщала: «В прифронтовой полосе… Население живет в страшной темноте, питается ложными слухами и страшно запугано грабительскими наклонностями некоторых красноармейских частей»[761 - Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы: В 4 т. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 2000. Т. 1: 1918–1922 гг. С. 73.]. Красногвардейскими отрядами беспощадно громились волости Златоустовского уезда, восставшие против грабежей. Одним Мурзаларским отрядом в Аркауле и Мунаевой было расстреляно по 200 человек, в деревне Ильтаевой – 20, Мечетлиной – 36, а всего до 500 человек[762 - Егоров А. В. К вопросу об эвакуации большевиков из Уфы в июле 1918 года // Башкирский край: Сб. статей. Уфа, 1993. Вып. 3. С. 109.].
В Сибири ни один из городов красные не обороняли по-настоящему, обычно покидая их при первых неудачах на фронте. Из оставляемых городов, где часто бросали оружие, в спешке вывозились ценности, включая средства местного населения. П. К. Голиков доносил в Центросибирь, что отступление от станции Тыреть (более 200 верст от Иркутска) носило характер панического бегства, при этом красные «основательно грабили деревни бурятских крестьян». Бежавшие из Тюмени большевики оставили 20 паровозов, но успели подвергнуть город «массовому ограблению»[763 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 1524. Л. 96, 138.]. Бессудные расправы обыденно сопровождали путь отступавших красных отрядов. Так, летом 1918 года священника большого села Голышмановского Ишимского уезда Тобольской губернии Ф. Богоявленского красные солдаты «…принуждали петь непристойные песни, играть на гармошке и плясать. Наконец приказали самому себе рыть могилу. Убив священника, свалили его в яму вниз головой и запретили хоронить»[764 - Дамаскин, игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. М., 2001. Кн. 2. С. 176.].
Дисциплина в красных войсках почти отсутствовала: бойцы пьянствовали, приводили в вагоны женщин, не подчинялись приказам, мародерствовали, а выборные командиры то и дело заявляли, что ответственны лишь перед волей своих бойцов[765 - Рябиков В. В. Центросибирь. Новосибирск, 1949. С. 86.]. За три дня до спешной эвакуации Иркутска группа красногвардейцев и венгров на трех грузовиках похитила с таможенного склада 200 пудов опиума на более чем 2 млн рублей, одна доля которого была реализована среди китайцев, а другая увезена на восток[766 - Новиков П., Романов А. Заготовка жёрнова на собственную шею. С. 101.].
Перед бегством из Читы анархисты и часть красногвардейцев потребовали от властей выдачи по 5 тыс. рублей золотом на человека. Получив отказ, они, возглавляемые профессиональным уголовником и недавним пациентом психиатров Ефремом Пережогиным, с боем взяли Госбанк и забрали оттуда 240 пудов золота и 360 пудов серебра на 8,6 млн рублей[767 - Василевский В. И. Забайкальская белая государственность. С. 16.], устроив затем массовый кутеж, «к коему подключились и местные товарищи», чем окончательно дискредитировали власть[768 - Бутенин Н. А., Бутенина Н. Д. Политические режимы «демократической контрреволюции» на Дальнем Востоке летом–осенью 1918 г. // Политические системы и режимы на востоке России в период революции и гражданской войны: Сб. научных статей. Новосибирск, 2013. Вып. 2. С. 63.]. Однако поживился драгоценностями не только Пережогин. На Урульгинской конференции советских работников, завершившей историю «первой» советской власти, отметили факт «разграбления воинскими частями и группой анархиста Пережогина Государственного банка и Горного управления» и постановили телеграфировать по всей линии железной дороги об аресте десяти виновников. Среди них, помимо анархистов Пережогина и Караева, значились видные фигуры красного сопротивления: главковерх войск Центросибири П. К. Голиков (смог сбежать в Западную Сибирь), его начштаба левый эсер (или анархист) Х. Е. Гетоев, председатель Сибвоенкомата Центросибири меньшевик П. Н. Половников, военспец Сибвоенкомата Балк, командир Иркутского партизанского конного отряда В. Брюков и некоторые другие[769 - Советский автор уверял: «Чтобы замести следы своего преступления, бандиты [Пережогина] распустили слух о том, что золото похитили „советские комиссары“, якобы сбежавшие из Читы» (см.: Крушанов А. И. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке (1918–1920). Владивосток, 1972. Кн. 1. С. 41).]. Эти деятели пытались пробиться в Монголию с частью захваченных ценностей, но за селом Танга (ныне Улётовский район Забайкальского края) их отряд был разбит казаками, а найденное золото – конфисковано. Однако часть слитков большевики успели припрятать в селах по пути (в 1968 году в селе Танга было найдено пять слитков)[770 - Баринов А. Загадки «золотого обоза» // Забайкальский рабочий. Чита, 2019. 19 авг.].
Чекисты же бежали из Читы столь стремительно, что даже бросили сейф с личными делами сотрудников[771 - Курчаткин А. Победитель: Истинная жизнь легендарного разведчика. М., 2005. С. 106–107.]. Вообще укрепление позиций и дисциплины на фоне наступления белых не было приоритетом. Советская пресса резко писала о наводнившей Читу стае «саранчи [в виде] гастролеров из Иркутска» с мандатами Сибвоенкомата, устроивших разгул в занятых ими гостиницах: «Шампанское рекой льется». Один из мелких красных начальников возмущенно описывал сцены на улицах Читы, где вояки-анархисты швырялись деньгами. Так, обращаясь к услугам чистильщиков сапог, они заставляли их использовать вместо щеток дорогие букеты цветов, а к услугам извозчиков – везти себя в дома терпимости, притом расплачивались кусочками золота, отрубленными от банковских слитков зубилом здесь же, на трамвайных рельсах[772 - Забайкальский рабочий. Чита, 1918. 6 авг.; ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 766. Л. 110 об.].
Аналогичное разложение применительно к Благовещенску, куда анархисты привезли награбленное в Чите золото, подтверждал и А. Н. Буйских: «…Благовещенск был наводнен золотом», около тонны которого оказалось продано на китайскую сторону; нельзя было найти извозчика для деловой поездки – все были заняты гуляками; за чистку сапог небрежно бросали сторублевую кредитку. Пир во время чумы, происходивший в Благовещенске, являлся типичным поведением остатков красных, которые были словно одурманены в предчувствии конца и поголовно пьянствовали: «Началось невообразимое швыряние деньгами. <…> Станки круглые сутки печатали кредитки и не успевали покрывать спрос. В комиссариат финансов приходили вооруженные красногвардейцы и требовали деньги». Буйских обиженно отмечал: «В эти последние дни у массы явились большие требования, чем в нормальное время. …Можно было слышать смело говорящих недовольных властью людей, которые раньше были дисциплинированы, как партийные, и всегда язык держали за зубами»[773 - Буйских А. Н. Революционные очерки. Кн. 1. С. 108–110.].
Командование канонерок и судовой комитет Амурской речной флотилии отказались послать людей на Уссурийский фронт, а перед бегством красных запретили вывоз из Хабаровска оружия и ценностей. В результате пять канонерок белые использовали для перехвата пароходов, на которых спасались большевистские комиссары, бежавшие из Хабаровска. Флотилия же заместителя командующего Уссурийским фронтом Г. М. Шевченко вышла из Благовещенска 18 сентября, но около Суражевского железнодорожного моста через Зею, захваченного японцами, была внезапно обстреляна артиллерией. Несколько пароходов и барж с комиссарами и сотнями красноармейцев были сожжены и затоплены, причем в ходе панической эвакуации под огнем погибло много советских работников[774 - Куликов С. В. Амурская трудовая социалистическая республика // Россия в Гражданской войне 1918–1922. Энциклопедия в трех томах. М., 2020. Т. 1. С. 86; Хипхенов Г. И. Крушение Центросибири. С. 538–542.]. Амурская пресса сообщала, что при очистке баржи «Крахаль» до поздней осени обнаруживались трупы, которые японцы выдавали желающим для погребения. Разыскивать тела комиссаров нашлось немало добровольцев, ибо при них находились «громадные деньги» или хотя бы добротная верхняя одежда[775 - Амурское эхо. Благовещенск, 1918. 3 дек. С. 5.].
Помимо неизменных грабежей и отдельных убийств отмечены факты уничтожения большевиками при своем бегстве как взятых в заложники «буржуев», так и просто граждан из числа потенциально нелояльных. Особенно часто такие чистки практиковались на Урале. Р. Гайда вспоминал, возможно завышая количество убитых: «Перед уходом из города Кунгура большевики… расстреляли в продолжении нескольких часов около 400 человек. Когда мы вступили в Кунгур, то отовсюду был слышен плач. Тамошнего купца Агеева с женой мучили, а потом убили на глазах их единственной дочери[776 - Воспоминания дочери Агеевых, Валерии («В один ужасный день мы узнали, что в Кунгуре расстреляна почти вся интеллигенция, кто не удрал»), были обнародованы в 2010–2012 годах. Сами красные признавали, что осенью 1918?го убили 132 кунгурца. См.: Одегов В. Многие расстреляны совсем зря // Искра. Кунгур, 2016. 22 нояб. С. 4.]. <…> При вступлении в городок Осу мы застали там такое же зрелище, как и в Кунгуре. Все мужское население было выбито, так что в городской управе и всех учреждениях работали женщины»[777 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 1524. Л. 370. В Осинском уезде белые вскрыли захоронения с 1800 жертвами красного террора.]. Чехословацкий легионер Й. Клемпа записал в дневнике о первых впечатлениях от кунгурского террора: «20 декабря. В 5 часов утра мы прибыли в город Кунгур. <…> Страшно было слышать, как с ними (горожанами. – А. Т.) обходились большевики. Более 200 трупов было зарыто в снег за городом в лесах. <…> Некоторые были так обезображены, что было страшно на них смотреть»[778 - Klempa I. Moje sk?senosti za svetovej vojny. Denn?k ceskoslovenskеho legionаra z rokov 1914–1920. Bratislava, 2014. S. 112. Цит. по: Елтышева Л. Ю. Кунгур 1918–1919 гг. Красная и белая страница истории // Гражданская война в России (1917–1922): историческая память и проблемы мемориализации «красного» и «белого» движения: Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 16–17 июня 2016 г.) / Ред. Д. А. Алисов, Ю. А. Закунов. М., 2016. С. 92.].
При оставлении Ирбита председатель ЧК Ершов расстрелял 26 июля 1918 года 22 заложника из местной буржуазии – известнейших преподавателей гимназии и учительской семинарии, купцов-благотворителей (и заодно некоего М. В. Егорова «из большевиков»); погибшие были предварительно ограблены на десятки тысяч рублей. Надзирательница тюрьмы рассказывала о пари, которое пьяный Ершов заключил с комиссаром Шошиным на предмет расстрела всех заложников до одного – и которое выиграл. Расстреливаемых прикалывали штыками, палачами выступали мадьяры[779 - Ирбитская трагедия // Архивы Урала. 2007. № 11. С. 91–108; Мемуары Б. М. Ченцова и В. П. Лихачёва (1931) // РГВА. Ф. 28361. Оп. 1. Д. 294. Л. 108. В ответ на террор были сформированы ударный батальон из учащейся молодежи Ирбита, а из жителей города и уезда – три полка Белой армии.]. Перед уходом из Туринска красные расстреляли шестерых горожан[780 - Сибирский листок. Тобольск, 1918. 10 авг.]. В Баранче под Нижним Тагилом красные в октябре 1918 года из мести (белые заняли городок на день, потом отступили) расстреляли несколько техников и 18-летнюю девушку, ругавшую большевиков. Накануне вступления белых в Пермь большевики в ночь на 24 декабря спустили в прорубь управляющего епархией епископа Феофана вместе с семью протоиереями[781 - Делицой А. И. Революция 1917 г. и гражданская война в материалах следственных дел уральских инженеров 1930–1931 гг. // Революционная Сибирь: истоки, процессы, наследие. С. 347; Пермь от основания до наших дней. Исторические очерки. Пермь, 2000. С. 165.]. В Уфе, по данным Особого отдела Департамента милиции, большевики за несколько месяцев казнили свыше тысячи горожан, из них большую часть – накануне своего отступления[782 - Кирмель Н. С., Хандорин В. Г. Карающий меч адмирала Колчака. С. 79.].
В Барнауле отступавшие в том же месяце красные, арестовав 150 человек, напоследок намеревались забросать арестное помещение бомбами, однако порыв рядовых бойцов пресек командир красногвардейцев Л. В. Решетников. С собой они увезли 40 заложников, но расстреляли одного, а остальных отпустили[783 - Краснощёков А. А. Восстание в Барнауле 11 июня 1918 г. С. 100.]. Тогда же воевавшие в Восточной Сибири красногвардейцы, отходя к Нижнеудинску, в селе Шеберта и на станции расстреляли шестерых местных, включая священника В. Петелина, бывшего крестьянского начальника, «кулака» и урядника[784 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 766. Л. 109.]. Зато в Благовещенске, куда 18 сентября вступили японцы и белые, паника среди убегавших большевиков оказалась столь велика, что они забыли про арестантов, и администрация тюрьмы выпустила их всех.
Красногвардейцы летом 1918 года «зачищали» не только военнопленных или заложников, но и местную буржуазию. Этим отметился, например, отступавший через Алтай отряд П. Ф. Сухова. Соратник Нестора Каландаришвили Киршин, вспоминая об отступлении к Троицкосавску, прибавил, что противник щадил красных, а те его нет: «Мы же белых расстреливали», и указал в другом месте на факт казни офицеров в одной из захваченных станиц[785 - РГВА. Ф. 28361. Оп. 2. Д. 43. Л. 18, 24.].
Сопротивление антибольшевистскому перевороту в сибирской и дальневосточной глубинке было слабым. Когда Канский уезд узнал о падении Советов, в известное своими революционными настроениями волостное село Перовское с «криками и выстрелами» приехали на подводах (и с флягами самогона) 2 тыс. бывших фронтовиков. Но скоро они перепились, придя к выводу о том, что пусть с чехами воюет Красная гвардия: «А какая власть будет, не все ли равно». Так что, когда посланец штаба заявил, что оружие выдается лишь надежным лицам, фронтовики, за исключением 70 перовских жителей, быстро разъехались[786 - Петров П. Перовские красные партизаны (начало движения) // Сибирские огни. Новосибирск, 1935. № 1. С. 132–133; Комарова Т. С. Гражданская война в Енисейской губернии. С. 361.]. В деревне Протопоповой Щегловского уезда Томской губернии бывшие большевики-красногвардейцы на общем собрании граждан каялись, признавая вину в том, что отбирали у односельчан хлеб «по дешевой цене», чинили произвол и насилие[787 - Общественно-политическая жизнь Томской губернии в 1880–1919 гг. Т. 2. Ч. 2. С. 371.].
Когда глава большевиков Амурской области Ф. Н. Мухин летом 1918 года ездил по селам агитировать за красных, то переселенцы-украинцы, по словам бывшего с ним подчиненного, гнали Мухина прочь: «Дивысь куме, як вин гарно балакаеть, як от Совитской Власты получае 500 карбованцев в мисець… Геть! катысь! не треба нам такой власти[,] як где все воры да пьяници! Нехай пусть придуть хотя и японци, вины нам дадуть матауз[788 - Матауз – особый матерчатый шнур для обвязки снопов.] и манухвахтуру!»[789 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 766. Л. 111. В селе Шемонаиха Змеиногорского уезда к падению Советов отнеслись безразлично: «Был бы товар, а там хоть немцы правь» (см.: Кокоулин В. Г. Алтай в годы революции, Гражданской войны и «военного коммунизма». С. 132).] Население Амурской области проявляло открытую враждебность к советской власти потому, что из?за «мухинок» – никчемных ассигнаций, которые бесконтрольно печатались областными властями и вбрасывались на рынок, – прекратился подвоз всякого товара[790 - Безродных И. Амур в огне. Хабаровск, 1932. С. 30; Бутенин Н. А., Бутенина Н. Д. Политические режимы «демократической контрреволюции» на Дальнем Востоке летом–осенью 1918 г. С. 62.].
Характеризуя тогдашнее настроение крестьян, белый офицер, объехавший Западную Сибирь, приводил их слова: «Нам все равно – красная или белая гвардия. <…> Нам кто угодно правь, только товару доставь»[791 - Познанский В. С. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией. С. 189.]. Будущие активные партизаны Кучеровского фронта Канского уезда до начала карательных действий белых высказывались аналогично: «Для нас все равно, какая будет власть, черная или красная, лишь бы нас эта власть не трогала»[792 - Кучерово: эхо гражданской войны // Победа. Нижний Ингаш, 2015. 13 нояб. № 46.]. Такое мнение было типично тогда для всей России. В начале 1918 года донской казак на вопрос офицера, за кого он – за красных или за белых, ответил: «Кто из вас победит, за того и будем»[793 - Лобанов В. Б. Белое движение на Северном Кавказе (ноябрь 1917 – май 1919 гг.). СПб., 2012. С. 47.].
Сами коммунисты и партизаны признавали, что в 1918 году красные, защищавшие свою только что свергнутую власть, практически не поддерживались сибиряками – те в большинстве относились к представителям этой власти как к отбросам общества, случайно выплывшим на поверхность[794 - Симонов Д. Г. К вопросу об отношении крестьянства к антибольшевистскому движению в Сибири и на Урале летом–осенью 1918 года // Крестьянский фронт, 1918–1922. С. 634.]. Во многих волостях и даже в некоторых уездах (Минусинском, Тюкалинском) местное население собственными силами бескровно ликвидировало правление большевиков либо активно этому содействовало (в волостях Бийского, Змеиногорского, Канского, Кузнецкого, Курганского, Тарского уездов). Например, на митинге в Тюкалинске толпа после слов члена уездного исполкома о мобилизации против наступающих чехов набросилась на красногвардейцев и арестовала их вместе с исполкомом; то же самое происходило и в селах уезда[795 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 766. Л. 96.]. «Лишь в отдельных волостях красноармейцы и красногвардейцы нашли поддержку и сочувствие части местного населения»[796 - Шишкин В. И. К вопросу о судьбе Советов после антибольшевистского переворота в Сибири (конец мая – июль 1918 г.) // Современное историческое сибиреведение XVII – начала XX вв. Барнаул, 2005. C. 296–313.].
Из мемуаров работника Центросибири известно, что «…попытки мобилизовать крестьянское население кончились ничем… и посланные на мобилизацию команды вернулись без мобилизованных»[797 - Рябиков В. В. Центросибирь. С. 72.]. Как вспоминал И. В. Громов (Мамонов), большевики города Камня в конце декабря 1917 года разогнали городскую управу и организовали, с участием анархистов, сначала уездный совет, а потом и Каменскую уездную республику – с наркоматами и совнаркомом во главе с Громовым (при том, что в Камне насчитывалось всего 17 коммунистов). Проводя национализацию, «наркомы» к маю 1918 года конфисковали у богатой части населения 2 млн рублей[798 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1973. Л. 8–10.]. В результате даже рабочие Камня, «когда мы им дали оружие перед наступлением белых, вернули его и отказались драться». Также Громову пришлось признать, что, когда он послал красногвардейцев в большое село Ключи мобилизовать у крестьян лошадей для кавалерии, мужики оказали сопротивление и убили двух отрядников[799 - Громов И. В. За власть Советскую. С. 15; Революционные события и гражданская война в Алтайской губернии. С. 172–174.].
Отвернулись от помощи советам и омские рабочие: «По Атаманской и Дворцовой улицам… стояли толпы, открыто возмущавшиеся предательством безответственных главарей, оцепивших пароходы и спешно грузивших на них достояние русского народа, русской казны и государственного банка». Рабочие депо отказались выступать навстречу чехам и не дали разрушить железнодорожные пути и постройки[800 - Бурлинский П. Освобождение Омска // Наша Заря. Омск, 1919. 7 июня. № 120. С. 1.].
Именно крестьяне захватили в плен бежавших руководителей Енисейской и Иркутской ЧК. Белый офицер вспоминал, что в Тобольской губернии «…местное крестьянство… приняло весьма деятельное участие в поимке разбежавшихся… красных деятелей». Авторитетный советский мемуарист признавал, что те советские отряды, которые пробивались из Сибири на Урал, вынужденно выдавали себя в деревнях за белых, таким образом получая радушный прием, и что «интернационалистов величали „голубчики чехи“»[801 - Филимонов Б. Б. На путях к Уралу. С. 80; Эйхе Г. Х. Опрокинутый тыл. С. 37.].
В деревне Карымской Ново-Павловской волости Балаганского уезда сельский сход постановил расстрелять красногвардейцев, находившихся в деревне[802 - Маленьких М. А. Крестьянство Иркутской губернии в условиях контрреволюционных режимов // Революционная Сибирь: истоки, процессы, наследие. С. 210.]. Один из красногвардейцев Барабинского фронта вспоминал, что крестьянство «чертовски было восстановлено против совдепов» и лучше было «идти в бой, чем под дубины крестьян»[803 - Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия. С. 69.]. Бийский большевик отмечал, что крестьянство «само задерживало работников партии большевиков и Советской Власти, а иногда и расправлялось с ними на месте самосудом». После свержения большевистской власти сход большого ойротского села Онгудай принял решение в трехдневный срок выселить 76 семей, сочувствовавших красным[804 - Мемуары Н. Т. Бурыкина // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1157. Л. 10; Мемуары И. Я. Третьяка о партизанском движении в Горном Алтае // Там же. Д. 1155. Л. 12.].
В своих мемуарах большевики дружно признавали, что при свержении их власти население бурно приветствовало белых и где с пренебрежением, а где с ненавистью относилось к прежним хозяевам. По изгнании красных Самара ликовала, а некоторые комиссары были «расстреляны озлобленной толпой»[805 - Наша Заря. 1919. 6 мая. № 94. С. 2.]. Красный главком И. И. Вацетис писал, что Казань «ликовала и веселилась»; такое же настроение было в Уфе. После бегства большевиков из Перми 24 декабря 1918 года очевидица писала о праздничном настроении местных жителей: «Народ радостный, поздравляют друг друга, точно на Пасху»[806 - Латышские стрелки в борьбе за Советскую власть в 1917–1920 годах. Воспоминания и документы. Рига, 1962. С. 110; Агеева В. А. Воспоминания о жизни в Перми в 1918 году // Гражданин Перми. Пермь, 1993. С. 33.]. По свидетельству В. Д. Вегмана, в Томске белых с музыкой и цветами встречала разряженная публика, причем у многих в руках были смешно выглядевшие экземпляры последнего выпуска газеты «Знамя революции» с шапкой: «Советская власть стоит прочно и незыблемо»[807 - Вегман В. Как и почему пала в 1918 г. Советская власть в Томске. С. 147.].
В мемуарах большевика Политова, доставленного после ареста отрядом из 60 чехословаков в Бийск, бескровно захваченный рабочими и учащейся молодежью, есть такой эпизод: «…на станции белый флаг, буржуазия с цветами, слезы радости, поцелуи, стараются пробиться к вагону арестованных, сделать самосуд… два чеха на часах прогоняют…»[808 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 766. Л. 103.] К приходу в Камень парохода «Лейтенант Шмидт», вместе с которым захватили почти всех членов Каменского совдепа, «…пристань была усеяна празднично разодетой толпой». «Когда нас, окруженных тесным кольцом белогвардейцев, выводили по трапу на пристань, – вспоминал Политов, – вся эта толпа с диким улюлюканьем, бранью, угрозами бросилась к нам. Нарядные дамы, благообразные господа старались прорвать кольцо конвоя и учинить над нами самосуд»[809 - Маздрин И. П. В грозовые годы. Барнаул, 1959. С. 36.].
Один из членов отряда М. Х. Перевалова честно отмечал, что в селе Итат Мариинского уезда после разгрома красных наблюдалось «небывалое воодушевление». И неудивительно, ведь ранее этот же партизан с удовольствием вспоминал, как советские власти весной 1918 года взяли с торговцев Итата 80 тыс. рублей контрибуции и затем обстреляли, разгоняя, толпу стариков и старух во главе со священником, требовавших в «великий бывший четверг» освободить арестованных купцов[810 - Воспоминания Н. Евдокимова (1921) // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 881. Л. 13, 7.].
Аналогично относились к свержению советской власти в Новониколаевске, Тюмени, Тобольске, Ачинске, Минусинске, Красноярске, Черемхово… А видная иркутская большевичка Е. П. Алексеева вспоминала, что неприязнь населения ощущалась и в последующие месяцы: «Мещанская публика бойкотировала большевиков. Я и муж жили на разных квартирах, ибо никто не хотел давать их нам»[811 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 3. Д. 156. Л. 11.].
Тысячи разбитых защитников Советов представляли серьезную угрозу для населения. Отступавшие и полностью деморализованные, красногвардейские отряды грабили и бесчинствовали. Пресса отмечала: «Бегут совдепы, бегут их защитники… и проявляют свою храбрость и стойкость лишь в одном – в грабеже и зверствах против беззащитного населения». Например, под Мариинском в июне 1918 года большевики ежедневно дезертировали десятками «и, рассыпаясь по деревням, грабили там», а «из города можно было наблюдать во время перемирия пьяных красногвардейцев, куролесивших за рекой»[812 - Сибирская жизнь. Томск, 1918. 27 июля. № 70; 20 июня. № 40.]. С конца лета 1918 года в Кольчугине стали действовать различные подпольные группы. Одна из них, возглавляемая известным в Кузбассе революционером Демьяном Погребным, состояла из его родственников, военнопленных и анархистов. Но местный профсоюзный работник и будущий чекист С. Г. Осокин называл группу Погребного «уголовной шайкой» хулиганов, вся деятельность которой сводилась к личной наживе[813 - История Кузбасса. Кемерово, 2021. Т. 2. Кн. 1. С. 295.].
Газета «Алтай» сообщала полученные из Онгудая сведения о действиях Шебалинского отряда В. И. Плетнёва (позднее известного партизана и председателя Горно-Алтайского уездного ревкома) численностью 165 бойцов в районе станции Тельга: «Банда Плетнёва занимается грабежами и насилиями. Жители просят о скорейшей помощи». Вскоре отряд был целиком рассеян. В начале июля Каракорумская управа сообщала, что туземный отряд из 400 ойротов преследовал «пришедшие в горы красногвардейские банды Плетнёва»[814 - Курышев И. В., Гривенная Л. А. Социально-психологический облик и протестное движение крестьянства. С. 21; Демидов В. А. Крах Каракорума // Классы и политические партии в Октябрьской революции и гражданской войне в Сибири: Межвузовский сборник научных трудов. Новосибирск, 1991. С. 137.]. В июне 1918 года в селе Цветнополье Омского уезда крестьяне требовали от властей оружия для «самозащиты населения поселков от банд разбежавшихся красногвардейцев, производящих свои разбойные набеги с целью грабежа съестных припасов, похищения лошадей и т. п.»[815 - Булдаков В. П. Красная смута. С. 215.].
Американский консул в Харбине в начале июля 1918 года сообщал госсекретарю США о многочисленных русских беженцах и 30 тыс. бурят, перешедших границу в Маньчжурии ради спасения от Красной гвардии и отрядов интернационалистов[816 - Papers relating to the foreign relations of the United States. 1918, Russia. Washington, 1932. Vol. 3. P. 130 (указано кандидатом исторических наук Д. Ю. Исповедниковым).]. Беглые красногвардейцы нередко создавали уголовные шайки, грабившие и убивавшие горожан и тех, кто проезжал по трактам. В августе группа бывших красногвардейцев вместе с горнорабочими и крестьянами села Лебедянка ограбила служащего, который вез 60 тыс. рублей жалованья рабочим судженского рудника «Надежда»[817 - Сибирская жизнь. Томск, 1918. 22 авг. № 91.]. А на заседании военно-полевого суда, проведенном полковником Власовым 26 апреля 1919 года, были приговорены к повешению три бывших рядовых красноармейца – А. В. Баранов, Н. С. Васильев, П. Л. Китаев – за убийство четырех женщин и мужчины в Нижне-Тагильском Заводе (ныне – город Нижний Тагил)[818 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 4. Д. 768. Л. 23 об.].
Откровенные мемуары оставил командир пулеметной команды 1?й Барнаульской роты В. Ф. Кудряшёв. Роту во главе с П. Ф. Тиуновым (бывшим старшим унтер-офицером и столяром барнаульских мастерских) первоначально отправили в мае 1918 года из Барнаула на восток для борьбы с атаманом Семёновым. Кудряшёв, отступавший с этим отрядом из Иркутска до Сретенска, подробно поведал о нравах красногвардейцев:
Я помню, какая же была растерянность в Иркутске [после выступления чехов]. <…> Все бегали, все суетились, сталкивались лбами, как бараны, звенели шпоры и раздувались галифе, но толку, повторяю, не было ни на грош. Наш командир отряда Тиунов здесь тоже разрядился почем зря, где-то достал себе маузер с прикладом и походную сумку (но без карты) и носился как дурень с торбою, прельщая собою иркутских проституток, за что потом ему и другим пришлось расплачиваться в Берёзовском (В[ерхне]-Удинск) госпитале[819 - Сам П. Ф. Тиунов вспоминал: «Я сильно заболел, мне на смену был выслан штабс-капитан Исаев… а меня повезли на излечение в город Иркутск, и мне не пришлось участвовать в боях до ликвидации наших войск в… Благовещенске». Так благодаря гонорее Тиунов благополучно избежал военных опасностей. Там же. Оп. 2. Д. 802. Л. 24.]. Словом, это был самый из неудачных командиров, и я ни разу не видел его в боях, ибо он как-то «смывался», а его «примеру» следовал и его помощник Иовлев, и отряд наш барнаульский с громким лозунгом на красном знамени: «За власть труда умрем, но не сдадимся!» – начал разлагаться.
Порядочное количество наших ребят в надежде, что с [отступившим атаманом] Семёновым делать нечего и, значит, скоро [все] вернутся домой, запасли целые мешки мануфактуры, чулок и прочей дребедени, и когда пришлось выступить против чехов по направлению Н[ижне]-Удинска… оказались нагруженные как ишаки, пришлось брать подводы для посадки в вагоны… Но уже с выступлением из Зимы в нашем отряде началось дезертирство и чуть ли не каждый день убывал человек… <…>
В Зиме наши силы были таковы: отряд барнаульцев, Центросибири, анжерцев, отряд черемховцев, и зиминцы тоже послали свой отряд; затем отряд мадьяр… с командиром Лавровым… вместе, пожалуй, составилось бы до 1000 бойцов. Но что это были за бойцы?.. Не буду отрицать, что из всей этой толпы 1/3 была людей, готовых беззаветно жертвовать своею жизнью когда угодно. Но 2/3 был всякий сброд, который был способен от грабежа к насилию и всему, чему хотите. <…> Словом говоря, это был в большинстве сброд[,] банды… люди принимались без разбора, и принимали каждого пришедшего и выдавали ему оружие…[820 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 776. Л. 108 об.]
Воспоминания интернационалиста К. Сойри о пребывании его отряда на станции Мысовая летом 1918 года свидетельствуют о том, что «в ряды красногвардейцев проникла масса уголовных элементов, которые стали заниматься грабежами, теряя тем авторитет среди населения». Отмечал он и массовое дезертирство, а также то, что омский отряд Ф. П. Лаврова из 800 бойцов самовольно бросил позиции у Верхнеудинска и «занимался грабежами»[821 - Там же. Л. 11 об.]. Обвинения Лаврова в неожиданном уходе с фронта повторяются во многих мемуарах и, по мнению П. А. Новикова, являются мифом более поздних времен, поскольку истинной причиной панического отступления красных стал внезапный прорыв войск подъесаула И. Н. Красильникова и 4?го Томского полка через болотистую местность под Нижнеудинском, поддержанный атакой казачьего отряда.
Между тем один из мемуаристов, высоко оценивая военные способности Лаврова, проявленные в дальнейших боях после сдачи Иркутска, все же отмечал, что именно лавровские мадьяры ночью ушли от Култука, оголив левый фланг Прибайкальского фронта, а вслед за ними бросил позиции и отряд Каландаришвили. Оставшиеся после этого 2?й Черемховский полк и всегда твердо сражавшийся китайский отряд были вынуждены быстро отходить от станции Култук. В полутора-двух верстах от Слюдянки панически настроенных черемховцев встретили «…грубые крики и ощетинившиеся… винтовки – это оказались мадьяры. Лавров в центре их, лупит плетью красногвардейцев. <…> …Лавров решил восстановить фронт благодаря нагайке[,] и всех отступавших красногвардейцев он избивал плетью, ему помогали человек 5–6 мадьяр… <…> Что они хотели сделать. Положить [насмерть] опять здесь красногвардейцев, а самому со своим отрядом уйти»[822 - Там же. Д. 1331. Л. 17, 20–22.]. В последней оценке можно видеть пристрастность мемуариста (который затем не без оснований обвинял Лаврова в расправах над черемховцами в Монголии), однако не исключено и то, что он был прав, ведь анархисты действительно были рады спастись любой ценой. Так или иначе, но красный фронт ненадолго восстановили только под станцией Танхой.
Характеризуя моральный облик советских войск, другой мемуарист сообщал, что к стоявшей в Забайкалье, под Акшей, красногвардейской части, составленной из нескольких сотен рабочих станции Чита-1 и Черновских копей и громко именовавшейся «Красным фронтом 4?го района» (командир – бывший конторщик Черновских копей Удовенко), «…примазалось много уголовного элемента и начались, под видом реквизиции, грабежи [окрестных бурят]. Штаб повел с этим злом решительную борьбу, был расстрелян начальник разведки Хабаров, часть мародеров скрылась»[823 - Аносов [П. А.] Два лагеря // Партизаны. Чита, 1929. С. 56; Борьба за Советы в Забайкалье: Сб. статей, материалов и документов. Чита, 1947. С. 200.]. Еще один партизан, говоря о том времени, когда советские войска откатились к Амуру, прозрачно намекнул на профессиональную непригодность крепко дружившего с бутылкой главкома красных войск Сибири П. К. Голикова: «Ввиду того, что у нас имело место пьянство, мы решили назначить командующим Лазо»[824 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 891. Л. 55.].
Пьянство в Красной гвардии было повсеместным: так, на Прибайкальском фронте, видя, что дела плохи, «…мадьяры ударяются в пьянство и пьют очень крепко. Спирт мадьярам выдавался все время». Поскольку русские красногвардейцы были этого лишены и протестовали против такого ущемления, алкоголь стали «давать и [русским] красногвардейцам»[825 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1331. Л. 20.]. Между тем предостерегавший опыт имелся: чуть ранее, в ночь на 26 июня 1918 года, казачий отряд Красильникова в ответ на глумление над пленными на станции Худоеланская зарубил после жестокого боя на станции Шеберта под Нижнеудинском – по данным белой стороны – 200 черемховских красногвардейцев и мадьяр, часть которых «поужинали с выпивкой и заснули, не выставив даже охраны». По чехословацким источникам, одних только мадьяр на месте боя было захоронено 114 человек[826 - Маценко П. А. Записки хирурга. Иркутск, 1984. С. 28 (упоминает о 400 жертвах); Хипхенов Г. И. Сражение за Нижнеудинск 24–26 июня 1918 г. С. 18–20 (говорит о 50–100 жертвах).]. Мемуарист, говоря об этом кровавом побоище, отмечал, что «много в то время погибло» черемховских рабочих[827 - Воспоминания участников Гражданской войны в Восточной Сибири. С. 216.].
В конце июля 1918 года самых небоеспособных анархистов пришлось убрать с фронта, и они временно сосредоточились в Верхнеудинске, где базировались органы Центросибири. В советской литературе отмечено, что в первой половине августа анархисты во главе с Лавровым, Караевым и Пережогиным планировали арестовать руководителей-коммунистов и захватить золотой запас. В ответственный момент советский главком П. К. Голиков оказался пьян, поэтому руководил подавлением мятежа сам глава Центросибири Н. Н. Яковлев. Верные ему части арестовали бунтовщиков (Пережогин смог бежать), а отрядам Лаврова и Караева велели перебазироваться в район Троицкосавска[828 - Партизаны Прибайкалья: воспоминания участников гражданской войны в Бурят-Монголии. С. 24.]. Тогда же к Селенгинску выдвинулись бойцы Каландаришвили (до 3 тыс. человек) и Третьякова. Таким образом, анархистская часть красногвардейских войск, т. е. почти половина их, фактически была убрана либо дезертировала с фронта, что полностью отвечало интересам этой вольницы, образовавшей на линии Троицкосавск–Селенгинск свой собственный фронт, который не вел никаких активных действий и быстро разбежался[829 - Познанский В. С. Очерки истории вооруженной борьбы Советов Сибири с контрреволюцией. С. 245; Штырбул А. А. Анархистское движение в Сибири в 1?й четверти XX века. С. 15.], стремясь скрыться за границу. Точно так же со всеми немалыми ценностями сбежал в Монголию и Троицкосавский совет.
Известно, что отступивший от Троицкосавска в Монголию отряд Н. А. Каландаришвили активно мародерствовал, награбив у бурят и казаков массу золота, серебра и царских ассигнаций, причем мемуарист из отряда Карандаша обвинял во всех проблемах криминальную часть остатков красного войска:
…Настроение здесь резко изменилось. …Появилось мародерство. Это было влияние уголовников… они стремились пойти назад, попасть к белым, это влияние уголовников выражается также в недоверии руководству. <…> Возьмите вы арест, если можно так выразиться, Третьякова, Третьяковой[830 - А. П. Третьякова-Холодова – жена Д. М. Третьякова; была начальницей саперной команды. См.: РГВА. Ф. 28361. Оп. 2. Д. 43. Л. 22.], Блюменфельда. <…> Говорили, что [С. С.] Блюменфельд забрал деньги и решил бежать из отряда. <…> Получилась волынка в ночь: я был на заставе с пулеметом «Кольт». Появилась группа всадников. …Это были свои. Они сообщили, что Блюменфельд забрал деньги и хотел бежать. Побежали туда. Там шум, гам, крики – здесь уже появилось желание отобрать деньги и разделить. Некоторым были розданы облигации. На почве этих облигаций поднялась буза: а Николаевские [ассигнации] кому? А з[о]лото кому? Вот каково было влияние уголовников[831 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1331. Л. 64–65.].
Бывший гимназист, 16-летний В. П. Зотов, говоря о массовом мародерстве во время монгольского похода, спокойно констатировал: «Об этом знал весь отряд, ибо у нас грабежами все хвастались». С. Н. Ахвледиани, адъютант Каландаришвили, в 1914 году, по данным полицейской агентуры, работал в аптеке и имел связи с грабителями, доставляя им разные медикаменты и яды. Осенью 1918 года, отступая в Монголию и будучи казначеем отряда, ночью сбежал со всеми деньгами (250 тыс. рублей), но был выловлен казаками в селе Тунка и убит[832 - Хипхенов Г. И. 1?й Иркутский кавалерийский дивизион (полк). С. 121, 118.].
Аналогично действовали, торгуя друг другом и думая лишь о разделе награбленного, в отряде Ф. П. Лаврова. Мадьяр Витман в начале 30?х годов вспоминал:
Вечером, когда Форбат вернулся [с переговоров о разоружении] и сказал, что нас пропустят, если мы сдадим оружие, при чем золото и серебро останется у нас, кроме того[,] монголы нам дают документы, что мы являемся постоянными гражданами Монгольской республики. У нас были такие ребята, которые говорили, что нужно разделить золото и каждый получит по 10 фунтов. Лавров устроил собрание[,] и Форбат его арестовал. Форбат говорил, что нужно отдать оружие, а Лавров говорит, что не нужно, к нам скоро прибудут наши товарищи и мы продвинемся вместе с ними. Но оказалось, что приближается Семёнов и Ан[н]енков[833 - Упоминание действовавшего в Семиречье и Западной Сибири Б. В. Анненкова наглядно свидетельствует о панике красных.]. <…>
Сами мы тоже не соображали. Мы думали, что нужно разделить золото. Мы предложили, что нужно отдать [китайцам] оружие, а золото останется у каждого на руках. В этот же вечер поставили охрану к Лаврову. Лаврову удалось уговорить охрану из кавалеристов, что если мы останемся, то мы все погибнем… Когда сменился патруль, то обнаружили исчезновение Лаврова[834 - РГВА. Ф. 28361. Оп. 2. Д. 6. Л. 5 об. – 6.].
Но вскоре беглеца схватили каландаришвильцы, которые сначала согласно приказу своего командира планировали судить его трибуналом. Однако почти сразу один из отрядников-артиллеристов, мстя за снятые лавровцами замки пушек своего парохода, пристрелил Лаврова во время переправы – «с Лавровым некогда было возиться»[835 - Там же. Л. 9.]. В 1927 году писатель Вс. Иванов зафиксировал впечатления от посещения мест боев красных и белых в Монголии: «Я видел… монгольские степи, покрытые трупами мадьяр и [казаков-]атамановцев. В горе Шара-Хадату, в гротах у изображений Будды, я видел трупы расстрелянных, высохшие, с судорожно зажатыми гранатами в руках»[836 - Папкова Е. Сибирь Всеволода Иванова // Вопросы литературы. 2014. № 2. С. 132–133.].
О том, что представляли собой уцелевшие отряды Красной гвардии, наглядно свидетельствуют и эпизоды, связанные с походом «главковерха» П. Ф. Сухова, овеянным легендами в советской историографии[837 - «Героическим рейдом» именует поход Сухова в двух практически идентичных статьях и современный историк: Штырбул А. А. К истории гражданской войны в Горном Алтае и Верхнем Прииртышье: «Сатунинщина» и ее ликвидация (1918–1920 гг.) // Социально-экономические и этнокультурные процессы в Верхнем Прииртышье в XVII–XX веках: Сб. материалов международной научной конференции. Новосибирск, 2011. С. 215–221; Он же. Из истории Гражданской войны на востоке России: «сатунинщина» и ее ликвидация. С. 109.]. В июне–августе 1918 года безнадежный рейд по белым тылам на Алтае осуществил, стремясь прорваться из Барнаула в советизированный Туркестан, крупный красногвардейский отряд бывшего прапорщика Сухова и примкнувшего к ним бывшего «министра по делам туземных национальностей» эфемерной Сибирской облдумы Д. Г. Сулима. Около половины суховского воинства из числа «малодушных темных рабочих» сразу дезертировало, поэтому отступающий отряд насчитывал 800 человек, включая 80 кольчугинских шахтеров и 60 мадьяр[838 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 777. Л. 29–30.].
Эта вооруженная и быстро отчаявшаяся масса сразу начала грабить население. Подойдя к станции Алейской, суховцы лавой устремились в с[ела] Ярки и Пенюшево, подвергая грабежу все, что можно унести: «Все они почти беспросыпно пьяны… Ругань, рев, крик не смолкали. Озлобление после всех неудач – страшное. Часто слышались крики и призывы перерезать весь штаб. <…> Один из мадьяр получил на себя и на товарищей тысячу рублей, но едва он отошел в сторону, как был тут же пристрелен с целью ограбления одним из красногвардейцев. Постановлением штаба красногвардеец расстрелян. Настроение с каждым днем становилось все более подавленным, что особенно было заметно у членов штаба. Интересно то, что штаб все время старался держать в полном неведении свою гвардию, сообщая ей явно нелепые слухи»[839 - А. Ж. В плену у красногвардейцев // Алтай. Бийск, 1918. 17 июня. № 7.].
Из трофейных документов штаба суховского отряда следовало, что главными причинами неудач были падение дисциплины, сопровождавшееся постоянным дезертирством[840 - Так, сбежала из отряда Сухова группка во главе с И. В. Громовым, который по этому поводу сокрушенно высказался в ранних воспоминаниях, прямо именуя себя дезертиром и признаваясь: «Сейчас, когда я эти строки пишу, то мне очень и очень стыдно» (см.: ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1073. Л. 21). В мемуарах, опубликованных 30 лет спустя, нейтрально сказано: «Я же с группой красногвардейцев в 6 человек, разрушая телеграфную линию, отстал от отряда и больше в него не возвращался» (Громов И. В. За власть Советскую. С. 18). Однако современный автор именует отступление Сухова «успешным» (Кокоулин В. Г. Алтай в годы революции, Гражданской войны и «военного коммунизма». С. 116).], и нравственная деградация – отчаянное мародерство, сексуальное насилие… Штаб пытался бороться с деморализацией – в захваченном архиве ревтрибунала нашлось до 30 смертных приговоров за неподчинение, – но успеха это не принесло. Под конец после непрерывного дезертирства осталось 250 суховцев. Каратели разгромили их наголову, а уцелевших переловили (и основную часть расстреляли[841 - Из отряда уцелело от 20 до 30 человек. См.: ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1973. Л. 23.]) при активном содействии местного казачества в районе сел Тележиха, Солонешное, Топольное, Черный Ануй[842 - Курышев И. В., Гривенная Л. А. Социально-психологический облик и протестное движение крестьянства. С. 23.].
Но до своего полного уничтожения в Горном Алтае у монгольской границы это русско-мадьярское войско отметилось жестокими расправами над пленными и священниками, а также многочисленными актами насилия и грабежами. В селе Вилки 29 июня перед зданием училища суховцами были убиты офицеры С. С. Калякин и Лебедев, гимназисты-добровольцы В. Г. Гаевский, Иваненко и еще один доброволец: «Калякин застрелен, тело его истыкано штыками, а шашкой распорот желудок. Гаевский также застрелен, истыкан и шашкой отрублена голова»[843 - Сибирская жизнь. Томск, 1918. 21 июля. № 65.]. Как рассказал чудом выживший доброволец Татарского отряда Г. З. Луконин, небрежно пристреленный после пленения и смертного приговора в штабе, «все раненые красногвардейцами добиваются по настояниям мадьяр и немцев»[844 - Там же. 1918. 9 авг. № 81.].
Также Сухова интересовали золото и «баловство» с привлекательными девушками, он «искал крупной поживы, а мелкота брала все, что попадалось под руку: шарили по сундукам вдов и солдаток, забирали венчальные кольца, последние ботинки…». Начальник Змеиногорской уездной милиции сообщал управляющему губернией, что в селе Курьинском «у некоторых из граждан взламывались ящики и похищалось все, что было ценное, и деньги… на сумму более 100 тысяч рублей…»[845 - Свободная речь. Семипалатинск, 1918. 14, 18 дек.; Кокоулин В. Г. Алтай в годы революции, Гражданской войны и «военного коммунизма». С. 134–135.].
Газеты писали, что в захваченных селах суховцы не только грабили богатых крестьян и священников, но также насиловали и убивали: «В Вознесенском [оно же село Лубягино Славгородского уезда]… пять человек пленных из войск Временного Сибирского правительства были приговорены к смертной казни. Начальник банды Сухов в присутствии многочисленной толпы крестьян выстрелами из револьвера убил приговоренных к смерти»[846 - Сибирская жизнь. Томск, 1918. 9 авг. № 81.]. Есть и другие подтверждения, что командир отряда, именовавший себя «главковерхом», лично расстреливал пленных офицеров: «[Сухов им] стрелял в лицо под хохот красноармейцев. Недобитых закапывали в землю живыми. Их, однако, удалось спасти: из шести расстрелянных мертвыми оказалось только двое»[847 - Свободная речь. Семипалатинск, 1918. 17 дек. Цит. по: Булдаков В. П. Красная смута. С. 867.].
На Дальнем Востоке большевики продержались дольше, в том числе за счет широкого применения вооруженного насилия. Тем не менее их отряды летом и осенью 1918 года потерпели тяжелое поражение от японских войск, пришедших на помощь белым. Большевик П. П. Постышев вспоминал о разложении красных частей при беспорядочном отступлении, признавая обилие анархического и уголовного элемента. После ограбления Шмаковского монастыря эскадроном красных казаков и двумя батальонами пехоты победители перепились и напялили на себя священнические одежды: «…горели церковные большие свечи, и при их огне играли в карты. Всюду водка, бочонки с медом… Нас встретили насмешками и бранью. Пришлось послать дисциплинированную часть разогнать их и переарестовать, а окончательно разложившихся заправил расстреляли»[848 - Постышев П. П. Гражданская война на Востоке Сибири. С. 19–20.].
После окончательного разгрома красные распустили своих бойцов по домам, тем самым бросив их – и прежде всего интернационалистов, наиболее боеспособных и особенно ненавистных белым, – на произвол судьбы (напротив, при бегстве коммунистов из Томска 31 мая 1918 года руководители города захватили с собой бойцов-интернационалистов, быстро заняв пароходы и оставив белым остальных красногвардейцев со значительной частью руководства, не оповещенного о спешной эвакуации[849 - Ларьков Н. С. Падение советской власти в Томске в 1918 г. // Октябрь и гражданская война в Сибири. Томск, 1993. С. 129–130.]). Отступившему на станцию Кача под Красноярском отряду красногвардейцев затем, как вспоминал один из рядовых бойцов, «пришлось спасаться кто как сумел…». «…Комсостав скрылся от нас заблаговременно… – продолжал этот свидетель, – и деньги забрали тоже[,] ушли себе спокойно…»[850 - Мемуары Г. Л. Лихачёва // ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 870. Л. 4.]. Командиры-каландаришвильцы Д. М. Третьяков и В. М. Рагозин (Рогозин) также бросили своих бойцов, безуспешно пытаясь спастись[851 - Хипхенов Г. И. Крушение Центросибири. С. 569, 584.].
Известно о подобных же случаях и с другими отрядами. Командир 1?й Екатеринбургской дружины (бывший унтер-офицер мадьярской роты) Ухринчек и комиссар Ю. Г. Циркунов выехали в конце мая 1918 года из Екатеринбурга в Омск с 300 мадьяр, которые, узнав, что Омск отрезан, запаниковали вместе со всеми боеспособными остатками красного фронта. На митинге красногвардейцы решили по железной дороге ехать до станции Татарск, которую чехи еще не взяли, и оттуда разойтись в разных направлениях. Однако в первом же селе, когда Циркунов, Ухринчек, начальник артиллерии (солдат-немец) и доктор эшелона (мадьяр Олаф) оставили отряд у колодца на въезде в населенный пункт, а сами пошли разузнать дорогу к Таре, отряд, по уверениям комиссара, от них сбежал: вернувшись через полчаса, руководители дружины никого не застали. Деревенские ночью везти комиссаров не захотели, и те утром наняли подводу, переоделись в крестьянскую одежду и три дня гнались за бойцами, но безуспешно, так как «мадьярский отряд мобилизовывал в деревнях подводы и мчался вперед по 100 верст в день».
Потеряв надежду догнать своих, Циркунов и остальные поступили батраками к зажиточным баптистам-субботникам в одном из поселков Татарского уезда. В 30?х годах Циркунова будут обвинять в том, что 8 июня 1918 года при отступлении под Каинском руководители отряда бросили бойцов, не знавших русского языка (венгров и австрийцев), и скрылись, прихватив 62 тыс. рублей из кассы. В 1933 году Циркунов будет винить собственных бойцов, ни словом не упоминая о деньгах и смысле ночного бегства интернационалистов, добровольно лишивших себя командования, кассы и врача; позднее он будет неопределенно рассказывать, как начальство разминулось с дружиной, совсем не упоминая попытку ее догнать и огромную скорость бегства мадьяр[852 - ГАНО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 3710 (персональное дело Ю. Г. Циркунова, 1936–1937). Л. 68–76; Д. 3711. Л. 2 об.]. Характерно, что комиссар Циркунов, ставший историком партизанщины, с тех пор ничего не говорил о судьбе своих бойцов, хотя один из них – Илларион Ходорозе – был арестован белыми, бежал, прибился к партизанам, работал чекистом и много лет занимал должности в ряде сибирских городов[853 - Государственный архив Алтайского края [далее – ГААК]. Ф. П-92. Оп. 2. Д. 5. Л. 23, 24. Во многих источниках Ходорозе фигурирует как Ходорадзе.].
Некоторые советские работники-коммунисты откровенно трусили вступать в борьбу с наступавшими белыми. В июле 1918 года председатель Тетюхинского совдепа Шарапов и военный комиссар Величко не согласились с В. Е. Сержантом относительно вывоза оружия и ценностей из совета ради создания основы для будущего партизанского сопротивления. Шарапов заявил, что «для этой темной массы не стоит жертвовать своей головой», объясняя свою гибкость тем, что «он большевик, а партия большевиков в борьбе применяет всевозможные методы»[854 - Воспоминания о Гражданской войне в Приморье. Стенограмма речи [В. Е. Сержанта] на собрании владивостокских партизан и красногвардейцев, 1932 год // Известия Восточного института. 2014. № 2. С. 103.].
Откровенно изменнические эпизоды среди представителей первой советской власти не были редкостью. Члены местного совета на станции Топки Томской железной дороги торжественно вышли встречать чехов. В составе красного трибунала города Камня был Иванов, позднее агент контрразведки Колчака, выдавший многих большевиков[855 - ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1073. Л. 8.]. Председатель, секретарь и еще один работник совдепа на станции Мамлютка Омской железной дороги перешли на сторону Б. В. Анненкова, захватившего станцию, и даже участвовали в расправе над кассиром Втюриным, ложно представив его бывшим балтийским матросом, лично убившим 17 офицеров[856 - Письма во власть в эпоху революции и Гражданской войны (март 1917 – май 1921 г.): Сб. документов / Сост. и ред. В. И. Шишкин. 2?е изд. Новосибирск, 2015. С. 88.]. Отряд уголовника-анархиста А. Караева от Каландаришвили перешел к атаману Семёнову. Адъютант руководителя мадьярско-русского отряда Ф. Лаврова Буклин тоже перешел к Семёнову и тем спасся[857 - РГВА. Ф. 28361. Оп. 2. Д. 43. Л. 22.]. Красногвардеец А. Я. Терехов, скрывавшийся после белочешского переворота, был мобилизован белыми, выслужил чин прапорщика и стал одним из палачей в комендантской команде барона Р. Унгерна[858 - Там же. Ф. 221. Оп. 2. Д. 33. Л. 30–36.].