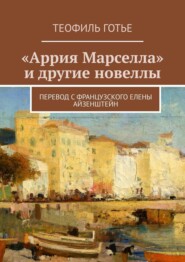
Полная версия:
«Аррия Марселла» и другие новеллы. Перевод с французского Елены Айзенштейн

«Аррия Марселла» и другие новеллы
Теофиль Готье
Переводчик Елена Оскаровна Айзенштейн
Оформление обложки "Берег моря. Неаполь" П. А. Левченко, XIX в., Харьковский художественный музей (PD-CC0)
© Теофиль Готье, 2023
© Елена Оскаровна Айзенштейн, перевод, 2023
ISBN 978-5-4483-1050-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Теофиль Готье (1811—1872) – один из самых интересных французских писателей, автор «Капитана Фракасса» и «Романа о мумии», поэт, создатель книги «Эмали и камеи» («Emaux et Camées»), переведенной в 1914 году Н. С. Гумилевым, «волшебник французской речи» («magicien des lettres françaises»), как назвал его в своем посвящении на «Цветах зла» Бодлер; прозаик и критик, создатель книги «Путешествие в Россию», романтик, в новеллах которого мы ощущаем особенную любовь автора к искусству. Он очень похож на своих героев: на молодого человека из «Омфалы», на Октавиана («Аррия Марселла»), на царя Кандуля из одноименной новеллы или на Генриха («Два актера на одну роль»), так ценящих искусство и живущих ради него.
Неоднократно в произведениях Готье встречаем слово «покрывало» (французское «voile»). Т. Готье драпирует свои образы покрывалами искусства, находя для них великолепные, многокрасочные эпитеты, насыщая ими свою речь, как художник наносит краски на полотно. Писатель с наслаждением создает художественные картины, подробно живописуя каждую поэтичную деталь. Но Теофиль Готье и сбрасывает ненужные ему драпировки, обнажая перед читателем то, что скрывает жизнь. Покрывало – и преграда, и парус, средство для развития воображения: каждый может мысленно нарисовать ту картину, которую хочет. Т. Готье переносит своих героев в различные эпохи: читатель оказывается то в Лидийском царстве, то среди развалин древних Помпей, то в Вене, в самом центре Европы или в Венеции, во Франции, в Китае или в Испании. Т. Готье сам был страстным путешественником, прекрасно разбирался в различных культурах. Нам, живущим в России, особенно льстит его книга «Путешествие в Россию» («Voyage en Russie», 1867), рисующая великолепный портрет русского государства в пору правления императора Александра II; Т. Готье описал свое длительное, многомесячное посещение Петербурга, поездку в Москву, а затем, после возвращения домой, во Францию, писатель, полюбивший Россию, совершил второе путешествие и написал вторую часть своих записок, касающуюся Нижнего Новгорода и окрестностей. Готье создал свою книгу на деньги русского царя (у него не было денег на путешествие, и он попросил оплатить ему расходы на поездку, взамен пообещав книгу о России, что и было сделано, в надежде на будущих иностранных туристов и интерес к русской жизни и культуре), но очевидно, что французский писатель был, действительно, очарован русской жизнью, памятниками архитектуры, русским гостеприимством, красотой и образованностью русских женщин, читавших на европейских языках и свободно поддерживавших беседу о новинках французской литературы (у Готье даже возникло впечатление, точно он никуда не уезжал из Франции); с подробностью летописца и художника он живописует одежду и нравы жителей Петербурга, русскую кухню и главное – архитектурные достопримечательности, хотя и созданные зачастую итальянскими и европейскими мастерами, но являющиеся достоянием русского искусства. Поражает доброжелательность Т. Готье по отношению к России и ее традициям. Будучи настоящим художником и ценителем искусств, Т. Готье так в деталях описал Исаакиевский собор, что до сих пор его работа вызывает интерес искусствоведов. Отдельные страницы книги французский писатель уделил русским художникам и «пятничному» кружку, в который он был приглашен на правах товарища, и не случайно: Т. Готье свой путь в искусстве начинал именно как живописец. Нельзя без улыбки читать о возвращении писателя в Париж, о котором с большим юмором сообщает он сам, вспоминая о русских телегах и дорогах: судя по всему, Теофиль Готье был человеком очень выносливым: его не смог испугать и ошеломить наш русский сервис.
Многие произведения Теофиля Готье стали основой для балетных спектаклей, таких, как «Жизель», «Дочь фараона», а его новелла «Омфала», которая переведена на русский язык и предлагается читателю в настоящем сборнике, явилась основой балета Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», поставленного в начале 20 века на сцене Мариинского театра М. Фокиным (25 ноября 1907 года), где в главной роли выступила Анна Павлова (с ней танцевал Вацлав Нижинский), затем балет шел в Париже во время Дягилевских сезонов, где стал одним из значительных событий музыкальной культуры. Автором-постановщиком балета выступил Александр Николаевич Бенуа.
Сам Готье также черпал вдохновение в чужом творчестве. Например, его восхитительная новелла «Царь Кандуль» возникла под сильным впечатлением от картины художника Джозефа Фердинанда Буосарда де Буасденьера «Le Roi Candaule et Gygès» (1841). Она основана на подлинной истории о царе Кандуле и его жене, сюжет которой многократно становился источником различных живописных работ. Историю царя Кандуля пересказывали в разных версиях. Одна из них принадлежит Геродоту, которого, Готье, несомненно прочел. Но Геродот не упоминает имени жены Кандуля (царя Кандавла, в другом переводе). Оно встречается у Птоломея, откуда и попало, видимо, в новеллу Т. Готье. О новелле «Царь Кандуль» высоко отзывались Виктор Гюго и Бодлер. Последний восхищался очарованием искусства речи Готье и утонченностью его языка. «Так будем же любить наших поэтов тайно, украдкой, – призывал он. – За границей это даст нам право хвастаться своей любовью». В этой статье, посвященной Т. Готье, Бодлер писал: «Соседи наши говорят: „Шекспир и Гете!“ Мы можем им ответить: „Виктор Гюго и Теофиль Готье!“»1. Готье в новелле о Кандуле выступает как тонкий психолог, излагая историю любовного треугольника в трех ракурсах, от лица каждого участника событий. Вот почему читатели новеллы чувствуют правоту каждого персонажа, становясь, по воле автора, на их точку зрения. У Готье Кандуль не просто ненормальный царь, а безумно влюбленный художник, который смотрит на все, что его окружает, глазами человека искусства. Не случайно его именем названа новелла. Вероятно, Т. Готье попытался исследовать произошедшую в действительности историю, рассказав ее по-своему, ничего не добавляя, но особым образом освещая события. Для Готье история царя Кандуля – средство поведать о событиях чуждой цивилизации и вместе с читателем оказаться в Лидийском царстве. Популярный в искусстве сюжет о царе Кандуле и его слуге оказывается метафорой взаимоотношений человека искусства и зрителя, смотрящего на красоту, сотворенную человеческой (божественной) рукой. Всегда ли телесная красота соответствует душевной? «Вечный третий в любви», зритель, читатель, художник, изображающий жизнь своих героев на полотне, не тот же ли подглядывающий юноша? Различие в том, что Готье, человек искусства, создает на основе того, что он «подглядел» в картине своего друга-художника новое произведение на своем, полном поэзии и утонченности языке, а герой легендарной истории под влиянием силы красоты совершает убийство. Безусловно, Готье занимает этот сюжет не случайно. Он выступает в новелле как беспристрастный художник, не отдавая предпочтения ни одному из своих персонажей, находясь все время как бы за невидимой дверью, которую он приоткрыл для читателя и остался незамеченным.
Новеллы Теофиля Готье привлекают нас своими странными сюжетами, где грань между земным и небесным непрочна, а герои в сновидениях способны нарушить этот колеблющийся барьер, оказавшись в другом историческом времени («Аррия Марселла») или встретиться с существом из загробного мира («Любовь после смерти»). Книга Теофиля Готье будет интересна читателю с воображением, любящему красоту и колорит роскошных художественных описаний, которые сопоставимы разве что с живописью. Конечно, перед нами книга поэта, это чувствуется в каждой строке.
Новелла – яркий сюжетный рассказ с необычным развитием событий, с неожиданной концовкой. Теофиль Готье не разочаровывает читателя, ждущего чудес, странных переплетений судеб и событий. Его пером всегда движет любовь, даже если героиней оказывается существо погибшее, над которым довлеют дикие законы древней цивилизации, или призрак, или человек, потерявший собственную волю от любви. Так или иначе, поэт Т. Готье верит в то, что только в любви к искусству, к жизни, к Богу и к человеку как к творению Божьему, содержится смысл человеческого существования.
Елена АйзенштейнOmphale
Омфала
История эпохи рококо
Мой дядя, рыцарь де***, жил в маленьком доме, расположенном на печальной стороне улицы Турнель, где по другую сторону тянется унылый бульвар Сент-Антуан. Между бульваром и главными зданиями находились какие-то старые беседки, пожираемые роями насекомых и мхом, жалобно простирающие свои бесплотные руки в глубину клоаки, обрамленные высокими черными стенами. Какие-то бедные оранжерейные цветы томно склоняли свои головы, как туберкулезные молодые девушки, ожидая лучей солнца, которые упадут на их сухие полугнилые листья. Трава вторгалась на дорожки, полные забвения, и это длилось так долго, что грабли уже не пошли бы в ход. Одна или две красные рыбки плавали в пруду, покрытом ряской и болотными растениями.
Мой дядя называл это своим садом. В саду моего дяди находились и другие прекрасные вещи, которые заслуживали описания; был один довольно мрачный павильон, который, без сомнения, как ни странно, можно было назвать «Радость». Он находился в полном запустении. Стены казались брюхом, огромные разобранные плиты лежали на земле между крапивой и овсюгом; гнилостная плесень зеленела внизу на фундаменте, деревянные ставни и двери шатались, не закрывались совсем или плохо затворялись. Украшением главного входа была большая сияющая печь, времен Людовика XV, эпохи создания «Радости»; в то время всегда, в целях предосторожности, делалось два выхода. Овес, цикорий, завитки орнамента наполняли карниз, пострадавший от воздействия дождевой воды. Короче говоря, это была достаточно мрачная заводь, для того чтобы ощутить Радость моего дяди, рыцаря де ***. Эти бедные вчерашние руины, такие полуразрушенные, как будто им была тысяча лет, отвалившиеся куски гипса, все морщинистое, потрескавшееся, покрытое плесенью, пронизанное мхом и грибком, имело запах ранней старости, изношенной грязными дебошами, не вселявшей никакого уважения; так как не было ничего такого же уродливого и такого же нищенского в мире, вроде старой марлевой одежды и старой штукатурки, – двух вещей, которые не должны были длиться и длились.
В этом павильоне мой дядя и разместил меня.
Внутри не было меньше рококо, чем снаружи, просто все немного лучше сохранилось. Кровать с желтым светильником и большими белыми цветами. Часы опирались на пьедестал, инкрустированный перламутром и слоновой костью. Гирлянда роз кокетливо свисала бутонами вокруг венецианского зеркала; над дверьми монохромно изображались времена года. Прекрасная дама, припудренная морозом, в голубом небесном корсете, с вереницей лент того же самого цвета; лук в правой руки, куропатка в левой, полумесяц на лбу, борзая у ее ног, дама улыбалась самой грациозной в мире улыбкой в своей огромной овальной раме. Это была старая возлюбленная моего дяди, которую он попытался написать Дианой. Обстановка, как мы видим, не была очень современной. Ничто не мешало нам поверить во времена Регентства, и мифологические ковры, простиравшиеся на стенах, создавали иллюзию царства как нельзя лучше.
Гобелен представлял Геркулеса у ног Омфалы2. Рисунок разворачивался наподобие Ван Лоо и в стиле самом помпадуровском, какой только можно представить. У Геракла была розовая прялка, и он поднял свой маленький пальчик со всей возможной грацией, как маркиз, который берет щепотку табака, развернув свой большой и указательный пальцы; белая искра кудели, его нервная натруженная шея в узлах лент, розочки, ряды жемчуга и тысячи женских штучек, широкая юбка горла голубя, две огромные корзины, заканчивающие картину, взгляд бравого героя, убивающего чудовище.
Белые плечи Омфалы были покрыты кожей Немейского льва, ее хрупкая рука опиралась на искривленную булаву ее любовника, ее прекрасные русые напудренные волосы беспечно спускались по ее длинной шее, тонкой и изящной, как шея голубя; ее маленькие ножки, истинные ножки испанки или китаянки, которые утонули бы в хрустальных туфлях Золушки, были обуты в нежно-сиреневые с зернами жемчуга сандалии3 полуантичной формы. Поистине она была прелестна! Ее голова была откинута назад в выражении сладостного высокомерия, ее рот был сжат и создавал очаровательную миленькую гримасу; носик был слегка пухленьким, щечки чуть сияли; убийца, умно помещенный сюда, усиливал блеск великолепного вида, ему не хватало маленьких усов, для довершения картины мушкетера.
На гобелене были и другие прекрасные персонажи, например, следующий долгу маленький строгий амур, но они не остались в моей памяти в столь совершенной форме, чтобы я мог описать их.
В то время я был еще очень молод, и кто бы мог сказать, что я буду так стар сегодня, но я вышел из колледжа и остановился у моего дяди, который ожидал, что я изберу профессию. Если бы этот прекрасный человек мог предвидеть, что я предамся фантастическим сказкам, нет сомнения, он бы выбросил меня за двери и бесповоротно лишил наследства, так как испытывал к литературе, главным образом, и к авторам, в частности, презрение самое аристократическое. Поскольку он был истинным джентльменом, он хотел повесить или избить палками всех этих людей, всех маленьких писак, которые пачкали бумагу и непочтительно говорили о человеческих характерах. Пусть Бог в мире хранит прах моего бедного дяди! Но он, действительно, не думал о мире иначе, чем через послание Зетулба.
Итак, я вышел из колледжа. Я был полон мечтаний и иллюзий, был наивен, может быть, более, чем rosière de Salency, девственница из Салонси. В восторге, не большем, чем можно представить, я нашел, что все к лучшему в лучшем из возможных миров. Я поверю в бесконечность вещей, я поверю в пастушку де М. Флориана4, я поверю в рисованных барашков и белую пудру, ни на мгновение я не сомневался в образах мадам Дешульер5. Я думал, что на самом деле, фактически есть девять муз, как утверждали Аппендикс де Ди и Эруабю отца Джозефа Джованси. Мои воспоминания о Берквине и де Гесснере6 творили мой маленький мир, где все было розовым: голубое небо и зеленые яблоки. «О, святая невинность! О, святая простота!» – как говорил Мефистофель.
Когда я нашел себя в этой прекрасной комнате, в моей комнате, только моей, я почувствовал такую радость, какой второй не было. Я тщательно стал изобретать, как можно лучше ее обставить, я заглядывал во все углы и обнажал все свои чувства. Я был на десятом небе от счастья, как король или два. После ужина (ибо мы ужинали с моим дядей), очаровательный обычай, ныне потерянный, вместе с другими, не менее милыми прелестями, и я сожалею обо всем, что имел в своем сердце; я взял мою свечу и ушел, так как мне не терпелось остаться одному в моем новом жилище. Когда я раздевался, мне показалось, что глаза Омфалы стали взволнованными; я посмотрел более внимательно, не без легкого чувства страха, так как комната была огромной и небольшой свет, плывший в полумраке мерцающей свечи, только усиливал ощущение темноты. Мне казалось, что ее голова повернута в противоположном направлении. Во мне всерьез начал работать страх, я погасил свет. Повернувшись к стене, я с головой накрылся простыней, натянув до подбородка ночной колпак и закончив приготовления ко сну.
Несколько дней я не смел взглянуть на проклятый гобелен.
Может быть, не было бы столь бесполезно вернуться к этой невероятной, невообразимой истории, которую я рассказываю, чтобы поведать моим прекрасным читателям, что в то время я был поистине красивый мальчик. У меня были самые красивые глаза в мире: я это говорю, потому что мне это говорили; оттенок лица был более свежий, чем сегодня, поистине гвоздичный оттенок, каштановая шевелюра и кудри, которые меня украшали в семнадцать лет и которых больше нет. Я ни в чем не испытывал недостатка, кроме красивой крестной матери, чтобы сделаться прекрасным Херувимом, к сожалению, в мои пятьдесят семь и с тремя зубами уже слишком близка одна сторона и далеко до другой.
Однажды вечером, однако, я попытался кинуть взгляд на прекрасную любовницу Геркулеса, она овеяла меня самым печальным и самым томным взглядом в мире. На этот раз я уронил мой колпак на плечо и сунул голову под подушку.
Я провел эту ночь в одиноком сне, если это и в самом деле был сон.
Я слышал, как шевелились кольца моего кроватного полога, скользившие по своим траекториям, как будто поспешно кто-то потянул за шторы. Я проснулся; по крайней мере, мне казалось в моем сне, что я проснулся. Я никого не увидел.
Луна освещала изразцы, бросая на комнату бледный голубой свет. Огромные тени странной формы рисовались на потолке и стенах. Часы прозвонили четверть, вибрация вышла долгой, и, можно сказать, они вздохнули. Пульсации звучали так, что было отлично слышно, и, казалось, взволнованного человека брали за сердце.
У меня не было ничего, кроме моего ощущения довольства, и я не слишком знал, что предположить.
От сильного удара ветра оконные стекла задрожали и разлетелись. Деревянные ставни заскрипели, гобелен затрепетал.
Мне казалось странным смотреть в сторону Омфалы, и я смутно подозревал что-то неясное во всем этом. Я не мог обмануться.
Гобелен неистово задвигался. Омфала сошла со стены и легко прыгнула на паркет; она подошла к моей постели, повернув направо. Я полагаю, вам не надо рассказывать о моем изумлении. Бывалый солдат не мог бы быть спокоен в подобных обстоятельствах, а я не был ни старым, ни военным. В молчании я ждал конца приключения.
Слабый голосок плыл, звуча нежным жемчугом в моем ухе, испуганном колкостями властных маркиз и порядочных людей.
«Что же ты так испугался, мой мальчик? В самом деле, ты уже не ребенок, ну, нехорошо так бояться женщин, особенно тех, кто молоды и желают тебе добра, это не благородно и не по-французски, тебе нужно избавиться от этих страхов. Пойдем, маленький дикарь, оставь эту физиономию и не прячь голову под одеялами.
Надо много еще сделать в твоем образовании, и ты не накануне войны, мой прекрасный паж, Херувимы моего времени были более раскрепощенные, не то, что ты.
– Но мадам, это… что…
– Это потому, что тебе кажется странным видеть меня здесь, а не там, – сказала она, легко касаясь красных губ своим белоснежными зубами и вслушиваясь в долгий и стройный звук своего барабанящего по стене пальца.
В самом деле, вещь не слишком правдоподобная, но, когда я тебе объясню, ты это поймешь гораздо лучше: достаточно знать, что тебе не угрожает опасность.
– Я полагаю, что вы не будете э… э…
– Дьяволом, говори прямо, не так ли? Это то, что ты имеешь в виду, или, по крайней мере, согласись, я не слишком черная для дьявола, и если в аду люди дьявола поступают, как я, мы проведем здесь время так же приятно, как в раю.
Чтобы показать, что она не дуется на него, Омфала скинула с себя львиную кожу, и мне представилась возможность увидеть плечи и грудь совершенной формы и ослепительной белизны.
«Хорошо! Что ты сказал?» – спросила она немножко кокетливо, удовлетворенная победой.
– Я сказал, что, если вы действительно дьявол собственной персоной, я больше не боюсь, мадам Омфала.
– Но не называй меня больше ни мадам, ни Омфала. Я не хочу больше быть мадам для тебя, я не буду Омфалой и не буду дьяволом.
– Но кто же вы еще тогда?
– Я маркиза де Т… Спустя некоторое время после моего брака маркиз выполнил этот гобелен для моего дома и представил меня в костюме Омфалы; а он сам персонаж, чертами напоминающий Геркулеса. Это единственная идея, которую он выразил там, однако, Бог его знает, никто в мире не казался менее Геркулесом, чем бедный маркиз. Долгое время эта комната была нежилой. Я, действительно, любила деревню, соскучилась до смерти, и у меня была мигрень. Быть со своим мужем – быть одной. Ты пришел, это меня обрадовало; эта мертвая комната ожила, я нашла себе какие-то занятия. Я смотрела на тебя, как ты приходил и уходил, слушала, как ты спал и смотрел сны; я следовала за твоим чтением. Я благодарна тебе за глоток воздуха, за что-то, что мне доставляло удовольствие: наконец, я полюбила тебя. Я пыталась, чтобы ты понял; я вздыхала, ты все время принимал меня за ветер; я делала тебе знаки, бросала на тебя томные взгляды, мне удалось только ужасно испугать тебя. Отчаявшись, я решила вернуться, что я и сделала, и честно рассказать тебе все, что ты не можешь понять с полуслова. Теперь ты знаешь, что я люблю тебя, я надеюсь, что…
Беседа длилась, когда шум ключа сделался слышным в замочной скважине. Омфала покраснела вплоть до своих светлых глаз.
«Прощай! – сказала она. – До завтра». И она вернулась к стене, двинулась в обратном направлении; страх, без сомнения, лишил меня возможности видеть невидимое. Это пришел Баптист, который искал мою одежду, чтобы почистить ее.
«Вы не правы, мосье, – сказал мне он, – что спите с открытыми шторами. Вы можете простудить голову. Эта комната холодна!»
В самом деле, занавеси были открыты; мне не казалось, что я находился во сне, я был очень удивлен, так как был уверен, что на ночь мы закрыли шторы.
Как только Баптист ушел, я побежал к гобелену. Я пощупал его со всех сторон; это был самый настоящий шерстяной гобелен ручной работы, сработанный, как все подобные ковры. Омфала казалась мне милым фантомом ночи, как смерть, напоминающая жизнь. Я приподнял изображение, стена была плотной; и не было ни скрытой панели, ни закулисной двери. Я сделал это замечание, потому что увидел нескольких молодых людей, поверженных на этом куске земли и лежавших у ног Омфалы. Это заставило меня задуматься.
Весь день я находился в ни с чем не сравнимом волнении; я ждал вечера одновременно с беспокойством и нетерпением. Я вернулся раньше обычного и решил посмотреть, как все закончится. Я улегся спать, маркиза не заставила себя ждать, она спрыгнула вниз на трюмо и перепорхнула прямо на мою постель; маркиза села на кровать, и разговор начался.
Как раньше, я задавал вопросы; я требовал объяснений. Некоторых она избегала, другие встречала уклончиво, но в таком духе, что через час у меня не было никаких сомнений по поводу моего романа с ней. Во все время разговора она пробегала своими пальцами по моим волосам, слегка ударяла меня по щекам и легко целовала в лоб. Она щебетала, щебетала в забавной и сладкой манере, в несколько элегантно-фамильярном стиле, и все, что делала эта благородная дама, я никогда ни у кого не встречал.
Она сидела рядом с постелью; скоро она пробежала своими руками по моей шее, я почувствовал ее сердце, стучащее с большей силой, чем мое. Рядом со мной находилась реальная прекрасная и милая женщина, истинная маркиза. Бедный семнадцатилетний студент! Было от чего потерять голову; и, естественно, я ее потерял. Я не знаю точно, сколько прошло времени, но я смутно представлял, что все это не могло понравиться маркизу.
«И мосье маркиз, что он скажет по поводу этой стены?» – думал я.
Львиная кожа упала на землю, и ее нежно-лиловые котурны нежно заблестели серебром рядом с моими домашними туфлями.
«Он ничего не скажет, – проговорила маркиза, смеясь всем сердцем. – А если он увидит что-то? Как он увидит, если он ученый муж, самый безобидный в мире, это привычно для него. Ты меня любишь, малыш?»
– Да, очень, очень.
День пришел, моя возлюбленная ускользнула. Следующий день показался мне невероятно длинным. Наконец наступил вечер. Вещи происходили, как раньше, и вторая ночь ничем не отличалась от первой. Маркиза была все более и более восхитительной. Эта картина повторялась еще в течение долгого времени. Как будто я не спал ночью, а весь день находился в сомнамбулическом состоянии, которое не казалось здоровым моему дядюшке. Он в чем-то сомневался, может быть, прислушивался к двери и все слышал, потому что в одно прекрасное утро он так внезапно вошел в мою комнату, что Антуанетта едва успела прибрать ее. За ним следовал работник с плоскогубцами и лестницей.
Дядюшка высокомерно и строго посмотрел на меня, и этот взгляд сообщил мне, что он знает все.
«Маркиза де Т… – это настоящая сумасшедшая, в ее голове живет сам влюбленный дьявол, – сказал мой дядя сквозь зубы, – однако она обещала вести себя умно! Жан, сними этот гобелен, сверни и вынеси его на чердак».
Каждое слово моего дяди ранило меня, как кинжал.
Жан свернул мою возлюбленную Омфалу, или маркизу Антуанетту де Т., вместе Геркулесом, или с маркизом де Т., и вынес их всех на чердак. Я не мог сдержать моих слез.

