
Полная версия:
Не говори, что у нас ничего нет

Мадлен Тьен
Не говори, что у нас ничего нет
Моим родителям, и Кэтрин, и Рави
Madeleine Thien
Do Not Say We Have Nothing
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
© Madeleine Thien, 2016
© М. Моррис, перевод, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство Аст”, 2019
Издательство CORPUS ®
Часть первая
На свете тысяча способов прожить жизнь. А сколько из них знаем мы двое?
Чжан Вэй “Старый корабль”Из всех сцен, покрывавших стены пещеры, самыми пышными и затейливыми были изображавшие рай.
Колин Таброн “Тень Шелкового пути”1За один-единственный год мой отец бросил нас дважды. В первый раз – когда покончил с браком, а во второй – когда покончил с собой. В тот 1989 год моя мать полетела в Гонконг и похоронила отца на кладбище недалеко от китайской границы. Потом, вне себя от горя, она поспешила домой в Ванкувер, где ее в одиночку дожидалась я. Мне было десять лет.
Вот что я помню.
У отца красивое лицо, лишенное примет возраста; он человек добрый, но склонный к меланхолии. Он носит очки без оправы, и кажется, что линзы парят в воздухе прямо перед ним – тончайший из занавесов. Его темно-карие глаза всегда настороже, всегда таят неуверенность; ему всего тридцать девять лет. Отца звали Цзян Кай, и он родился в деревушке под Чанша. Позже, узнав, что в Китае отец был известным концертирующим пианистом, я вспомнила, как постукивали его пальцы по кухонному столу, как они порхали по столешницам – и по мягким рукам матери, до самых кончиков ее пальцев, пока она не заходилась от исступления, а я – от радости. Он дал мне и китайское имя – Цзян Лилин – и английское, Мари Цзян. Когда он погиб, я была еще совсем ребенком, и мне не осталось от него ничего, кроме считаных воспоминаний, какими бы разрозненными и неточными они ни были. С ними я не расставалась никогда.
На третьем десятке, в трудные годы после смерти уже обоих моих родителей, я всецело посвятила свою жизнь наблюдению за числами, догадкам, логике и доказательствам – орудиям, которые нам, математикам, перепали не только затем, чтобы осмыслять мир, но и чтобы попросту его описывать. Последние десять лет я преподавала в Университете Саймона Фрейзера в Канаде. Числа позволили мне лавировать меж невообразимо огромным и потрясающе малым; они дали мне возможность вести жизнь вдали от родителей, их дел и несбывшихся мечтаний, и, как думала я, эта жизнь принадлежала мне самой.
Несколько лет тому назад, в 2010-м, я прогуливалась по ванкуверскому чайнатауну и набрела на магазинчик DVD-дисков. Помню, был проливной дождь, и тротуары опустели. Из пары огромных колонок, висевших снаружи магазина, лилась классическая музыка. Я ее узнала – Четвертая соната Баха для фортепиано и скрипки, – и музыка потянула меня к себе ловко, словно за руку. Все стерлось из моей памяти, кроме контрапункта, удерживавшего воедино композитора, музыкантов и даже тишину, кроме музыки – бесконечно вздымающихся волн скорби и экстаза.
Голова у меня закружилась, и я прислонилась к витрине.
И вдруг я очутилась в отцовской машине. Я слышала, как дождь плещет по шинам и как отец напевает себе под нос. Он был такой живой, такой любимый, что невозможность осознать его самоубийство вновь захлестнула меня всей скорбью. К тому моменту мой отец был уже двадцать лет как мертв, и никогда еще я не вспоминала его так ярко. Мне был тридцать один год.
Я зашла в магазин. На плоском экране появился пианист – Гленн Гульд; они с Иегуди Менухиным играли ту самую сонату Баха, о которой я и подумала. Гленн Гульд в темном костюме сгорбился над роялем, вслушиваясь в ритмы, которые большинству из нас познать не дано… и был так знаком мне – как целый забытый язык, как целый забытый мною мир.
В 1989 году жизнь для нас с матерью превратилась в набор обязательных будничных дел: работа и школа, телевизор, еда, сон. Первый уход отца от нас случился одновременно со стремительным развитием событий в Китае – событий, за которыми мать как одержимая следила по CNN. Я спросила, кто эти демонстранты, и она объяснила, что это студенты и обычные люди. Я спросила, нет ли там отца; она сказала: “Нет, это площадь Тяньаньмэнь в Пекине”. Демонстрации, во время которых на улицы вышло больше миллиона китайских граждан, начались в апреле, когда отец еще жил с нами, и продолжились и после того, как его след затерялся в Гонконге. Потом, 4 июня, и еще долго после бойни – днями и неделями – мать плакала навзрыд. Я следила за ней ночь за ночью. Папа отказался от китайского гражданства в семьдесят восьмом – без права возвращения. Но мое непонимание сфокусировалось на том, что я видела: на путаных, пугающих образах людей и танков, и на маме перед экраном.
Тем летом я, словно во сне, продолжала ходить на каллиграфию в культурный центр неподалеку – кистью и тушью строчка за строчкой переписывала китайскую поэзию. Но опознать могла только считаные слова – “большой”, “маленький”, “девочка”, “Луна”, “небо” (大, 小, 女, 月, 天). Отец говорил на мандаринском наречии, мать – на кантонском, но я-то сама бегло владела лишь английским. Сперва загадочный китайский язык казался игрой, удовольствием, но затем неспособность его понять стала меня тревожить. Я раз за разом выводила символы, которые не могла прочесть, все крупнее и крупнее, пока однажды избыток туши не пропитал насквозь скверную тонкую бумагу и та не порвалась. Я бросила каллиграфию.
В октябре к нам домой явились двое полицейских. Они сообщили матери, что папы больше нет и что с делом будет разбираться коронерская служба в Гонконге. По их словам, папа покончил с собой. Тогда тишина – ку – поселилась в нашем доме на правах третьего человека. Она дремала в шкафу вместе с отцовскими сорочками, брюками и туфлями, оберегала отцовские ноты Бетховена, Прокофьева и Шостаковича, его шляпы, кресло и любимую чашку. Тишина (安) овладела нашими мыслями и бушевала внутри у нас с мамой, словно океан. Той зимой Ванкувер был еще серей и еще дождливей обычного, словно дождь превратился в толстый свитер, который невозможно снять. Я засыпала в полной уверенности, что утром папа разбудит меня, как обычно, что его голос выманит меня из дремы, пока эта иллюзия не присовокупилась к потере и не начала причинять даже большую боль, чем все случившееся до того.
Неделя ползла за неделей, и вот восемьдесят девятый год канул в девяностый. Каждый вечер мы с мамой ужинали на диване, потому что на обеденном столе не осталось места. Отцовские документы – разные сертификаты и налоговые декларации – мы уже разобрали, но оставалась еще всякая всячина. По мере того как мама все тщательней обследовала квартиру, на свет появлялись прочие бумаги – ноты, стопка писем, написанных, но так никогда и не отправленных отцом (“Воробушек, не знаю, дойдет ли до тебя это письмо, но…”), и все новые и новые тетради. Наблюдая, как растет их количество, я воображала, что мама верит: в новом воплощении папа станет листком бумаги. Или, может, она верила, как в древности, что написанные на бумаге слова – обереги, которые могут каким-то образом защитить нас от зла.
Почти каждую ночь мама проводила среди бумаг, так и не сняв офисной одежды.
Я старалась ее не беспокоить: сидела в смежной гостиной, и время от времени я слышала, как мама почти беззвучно переворачивает страницы.
Ку маминого дыхания.
Дождь, бьющийся о фасетчатые окна и соскальзывающий со стекол вниз.
Мы завязли во времени.
Снова и снова звенел за окном двадцать девятый троллейбус.
Я выдумывала разговоры. Я пыталась представить себе, как папа возрождается в мире духов, покупает очередную чистую тетрадь, рассчитывается незнакомыми деньгами и ссыпает сдачу в карман нового пальто: легкой накидки из перьев или, может, плаща из верблюжьей шерсти – такого, которому хватит прочности и для рая, и для мира духов.
Тем временем мать пыталась отвлечься поисками отцовской семьи – где бы та ни была, – чтобы сообщить, что давно потерянный сын ли, брат ли, дядюшка ли ушел на тот свет. Она принялась разыскивать приемного отца папы, который когда-то жил в Шанхае и был известен там как “Профессор”. Иных членов своей семьи папа никогда не упоминал. Информация добывалась медленно и болезненно: ни электронной почты, ни интернета тогда не существовало, так что маме несложно было написать – но трудно было получить стоящий ответ. Отец покинул Китай давным-давно, и если Профессор еще не умер, то был уже невероятно стар.
Пекин, который мы видели по телевизору – с моргами и скорбящими, с танками на ощетинившихся винтовками перекрестках, на целый мир отстоял от того Пекина, каким его знал отец. И все-таки, думаю я иногда, они не слишком различались.
Спустя несколько месяцев, в марте девяностого года, мама показала мне Книгу записей. В тот вечер она сидела на своем обычном месте за обеденным столом и читала. Тетрадка, которую она держала в руках, была длинная и узкая – с пропорциями миниатюрной двери, не туго прошитая хлопковой нитью орехового цвета.
Мне давно уже пора было спать, как вдруг мама наконец меня заметила.
– Да что с тобой не так! – сказала она.
А потом, словно смущенная собственным вопросом:
– Ты уже сделала уроки? Который час?
Уроки я сделала давным-давно и все это время смотрела ужастик без звука. До сих пор помню: какого-то дядьку там как раз забили ледорубом.
– Полночь, – сказала я.
Дядька оказался мягкий, как тесто, и мне было не по себе.
Мать протянула руку, и я подошла. Она крепко обняла меня за талию.
– Хочешь посмотреть, что я читаю?
Я склонилась над тетрадкой, уставившись на стайку слов. Китайские буквы вились по странице, словно звериные следы на снегу.
– Это книжка, – сказала мама.
– Ой… А про что?
– По-моему, это роман. Там про искателя приключений, которого зовут Да Вэй и который на корабле поплыл в Америку, и про героиню по имени Четвертое Мая, которая пересекает пустыню Гоби…
Я посмотрела еще пристальней, но по-прежнему не могла прочитать ни слова.
– Было время, когда люди целые книги переписывали от руки, – сказала мама. – Русские называли такое “самиздатом”, китайцы… ладно, допустим, никак особенно мы это не называем. Смотри, какая эта тетрадка грязная, на ней даже трава налипла. Кто знает, сколько людей носило ее с собой… Лилин, она ведь на много десятилетий тебя старше.
“А что меня не старше?” – подумала я. И спросила, не папа ли ее переписал.
Мама покачала головой. Она сказала, что почерк дивный, что это работа обученного каллиграфа, а папа писал так себе.
– В этой тетрадке – одна-единственная глава из какой-то длинной книги. Вот тут написано: “Номер семнадцать”. Кто автор, не сказано, но вот смотри, название: “Книга записей”.
Мама отложила тетрадь. Отцовские бумаги на обеденном столе походили на заснеженные горные пики – они нависали над краем, готовые вот-вот обрушиться и сойти лавиной на ковер. Вся наша почта тоже лежала тут же. С Нового года маме шли письма из Пекина – соболезнования от музыкантов Центральной филармонии, только недавно узнавших о папиной смерти. Мама читала эти письма со словарем, потому что они были написаны на упрощенном китайском, которого она не знала. Моя мать училась в Гонконге и там овладела традиционным китайским письмом. Но в пятидесятых годах на материке, в коммунистическом Китае, было узаконено новое, упрощенное письмо. Тысячи слов стали другими; например, “писать” (цзё) превратилось из 寫 в 写, а “узнавать” (си) – из 識 в 识. Даже “Коммунистическая партия” (гун чань дан) из 共產黨 стала 共产党. Иногда маме удавалось различить прошлую сущность слова, в прочих случаях она гадала. Она говорила, что это все равно что читать письмо из будущего – или говорить с кем-то, кто тебя предал. То, что она вообще редко теперь читала по-китайски и выражала свои мысли в основном по-английски, еще больше усложняло дело. Как я говорю по-кантонски, ей не нравилось, потому что, по ее словам, “произношение у тебя вкривь и вкось”.
– Холодно тут, – прошептала я. – Давай переоденемся в пижамы и пойдем спать.
Мама глядела на тетрадку, даже не притворяясь, что слышит.
– Матушка утром устанет, – настаивала я. – Матушка двадцать раз нажмет на “отложить сигнал”.
Она улыбнулась – но глаза за стеклами очков стали вглядываться во что-то еще пристальней.
– Ступай спать, – сказала она. – Не жди матушку.
Я поцеловала ее в мягкую щеку.
– Что сказал буддист в пиццерии? – спросила она.
– Что?
– “Мне все едино”.
Я расхохоталась, застонала и расхохоталась снова, затем вздрогнула при мысли о жертве телеубийства и его тестообразной коже. Мама с улыбкой, но твердо подтолкнула меня к двери.
Лежа в кровати, я поразмыслила о кое-каких фактах.
Во-первых, о том, что в своем – пятом – классе я превращалась в совершенно другого человека. Я там была такая добренькая, такая уживчивая, такая старательная, что иногда даже думала, что мой мозг с душой существуют по отдельности.
Во-вторых, о том, что в странах победнее людям вроде нас с мамой не было бы так одиноко. По телевизору в бедных странах вечно толпы, а битком набитые лифты поднимаются прямиком к небесам. Люди спят по шестеро в одной кровати, по дюжине в одной комнате. Там всегда можно высказаться вслух и знать, что кто-то тебя да услышит, даже если не хотел. По сути, наказывать людей можно так: вырвать их из круга родных и друзей, изолировать в какой-нибудь холодной стране и расплющить одиночеством.
В-третьих – и это был не столько факт, сколько вопрос: почему наша любовь так мало значила для папы?
Должно быть, я заснула, потому что вдруг проснулась – и увидела, что мама склонилась надо мной и кончиками пальцев гладит меня по лицу. Днем я никогда не плакала – только ночью.
– Не надо, Лилин, – сказала она. Она много чего бормотала.
– Если тебя запрут в комнате и никто не придет тебя спасти, – спросила она, – что ты будешь делать? Придется тебе колотить в стены и бить окна. Придется тебе вылезать и спасаться. Ясно же, Лилин, что слезы не помогают выжить.
– Меня зовут Мари, – завопила я. – Мари!
– Кто ты? – улыбнулась она.
– Я Лилин!
– Ты Девочка, – мама употребила ласковое прозвище, которым называл меня папа, потому что слово 女 означало и “девочка”, и “дочка”. Папа любил шутить, что у него на родине у бедняков не принято было давать дочерям имена. Мама тогда хлопала его по плечу и говорила по-кантонски: “Хватит забивать ей голову мусором”.
Под защитой маминых объятий я свернулась в клубок и снова заснула.
Позже я проснулась от того, что мама тихонько размышляла вслух и хихикала. Утра той зимой были непроглядно темные, но неожиданный мамин смешок пронесся по комнате, как жужжание обогревателя. Ее кожа хранила запах чистых подушек и сладкий аромат ее османтусового крема.
Когда я шепотом позвала ее по имени, она пробормотала:
– Хи…
И потом:
– Хи-хи…
– Ты на том свете или на этом? – спросила я.
Тогда она очень отчетливо произнесла:
– Он здесь.
– Кто? – я попыталась вглядеться в темноту комнаты.
Я и правда поверила, что он здесь.
– Приемный. Этот хм-м-м. Этот… Профессор.
Я крепко стиснула ее пальцы. По ту сторону штор небо меняло цвет. Мне хотелось последовать за мамой в отцовское прошлое – и все же я ему не доверяла. Люди могут пойти за наваждением; могут увидеть нечто столь завораживающее, что и не подумают обернуться. Я боялась, что мама, как прежде отец, забудет, зачем ей возвращаться домой.
Внешняя жизнь – новый учебный год, регулярные контрольные, радости лагеря юных математиков – продолжалась, словно и конца ей не будет, и круговая смена времен года гнала ее вперед. Папины летнее и зимнее пальто все еще ждали за дверью – между его шляпой и туфлями.
В начале декабря из Шанхая пришел толстый конверт, и мама вновь уселась за словарь. Словарь – это небольшая, необычайно толстая книга в твердой бело-зеленой обложке. Страницы просвечивают, пока я их листаю, и, кажется, ничего не весят. То тут, то там мне на глаза попадается пятнышко грязи или кофейное кольцо – след от маминой или, может, от моей собственной чашки. Все слова распределены по корням или, как их еще называют, по ключам. Например, 門 означает “ворота”, но еще это ключ – то есть строительный материал для прочих слов и понятий. Если сквозь ворота падает свет или солнце 日, то получается “пространство” 間. Если в воротах – конь 馬, то это “нападение” 闖, а если в воротах рот 口, то получается “вопрос” 问. Если внутри – глаз 目 и пес 犬, то получается “тишина” 闃.
Письмо из Шанхая оказалось длиной в тридцать страниц и было написано очень витиеватым почерком; несколько минут спустя я устала смотреть, как мать над ним бьется. Я ушла в гостиную и принялась разглядывать соседские дома. Во дворе напротив торчала жалкого вида рождественская елка. Впечатление было такое, будто ее попытались задушить мишурой.
Хлестал дождь и выл ветер. Я принесла матери стакан гоголь-моголя.
– Письмо про хорошее?
Мама отложила исписанные листы. Веки у нее набрякли.
– Такого я не ожидала.
Я провела пальцем по конверту и принялась расшифровывать имя отправителя. Оно меня удивило.
– Женщина? – уточнила я, охваченная внезапным страхом.
Мать кивнула.
– У нее к нам просьба, – сказала мама, отобрав у меня конверт и заткнув его под какие-то бумаги.
Я подошла поближе, как будто она была вазой, что вот-вот слетит со стола, но в маминых опухших глазах читалось неожиданное чувство. Утешение? Или, быть может – и к моему изумлению – радость.
– Она просит ей помочь, – продолжила мама.
– А ты прочитаешь мне письмо?
Мама ущипнула себя за переносицу.
– Целиком оно очень уж длинное. Она пишет, что много лет не видела твоего отца. Но когда-то они были все равно что одна семья – слово “семья” она произнесла несколько неуверенно. – Она пишет, что ее муж преподавал твоему отцу композицию в Шанхайской консерватории. Но они потеряли связь. В… трудные годы.
– Что за годы такие?
Я заподозрила, что просьба, в чем бы она ни заключалась, непременно касается долларов или, например, нового холодильника, и что мамой просто попользуются.
– Еще до твоего рождения. Шестидесятые. Когда твой отец еще учился в консерватории, – мама опустила глаза с ничего не выражающим видом. – Она пишет, что в прошлом году он с ними связался. Папа написал ей из Гонконга за несколько дней до смерти.
Во мне поднялся целый вихрь цеплявшихся друг за друга вопросов. Я понимала, что не стоит приставать к маме по мелочам, но, поскольку я всего лишь хотела понять, что происходит, наконец сказала:
– А кто она такая? Как ее зовут?
– Ее фамилия Дэн.
– А имя?
Мама открыла рот, но ничего не сказала. Наконец она посмотрела мне прямо в глаза и произнесла:
– А имя – Лилин.
Такое же, как мое – только написано оно было на упрощенном китайском. Я протянула руку за письмом, и мама твердо накрыла ее своей. Упреждая следующий вопрос, она подалась вперед:
– Эти тридцать страниц все про настоящее, не про прошлое. Дочь Дэн Лилин прилетела в Торонто, но своим паспортом воспользоваться не может. Ей некуда податься, и мы должны ей помочь. Ее дочь… – мама ловко сунула письмо в конверт, – …ее дочь приедет и немного поживет тут с нами. Понимаешь? Это про настоящее.
Я почувствовала себя так, словно съехала набок и перевернулась вверх тормашками. Зачем чужому человеку с нами жить?
– Ее дочь зовут Ай Мин, – сказала мама, пытаясь вернуть меня к реальности. – Я сейчас позвоню и приглашу ее приехать.
– А мы одного возраста?
Мама, кажется, смутилась.
– Нет, ей, должно быть, не меньше девятнадцати, она учится в университете. Дэн Лилин пишет, что ее дочь… она пишет, что Ай Мин попала в неприятности в Пекине, во время демонстраций на Тяньаньмэнь. Она бежала.
– А что за неприятности?
– Довольно, – сказала мать. – Больше тебе знать незачем.
– Нет! Мне надо знать больше.
Мама гневно захлопнула словарь.
– И вообще, кто разрешил тебе встать? Мала еще быть такой любопытной!
– Но…
– Довольно.
Мама дождалась, пока я отправлюсь в кровать, и только тогда позвонила по телефону. Она говорила на родном языке, на кантонском, то тут, то там коротко вставляя фразы на мандаринском, и даже из-за закрытой двери я ее слышала – как она запинается на тонах, никогда не выходивших у нее естественно.
Я слышала, как мама спрашивает:
– У тебя там очень холодно?
А потом:
– Твой билет на “Грейхаунд” будет в…
Я сняла очки и уставилась в расплывшееся окно. Дождь был похож на снег. Голос мамы казался мне совсем чужим.
После долгого молчания я нацепила очки обратно, выбралась из постели и вышла. Мама с шариковой ручкой в руке сидела над стопкой счетов, словно ждала, пока кто-то начнет ей диктовать. Она увидела меня и спросила:
– Ты почему без тапочек?
Я сказала, что не знаю, где мои тапочки.
– Девочка, а ну в кровать! – взорвалась мама. – Что тут непонятного? Просто оставь меня ненадолго в покое! Ты вечно хвостом за мной ходишь, следишь и следишь, точно думаешь, что я… – она с силой хлопнула ручку на стол, и кусочек пластика отломился и покатился по полу. – Ты думаешь, я уеду? Думаешь, я такая же эгоистка, как он? Что я способна была бы тебя так же бросить и причинить тебе такую же боль? – последовала длинная, яростная тирада на кантонском, а затем:
– Да просто иди уже спать!
Сидя там со старым, тяжелым словарем, она казалась такой пожилой и хрупкой.
Я спаслась бегством в ванную, захлопнула за собой дверь, открыла ее, хлопнула ей погромче и разразилась слезами. Я пустила в ванну воду, постепенно понимая, что на самом-то деле хочу именно пойти спать. Я так рыдала, что стала икать, а когда икота наконец прекратилась, единственным звуком остался шум льющейся воды. Примостившись на бортике ванны, я смотрела, как исчезают под водой мои ступни. Мои бледные ноги подогнулись, я погрузилась под воду.
В воспоминаниях ко мне вернулся папа. Он вставил кассету в магнитофон, велел мне опустить жалюзи, и мы поплыли вниз по Мэйн-стрит и по Великому Северному пути, под трубный глас бетховенского концерта “Император” (солист – Гленн Гульд, дирижер – Леопольд Стоковский). Спешные ноты водопадом бежали вниз и до бесконечности – вверх, и мой отец правой рукой дирижировал, а левой крутил руль. Я слышала, как он мелодично напевает, отбивая такт: ТА! ТА-ти-ти-ти-ТА!

Та, та, та! У меня было такое ощущение, что, пока мы триумфальным маршем двигались по Ванкуверу, первую часть концерта творил не Бетховен, но мой отец. Его рука отбивала четыре четверти, захватывающую трель между последней долей и первой,
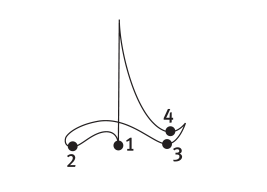
и я гадала, что бы это могло значить – чтобы человек, который некогда был знаменит, который выступал в Пекине перед самим Мао Цзэдуном, в собственном доме даже пианино не держал? Что на хлеб он себе зарабатывал, трудясь в магазине? Если уж на то пошло, то, хоть я и умоляла отдать меня учиться играть на скрипке, отец всегда отказывал. И, тем не менее, вот мы пересекали город в объятиях этой победительной музыки, так что прошлое, Бетховена и моего отца, никогда не умирало, но лишь разносилось эхом из-под ветрового стекла, а затем вздымалось и укрывало нас, словно солнце.
“Бьюика” больше не было; мама его продала. Из них двоих она всегда была жестче и неприхотливей, как кактус в гостиной – единственный комнатный цветок, переживший отбытие папы. Отцу моему, чтобы выжить, требовалось больше. В ванной мои ноги все больше уходили под воду. Устыдившись, что так много ее уходит впустую, я завинтила кран. Отец сказал однажды, что музыка полна молчаний. Он ничего мне не оставил – ни письма, ни послания. Ни слова.
Мама постучала в дверь.
– Мари, – позвала она. Повернула ручку – но дверь была закрыта. – Лилин, ты в порядке?
Минуло долгое мгновение.
Правда была в том, что отца я любила больше. Понимание этого пришло ко мне в тот самый миг, когда я окончательно осознала, что отец, должно быть, ужасно страдал и что моя мать никогда, ни за что на свете меня бы не бросила. Она тоже его любила. Рыдая, я коснулась ладонями воды.
– Мне просто ванну принять надо было.
– Ох, – произнесла она. Ее голос, казалось, отразился эхом в самой ванной комнате. – Смотри не простудись там.
Она снова попыталась открыть дверь, но та все еще была закрыта.
– Мы справимся, – сказала она наконец.



