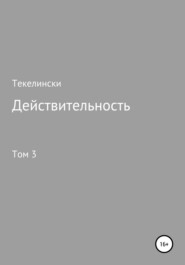
Полная версия:
Действительность. Том 3
Итак, всякая оценка определяется заинтересованным взглядом наблюдателя, и всегда дифференцированно. Наш разум, – все, что резонирует с его устоявшейся концепцией, – приплюсовывает, и всё что входит в противоречие, – отбрасывает. И так он поступает всегда и во всём. То, что усиливает его основную линию, он оставляет и старается вплести в «общую косу реальной действительности». То, что ослабляет – немедленно абстрагирует, нарекая ненужным, и даже вредным. Он выстраивает мозаику воззрения, и она должна непременно складываться в некую законченную гармоничную форму, – в пространственно-временную полифонию. В противном случае он вынужденно страдает, не получая своего удовлетворения. Страдает либо от явной незаконченности музыкального ряда, либо от несоответствия, беспорядка, а значит близости холода хаоса.
Наше воззрение, так или иначе, все формы и отношения в мире выстраивает согласно иерархии, и воплощает их в пирамидальные конструкции. Где непременно должно быть основание, и вершина, – пик. Так рождаются доминанты. И так человеческий разум провозглашает собственную доминанту над миром, олицетворяющую его сакральную глубоко имманентную власть над ним. Человек считая себя вершиной разумности, наблюдает мир в одном фокусе, и не желает принимать во внимание ничего, что, так или иначе противоречит этому фокусу. И главными причинами этого являются доминирующие установки «рационально-аналитической ганглии» его сознания. «Ганглии», которая накладывает на всё, и вся свою печать, свою точку зрения, свою форму обзорности и образности. И, будучи уверенной в собственной доминанте, постоянно старается укрепить эту свою власть. Но её образ воззрения, есть линия, – тропинка, в отличии от «идеальной ганглии» сознания, где образ воплощается в широкое поле. И хотя рационально-аналитическое мышление постоянно ловит себя на «ошибочном», (ибо тропинок может быть бесконечно много), её уверенность в собственной доминанте нисколько этим не умаляется.
«Поле», присущее воззрению «идеальному», в отличие от рационально-аналитических тропинок в отдельно взятом индивидууме всегда одно, и главное – неповторимо, и потому несравнимо. И только «рационально-аналитическое воззрение», в силу уверенности в собственной правоте, пытается сравнивать эти «поля-созерцания», и даже определять, исходя из собственных склонностей, в них – «ошибочное». И здесь пытаясь делать то, что всегда делает со всем окружающим миром. А именно, антропоморфно оценивает все явления и формы, приписывая им необходимые черты и свойства, и наделяя целями свойственными только ему, – его политесу с упорядоченными константами «рационально-аналитического мышления». Убеждённое в собственной доминанте, оно проецирует свои качества на те области нашего разума, где «ошибочное», как таковое, просто исключается. Я имею в виду области идеального воззрения и его «плоды» в виде произведений различных форм искусства, творений художника, поэта, или музыканта, отражающих «идеальный мир продуцирования противоположных сторон разумения». Подчас, «рационально-аналитическое мышление» даже пытается сделать «идеальное», – собственным вассалом, и если это не удается, то провозглашает его собственным рудиментом!
Само доминирование, как парадигма воззрения, распространяющаяся на все плоскости мира, создано именно «рационально-аналитическим мышлением». И это вполне естественно, как могло бы быть иначе. Ведь для того, чтобы утвердить собственное превосходство и власть, ему было необходимо показать подобное доминирование в самой природе, иначе такая доминанта не имела бы, условно говоря, юридической силы. Кому же ещё может быть свойственно, как не «рационально-аналитическому мышлению» такое утверждение. Ведь утверждение и доказательства – его стезя. «Идеальное мышление» говорит на ином языке, у него нет необходимости что-либо утверждать и доказывать. Его стезя – глубина и образ, без какого-либо разложения, упрощения или усложнения, а главное – сравнивания, и последующей оценки правильности и ошибочности. Его существо прямо противоположно всякой диалектической парадигме воззрения умствующего рассудка.
И вот, «рационально-аналитическая ганглия» нашего сознания, выстраивающая внешний мир удовлетворяющий её запросам, пытается втиснуть в это «прокрустово ложе» всё и вся, убеждая, а чаще просто подавляя воззрения иных «ганглий сознания». Власть, – эта последняя ступенька всякого жизненного смысла – её неразрушимая константа, начинается и заканчивается именно здесь, – в глубинах «рационально-аналитического разумения» и его доминирующих смыслов.
То, что на самом деле творится в нашем разуме, что происходит на его тончайших уровнях, не доступно никакому фиксированию и оценке. И чаще всего мы, не замечая самой войны, и только находя на полях «герольды» и «трупы» очевидного, делаем соответствующие выводы о неутихающей на его глубинах, битве. Наше «рационально-аналитическое воззрение» постоянно пытается прорваться на поля «идеального», порой не безуспешно. Но захватить это поле целиком, (то, о чём мечтает «рационально-аналитическое»), – ему никогда не удастся. И хотя во многих головах происходит нечто вроде революции, где как будто бы побеждает «рационально-аналитическое», всё же это лишь временное явление. Сместив с правящих позиций «высшее», «чернь» захватывает власть, переворачивает душу, и навязывает всему разуму свои позиции и ценности, провозглашая некое «незыблемое-безусловное». Эти головы не трудно узнать. Они всегда знают, чего хотят, они всегда уверенны в своей правоте и почти никогда не сомневаются ни в чём. Их конёк – «существует лишь то, что можно потрогать». Ценно то, что доставляет удовлетворение непосредственно. Разумно то, что можно просчитать математически. Имеет смысл только то, что можно упорядочить, сложить и положить в карман, в самом широком смысле слова. Полезность, – вот их критерий ко всему и вся. И их нисколько не смущает даже то, что они, в силу «собственной природы рационального», никогда не могут привести всё к своему абсолюту. И нисколько не обескураживает, что их доминанта, их мифологизированная истинность часто растворяется, словно утренний туман, как только на арену выходит по-настоящему сильное «идеальное воззрение».
«Любитель» и «Профессионал». Нет смысла разглагольствовать к какому из понятий люди относятся с большим пиететом. А между тем «любитель» есть наиболее глубокая авангардная форма отношения к своему делу, и в конце концов к жизни. Ну хорошо. Я ещё могу понять, когда это касается сферы целиком относящейся к рациональным полям созерцания и к воплощённым в них вещам, но, когда это отношение проецируют на области «идеального», где профессионализм как таковой, является по сути клеткой, – тормозом в развитии, я принять не могу. Человек, к примеру, занимающийся профессионально своим искусством, вынужденный в своём творчестве следовать конъюнктуре, по сути является ремесленником, и не отражает истинных целей настоящего искусства. А в конечном счёте, истинных целей «идеального воззрения» и его формы бытия. «Дойной коровой профессионализма», пережёвывающей вместе с «соломой целесообразности» цветы идеального совершенства, съедается индивидуальность, и на полях остаётся лишь «культивированный турнепс» удобренный навозом и поросший горькой полынью разочарования.
Во что превращается крылатый конь вдохновения, когда на него надевают седло, а в пасть вставляют удела? – В жалкое подсобное животное. Крылья складываются, и пропадает полёт фантазии. Нет уже того волшебства, недоступного никаким рационально-аналитическим обоснованиям. Растворяется преимущество заоблачных категорий, в море полезности, в океане рассудительной строгости приземлённого стиля и т. д.
Наше искажённое отношение к любительству, обязанное смешиванию его с дилетантством, и чрезмерное и не заслуженное возвеличивание профессионализма, продиктовано всё той же «рационально-аналитической ганглией» нашего сознания, безапелляционно уверенной в собственной правоте, и собственной доминанте на полях всякого мировоззрения. Профессионал в искусстве, профессионал в идеальных мастерских, – мёртв. Его произведения отдают холодом склепов, они более не вызываю восторга, в них нет живости. Той запредельной живости, к которой подспудно всегда стремится всякая тонкая душевная организация. В этих произведениях пропадает главное – возможность угадывания глубокой тайны бытия, совершенно не доступной для «рационально-аналитического воззрения». Здесь, ты никогда не почувствуешь вынутого из глубин души, и отражённого в произведении, вдохновения! Того самого желанного «камня», ценнейшего из всех камней, когда-либо добытых человеком в горах познавания. Ты уже не отыщешь здесь того, что цениться должно всего дороже на нашей бренной земле. Где всё и вся суета сует, и только вдохновение – олицетворяющийся Бог! Где самым дорогим должно быть самое тонкое, еле уловимое, скоротечное и уязвимое! То, что чаще всего превращается «рационально-аналитическим сознанием» в продукты переваривания от «дойной коровы», жующей, и разлагающей своими ферментами, всё тончайшее в этом мире, и превращающей в необходимый для сдабривания собственных культур, навоз.
Вдохновение = высшее проявление сути жизни, её апофеоз, – тайна тайн! Для «рационально-аналитического» же, тайн, – не существует. Всё и вся когда-нибудь должно быть объяснено, с уверенностью и апломбом заявляет оно. И потому, оно гораздо дальше от настоящей – «истинной жизненности».
«Рационально-аналитическое», в силу своей природы, всякое здание превращает в кирпичи, всё упрощает и опошляет. Но в то же самое время для себя, для своих констант, – всё и вся усложняет. Ведь в нашем осмыслении, все, что сложно для «рационально-аналитического», просто для «идеального», и наоборот. Кстати сказать, диалектика, это и есть попытка проникновения рационально-аналитического, на поля идеального. И привлекательность диалектики в том, что она, будучи в сути своей суррогатом в своём синтетическом теле, тем самым возбуждает обе «ганглии» нашего сознания.
С точки зрения рационально-аналитического:
«Агрегат нашего рационально-аналитического мышления», спекулятивной динамикой своего возникновения и развития, повторяет возникновение и развитие Вселенной. (Прошу прощения за чрезмерную глобальность). Но как могло бы быть иначе? Мы – часть Вселенной, мы её дети. И метафизика нашей мысли, повторяет своей формодинамикой общую физику Вселенной. Теперь сосредоточьтесь. Мысль, – зарождается и развивается как некая флуктуация точки в нашем сознании, в его микроскопическом, и в то же время безграничном космосе, как некое нарушение гармонии покоя, и последующее молниеносное воплощение в агрегат, в структурированную форму, в некий активный имманентный алгоритм, – в некий трансцендентальный организм. (Мысль). И точно также в нашем осмыслении зарождается и развивается сама Вселенная. А именно: В пустоте с её абсолютной гармонией, возникает нарушение, и появляется некая флуктуирующая точка, которая раздувается в инфляционный пузырь, и превращается в материю, некий «сущностный конгломерат» со своей архитипной организацией. Развиваясь в разные стороны «благоприятной среды», поглощая своими «метастазами» области инертной и нейтральной пустоты, она превращает мир небытия, – в бытие. Затем, в силу противостояния «сил уравновешивания», стремящихся вернуть всё и вся на свои места, происходит относительное упорядочивание, и как результат превращение хаоса пустоты во Вселенную – в слаженную систему.
И на самом деле осмысление этого механизма имеет две противно направленные парадигмы. Можно представить всё это, как в одном направлении, так и выстроив обратный вектор осмысления причинно-следственной обоснованности воззрения. Условно говоря, переложив осмысление причинно-следственной направленности от основания к следствию, – на противоположное. То есть с внешнего мира, на мир внутренний. Поменять угол зрения, при котором, условно говоря, не ты смотришь в пропасть, но пропасть смотрит в тебя. В этом случае возникает обратное воззрение, = не феномен порождает восприятие, но ноумен порождает феномен, и все его формы, транскрипции и динамические трансформации. То есть, в свете такой парадигмы воззрения, модель Вселенной, её возникновение и развитие, есть отражение модели нашего разумения, некоей способности разума, его динамической агрегативной организации с её архаической последовательностью, и присущей только этой организации, функциональности. Где вся выше обозначенная последовательность зарождения и развития мысли в нашей голове, воплощается в агрегативную динамику зарождения и развития внешнего мира, – Вселенной. И тогда можно сказать так: Вся модель возникновения и развития Вселенной, есть отражение модальности морфо динамики нашего разума, нашего сознания. Его агрегатность, олицетворённая и воплощённая в Макрокинез Вселенной. То есть выложенная последовательность собственной агрегативности, перенесённая на внешние формы созерцания.
И в этом контексте, вполне возможно, что наше осмысление динамики возникновения и развития Вселенной, есть лишь осмысление в себе, осмысление собственных порядковых динамических возможностей. И, на самом деле Вселенная не появлялась и не развивалась так, как мы это осознаём, не она породила нас как собственных детей, но наоборот, = Мы создали её, все её конструкции, динамические законы и всевозможные квинтэссенции. Вселенная, не существовала до того, пока некая метафизическая сверхтонкая форма, возникнув в нашем разуме, не определилась и не выстроила собственные формы алгоритмов и трансцендентных образований, перенеся их вовне, в силу трансцендентной природы разума, и не выстроила внешнюю действительность по своему образу и подобию. Вся её целокупная мозаика, – грубое воплощение нашего микроскопического тонкого разумения.
Но скорее всего, эти две разнонаправленные парадигмы, имеют одинаковые шансы на собственную истинность.
Это сложно понять. «Материальность Вселенной», её формообразность, вся её динамика в самом широком смысле слова, в сути своей есть восприятие нашим разумом собственных способностей и возможностей. «Фундаментальная существенность материи» не определяема, так как она в сути своей, – невозможна. Она, как субстанция, – такой же плод нашего разумения, как всякая воплощённая форма действительного мира, включая и глобальную форму Вселенной, и всю её динамическую конструкцию, и организацию.
Но как возможно разумение, – без материи? Вот ещё одна противоречивая дефиниция, имеющая равные шансы на собственную истинность. Если Вселенная плод нашего разума, и по большому счёту лишь наша иллюзия, и её существенность ничем не отличается от «пустоты», как только своим нарушением, то и мы сами, наше тело и наше разумение, такой же плод нашего разума. – А это уже звучит как абсурд, способный привести сам разум к шизофрении.
Дело всё в том, что как форма, так и субстанциональность мира всегда такова, с какого угла, с какой точки зрения ты смотришь на него. И суть его становиться таковой, с какой из глубин ты взираешь на его нейтральное в своей сути, тело. Всякая оценка рождается и укрепляется ноуменом, и лишь прилагается к действительности бытия, производя на его глубоко нейтральных полях, нечто сформированное, нечто относительно организованное и упорядоченное. А это ещё раз подтверждает мою общую гипотезу относительно общей нейтральности мира. Ибо и то, и другое будет истинным, как бы они не противоречили друг другу, если настроить фокус своего воззрения на определённый лад. Когда стоишь на берегу реки, то для тебя рыбак, стоящий в лодке проплывает мимо. С точки же зрения рыбака, это ты вместе с берегом проплываешь мимо. При взгляде из пещеры, – мир один. При взгляде в пещеру, он – иной. При взгляде на одно и то же поле с высоты птичьего полёта, и с высоты стебля травинки, оно имеет совершенно разные очертания. Трансцендентальное же его осмысление, где поле всегда остаётся полем, – лишь ещё одна высота. И хотя создаётся впечатление обратного, но даже нашему трансцендентальному разуму не дано созерцать и осмысливать с обеих сторон, одновременно. Всякий наш взгляд, всякое наше осмысление мира, всегда суть взгляд через определённую «камеру обскура», и никогда не несёт в себе никакой истинности.
Что на самом деле первичнее? Вселенная создаёт наш разум, или разум создаёт Вселенную? Наш разум плод Вселенной, или Вселенная плод разума? Всё это, так же вопросы нашего «рационально-аналитического разума», хотя и наиболее возвышенных его транскрипций. Только он всегда и во всём ищет начало и конец, причину и последствие, древо и плод, верх и низ, истину – и её противоречие.
И продолжая перспективу в наиболее глобальное созерцание и осмысление, можно задать «бесполезный вопрос». Как вообще отличается «действительность» от «пустоты», в чём их принципиальное отличие? Кто из них существует на самом деле, «нейтральная пустота», или «определённая действительность»? Для нашего разума существует лишь «действительность». Для него пустоты – нет. Для него «пустота» есть рудимент сознания, – рудимент бытия. Она является таким же противоречием для нашего разума, каким является вечность, – для времени. Там, где существует время, не может быть вечности, – и наоборот.
«Рационально-аналитическая ганглия» нашего сознания создала мир, в котором существует и не существует – одновременно. Как существует, и в то же время не существует в мире, – пространство и время. Она создала «пространственно – временной континуум, и тем самым создала нечто действительное сущностное. А значит, создала и предпосылки для иллюзии, этой главной основы всякой действительности и жизненности.
Задумайтесь, какой была бы наша с вами жизнь, не развейся в нашем разуме «ганглия рационально-аналитического»? Это крайне сложно представить. Необходимо включить всю свою фантазию. Ведь на самом деле не существовало бы цивилизации, как таковой. Без «рационально-аналитического воззрения», наш мир был бы совсем иным. Ведь всё наше мироощущение, ограничивалось бы мигом, как у той же коровы, или у другого, с нашей синтезированной точки зрения, малоразвитого животного. Хотя надо отметить, что даже у коровы проблёскивают зачатки рациональности, а у более агрессивных животных, они даже иногда поражают наше воображение.
Так попытайтесь представить себе, что наше мировоззрение словно одноногое, одноглазое, одноухое чудовище, лежало бы на поле фатальности, – неразумное и убогое. И пусть эта «нога» имела бы огромную силу, этот «глаз» имел бы огромные размеры, и это «ухо» слышало бы шум ветра соседних планет, у него всё равно не было бы никаких перспектив, без «рационально-аналитического мировоззрения», в самом широком смысле слова. Представьте себе на секунду, (секунду? – уже вступает в силу рациональное), нашу жизнь без числа, без определённого времени, без определённого расстояния, и вообще без каких бы то ни было отчерченностей и определённостей. Представьте наше мировоззрение и нашу жизнь – без науки! Ведь наука может существовать только в синтезе «идеального» и «рационально-аналитического воззрений», только на полях сочетаний, сопоставлений, ограничений, и порождающихся этим синтезом, перспектив.
Во сколько раз уменьшились бы шансы на выживание у человечества, не развейся в нём «ганглии рационально-аналитического». Уязвимым по всем направлениям, человек был бы не способен противостоять не то что штормам природы, но даже лёгким ветрам и незначительным перепадам температур. Всё самое необходимое для жизни, как и всё самое великое в нашей жизни, плод синтеза «идеального» и «рационально-аналитического» воззрений. Это синтез позволяет разуму, как стоять твёрдо на своих ногах, так и подниматься за облака. Совершать великие дела, и создавать великие фолианты. По большому счёту наш разум, своим величием и совершенством обязан именно синтезу «идеального» и «рационально-аналитического», в их равнозначных и равновеликих агрегативах.
Полифония мира
«Мы стремимся к истине, как к самой увлекательной, самой завораживающей, и в то же время самой опасной игре. Истина – самая тщеславная, самая обольстительная, и самая недоступная «любовница». Никакая другая «любовница» не искушает так, как истина…»
Парадокс достоверности
Зачем мир, создаёт в себе глаза, уши, и всевозможные сенсоры, и «ганглии», для определения, и идентификации? Зачем он, создаёт трансцендентальную возможность чувства времени, и пространства?
Единственно возможный ответ: Затем, чтобы ощутить самого себя? Но зачем ему, ощущать себя? Зачем ему создавать существ, вроде нас, чьё существование, определяет, саму последовательность действительности…, само бытие, со всей его протяжённостью, в пространстве, и продолжительностью во времени? Не есть ли, самоощущение, и самоосознание мира, тот самый парадокс, который определяет, единственно возможную цель, и единственную возможность вообще, для всякого бытия?
Где-то здесь, за каким-нибудь камнем на берегу бескрайнего океана, притаился Бог! Мы слышим его дыхание, видим его поднимающиеся пары, почти ощущаем, его нейтральный запах. Мы уверенны в том, что он должен быть где-то здесь. И только он суть – сущностный. Всё остальное, его пары и его дыхание, – его инертная непреодолимая ничем поступь, есть лишь видимость, – иллюзия его олицетворения. Как же ему должен был наскучить мир, со своим бесчисленным повторением, чтобы он решился «выпрямить эллипс», и создать из него прямую дорогу, уходящую вдаль. Видимо он так измучился этими повторениями, что решил, наконец, уйти. Но тем самым он в очередной раз обманул себя, ибо и на этом пути ему суждено вернутся, он лишь отмерит более обширный эллипс.
Где-то здесь, рядом, за соседним камнем притаилась безнадёжность. Она выглядывает из-за него своим смеющимся взглядом, иногда вскрикивая и хохоча. Её взор – неумолим. И она ждет, когда Бог выйдет из своего укрытия, чтобы одним махом прикончить его. Она полагает, что Бог прячется от неё. Но каким бы он был Богом, если бы прятался? Нет! Он способен сломать всякую безнадёжность! Для этого у него запасены инструменты. «Меч надежды», «лук тщеславия», «булава презрения» – ко всяким проявлениям безнадёжности. Что ему «тараканы сомнения», он давит их походя. Всегда готов сразиться с самой «царицей безнадёжности», и со всей её преисподней. И он считает, что это она боится его. И каждый сидит за своим камнем, уверенный в себе, и преисполненный собственной неопровержимости.
Какие же мы самоуверенные и в тоже время наивные дети! Мы смотрим в мир в полной уверенности, что его история, – история «сверх глобального мира» имеет свою линейную, уходящую бесконечно вдаль, гиперболу. Что действительность в своей целостной объёмности, имеет абсолютное прошлое и будущее. Мы полагаем, да нет, мы абсолютно убеждены, что её глобальная историческая последовательность на бесконечной линейке времени твориться сейчас, что мы, живя, воспринимаем отрезок её бесконечного глобального становления, что пред нашими глазами происходит общее становление глобального мироздания, обещающее нам такие совершенные высоты, на пиках которых непременно должна лежать величественная страна – «нирвана».
Но если бы это действительно было так, если бы «сверх глобальный мир» творился на наших глазах, если бы он имел своё абсолютное становление, то давно исчерпал бы собственное время, исчерпал бы все свои возможные формы и состояния. Без отката назад, без повторения, (где число не имеет никакого значения, ибо само по себе не существует), без зацикливания, и постоянного возвращения, мир – давным-давно пришёл бы к собственному кризису, и канул в небытие. И единственное его спасение, единственно возможное вечное существование, заключается именно в откате назад, в повторении, в цикличном возвращении. Окружность, есть его необходимая форма. Иных форм – у него просто быть не может. Стрела, летящая вдаль, должна либо вернуться, либо кануть в небытие, иное – невозможно. Всё что не возвращается, пропадает безвозвратно.
Имей глобальный мир сам в себе бесконечное число, определяющее свою собственную продолжительность, свою глобальную протяжённость, своё собственное глобальное бытие, – что он бы был? Чем он теперь бы стал? Какой заоблачной недосягаемой силы он мог бы достичь? До каких пределов дойти? Ведь если бы мир сам по себе, помимо качественной составляющей, имел бы ещё и количественную, до каких пределов могла бы расшириться, вырасти его телесность, каких запредельных границ она могла бы достичь? Да таких, которые неминуемо и даже необходимо превратили бы этот мир в ничто, – в пустоту. Ибо такой мир сломал бы всякие возможные и невозможные границы. А мир без границ и есть пустота, – ничто.
На чём собственно зиждется иллюзия прогрессивной действи
тельности, обещающая перспективу бесконечного развития и бесконечного же существования? На форме нашего мышления, на её креативной последовательной функциональной способности, вытекающей из её строго необходимой агрегатности. Спекулятивная форма развития мира, лежит не вне нашего разума, (как нам кажется), но в нашем разуме. Он, и только он выстраивает все последовательности, все возможные перспективы и закономерности. В природе самой по себе, нет и быть не может никакой последовательности, никакой перспективности и закономерности. Ведь она сама по себе, вне времени и пространства, а значит, не имеет в себе никакого развития, и тем более спекулятивной формы прогрессивного совершенствования. Наш разум придаёт природе свои формы, наделяет её своими целями, и тем – удовлетворяется. Он удовлетворяется властью над ней, и своим кажущимся произволом. Ведь потенциальная и необходимая потребность разума, цель его агрегативности, только и состоит в том, чтобы пустить в эфир свою волну, – волну с индивидуальной неповторимой частотой, и получив отражённую и оплодотворённую из вне, – срезонировать. То есть вступить с этой отражённой волной в некое сношение, порождающее синтезированные продукты мироздания, которыми затем с «наслаждением каннибала» питается наш разум, все его как грубые, так и утончённые органоиды.

