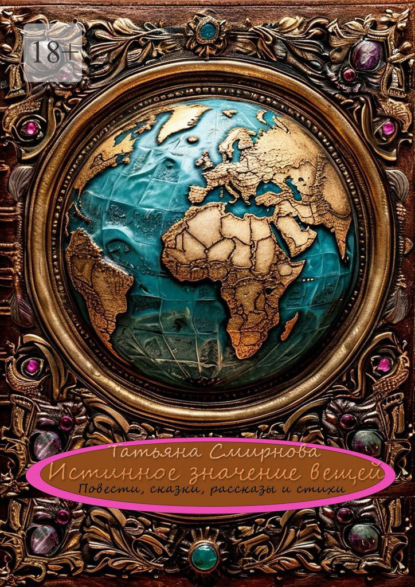
Полная версия:
Истинное значение вещей. Повести, сказки, рассказы и стихи
В мое детство книга вошла тоже через Гомель. После окончания первого класса нам дали задание на лето – прочесть несколько книг. И вот, бабушка с дядей решили приобщить меня к чтению. Почему они для этого выбрали книжку из детства самой бабушки, я не знаю, но для моего детского сознания это была самая нудная из всех возможных историй. Она рассказывала о повседневной жизни маленькой девочки, и была разделена на главы в полторы-две страницы. Каждое утро, прежде чем идти гулять, прежде игры с Джеком, просмотра «В гостях у сказки» и всего остального, я должна была прочесть одну главу, немного вслух и дальше про себя. Колдыбая, как по горной дороге, запинаясь и путая буквы, я, иной раз даже со слезами на глазах, глотала эту горькую пилюлю учения. Девочка в книге представлялась мне самой занудной и скучной, а её детство просто перечеркиванием всего детского, и главное, моего собственного, радостного детства. Особенно, когда звонили в дверь, и друзья спрашивали у бабушки: «А Таня сегодня выйдет?», это казалось невыносимым. С горем пополам, перелистнув несколько страниц и предугадав конец истории, я сказала взрослым, что закончила книгу. А для себя решила, что читать я больше не буду. Но уже на следующий год мы приехали с красиво изданной книгой Русских народных сказок, которую я с удовольствием прочла. Потом мы привезли фантастику Кира Булычева, и читали все вместе, даже дядя по ночам забирал нашу книгу, чтобы почитать. Кстати, на ночь-то нам обязательно читали или рассказывали сказку, иногда дарили книгу, и взрослые садились рядом, чтобы прочесть её вместе, рассматривая картинки. Позже мы читали по очереди, если книга нравилась всем. А потом каждый устраивался перед сном со своей книгой, и постепенно я перечитала многое с бесконечных полок в дядиной комнате – путешествия Жюль Верна, приключения Дюма. Часто по ночам каждый читал в своей комнате, встречались мы только на кухне или перед дверью в туалет. «Ты еще не спишь?» – Нестрого спрашивали взрослые, но не препятствовали закончить книгу. Вскоре книжный мир стал вытеснять игры во дворе и прогулки в парке. «Ты выйдешь?» – Спрашивал соседский мальчишка. «Нет, я сегодня буду читать», – отвечала я.
Глава девятая. Вишневое варенье
Как я уже рассказывала, во дворе нашего дома росли три бабушкиных вишни. Она посадила их, когда заселилась в этот дом, переехав сюда с дедом в начале 50-х. Оба были военными врачами, позже бабушка стала работать терапевтом в подведомственной поликлинике, а дед нежданно-негаданно скончался, оставив её с тремя детьми. И вишни кормили их каждый год обильным урожаем, превратившись с годами в раскидистые деревья. Своими ветками с наливными ягодами вишня вылезала из ограды дома прямо на пешеходную часть улицы. И прохожие то и дело срывали нависавшие ягоды, что казалось в порядке вещей. Однако были и те, кто задерживался на подольше, доставая пакетик и начав собирать туда ягоды. В таком случае бабушка выходила на балкон и строгим докторским голосом говорила: «Я всё вижу». Сама она каждый день спускалась попробовать ягоду-другую, и возвращалась, произнося: «кислющие». Но в один прекрасный день наступал момент, когда бабушка одобряла вкус ягод и тогда все мы, дядя, тётя, брат и я отправлялись собирать вишню. Выносились раскладные лестницы, табуретки, вёдра, и урожай бережно складывался туда. Брат залазил на дерево и нагибал к нам ветки, а мы собирали ягоды в кружки, которые потом ссыпали в ведро. К позднему обеду мы заканчивали, хотя конечно самые красивые и сочные ягоды так и оставались висеть на радость птицам у недосягаемой верхушки дерева. Обсыпанные мелкими жучками, обрызганные лопнувшими ягодами, мы отправлялись мыться, а бабушка приступала к перебору ягод и выковыриванию косточек. Уже поздно вечером перебранные ягоды засыпались горой сахара, чтобы пустили за ночь сок. Затем на протяжении нескольких дней бабушка варила варенье, то включая, то давая остыть, до тех пор, пока оно не обретало коричнево-бордовый цвет и переставало растекаться по поверхности. Тогда кипятились банки и крышки, варенье заливалось в них и относилось в погреб. Аромат вишневого лакомства разносился по улице, вызывая зависть соседа, посадившего черешню. Вообще с соседями случались трения, сосед снизу даже грозился порубить деревья, но бабушка оставалась вдовой с тремя детьми и заслуженным тружеником тыла, правда была на её стороне, и все разногласия заканчивались косыми взглядами. Через несколько дней мы всё так же бегали с детьми завистливых соседей, простив им косоглазие.
Глава десятая. Цыпа
Эта история началась в весенней Москве – я тогда уже сама ходила в школу, и получала на завтрак по 20 копеек ежедневно. Скопив несколько «получек», я зашла в зоомагазин и увидела там желтеньких пушистеньких и пищащих комочков. У меня хватило ровно на один, и вот я принесла домой цыпленка. Ошарашенная мама решила: «ну, через неделю умрет». Но цыпленку у нас понравилось, он стал ручным питомцем, жил в коробке под кухонным столом, прибегал встречать нас к двери, а еще мы с братом научили его клевать бегающих по кухне тараканов. В начале 80-х тараканы жили почти во всех многоквартирных домах, особенно если там был мусоропровод. Потом уже в 90-е, когда появилась едкая зарубежная химия, от этой напасти удалось избавится, но в нашем детстве ночной заход на кухню часто сопровождался криками, от неожиданно нарезающего круги огромного прусака и кишащих у раковины его мелких отпрысков. Мы, дети, безжалостно давили поганцев, но, когда появился Цыпа, показали ему мелких тварей, постучали рядом пальцем, и Цыпа всё понял, он начал гоняться за таракашками и смачно их склевывать. Смотреть за этим было крайне занимательно. Цыпа не боялся нас совсем, походил, карабкался по ноге и устраивался спать на плече. Однако как раз к лету у него стали расти белые перья, вытянулась шея и появился хохолок. У нас уже жил молодой, откормленный на тараканах петух, который больше не желал отсиживаться в коробке. Ясно, что пустить моего питомца на суп было немыслимо, и его отправили с тётей в Гомель. Дальнейшую его судьбу я не знаю, взрослые поберегли мою психику, чтобы не посвящать в конец Цыпы. А мы больше к бабушке не ездили, причиной чему стали произошедшие в стране изменения.
Глава одиннадцатая. Как всё рухнуло
В 1985 году мы опять были в Гомеле, поскольку в Москве проводился Международный фестиваль Молодежи и студентов. Всем родителям было настоятельно рекомендовано увезти детей подальше от столицы. Нам тоже очень хотелось посмотреть на иностранцев, но нас отправили на дачу к бабушке, где нужно было собирать колорадских жуков с картошки. Почему колорадских? Из штата Колорадо в США, завезенные диверсантами. Поэтому всё знакомство с иностранцами было только по телевизору и через заморских жуков. В то время иностранные туристы были в диковинку, и к ним относились восторженно дружелюбно. Хотелось дать им самое лучшее блюдо, показать самые красивые места, подарить самые особенные подарки. В нашу московскую школу, специализирующуюся на изучении английского языка, периодически приезжали делегации интуристов, они посещали наши уроки, проходили по рядам и раздавали жвачки. Мы коллекционировали фантики и вкладыши, играли на перевернется-не перевернется, забирая себе перевернувшиеся, создавали коллекции. Вообще и впрямь «нас так долго учили любить твои запретные плоды» (песня Наутилуса об Америке). Мы даже говорили на английском с иностранцами и преодолевали языковой барьер. Я так завидовала тем одноклассникам, которые остались в Москве и могли пожать руку иностранцу. Вероятно, мой внутренний протест отразился на всей поездке, и впервые Гомель мне не понравился. Тогда мне шел десятый год.
А на следующий год 26 апреля произошла Чернобыльская авария. Радиационные тучи полетели на Беларусь, и Гомель оказался тоже в числе зараженных областей. Многие соседи бабушкиного дома и другие гомельчане, отыскав у себя еврейские корни, оставили квартиры, дачи и всё нажитое и переехали в землю обетованную. Те, кто остался, прикупили счетчики радиации, и мерили всё вокруг – радиацию на продаваемой на рынке чернике, радиацию на дачном участке. Особенно зашкаливало на грибах, которые под действием облучения, росли до колоссальных размеров. Больше никто не собирал клубнику и не варил варений, весь жизненный уклад горожан перевернулся с ног на голову. Собираясь, они рассказывали про двухголовую курицу, про зону отчуждения, про погибших при тушении пожара героях со всего Советского Союза. Отголоски всех этих рассказов долетали по телефонному проводу и до нас в Москву, вызывая настороженность к гомельским подаркам и заготовкам. Бабушка больше не могла нам прислать никакого незапятнанного гостинца, а мы с язвительность подростков называли всё гомельское «радиационным».
Через несколько лет мы с мамой приехали навестить бабушку. Хорошо помню, как первое время я даже настороженно вдыхала радиационный воздух, зная из взрослых рассказов, что он может вызвать раковые заболевания, отразиться на потомстве и т. д. За эти прошедшие без меня года Гомель сильно изменился – в телевизоре появился канал, на котором говорили на неизвестном, хоть и узнаваемом языке. За прошедшее перестроечное время единый коллектив советских граждан осознал свои «свободы», припомнил забытые национальные традиции и начал пробовать их демонстрировать. До того времени я ни разу не слышала в Гомеле белорусскую речь, единственным отличием от московского говора был гортанный «г», свойственный также югу России и Украине. И вот, в наш новый приезд по-белорусски говорили многие, даже мамина школьная подруга. Странно было смотреть «Спокойной ночи, малыши» на белорусском, хотя оставалась возможность переключить на другой канал и увидеть русскую версию. Появились белорусские газеты, а мои бабушка и дядя их ежедневно внимательно прочитывали. Та эпоха была временем «перемен», на данные мне деньги я посетила в кинотеатре фильм «Асса» (заканчивающийся песней Цоя – «мы ждем перемен»), а потом даже и «Маленькую Веру» (скандальную картину с первой в нашей стране интимной сценой). Перемены произошли и в магазинах города – с прилавков исчезли вкусные пирожные, те самые кукурузные хлопья, появились длинные очереди. Даже рынок, расположенный недалеко от бабушкиного дома, на котором мы раньше покупали овощи и рассаду, теперь оброс «челночниками». Люди с вещами в больших баулах выкладывали их на земле или наскоро собранном прилавке, образовывая плотные ряды из «шмоток»: «под иностранные», варёные джинсы, майки ярких цветов, слишком короткие юбки, как у «маленькой Веры»… Все внимательно слушали новости и обсуждали их между собой. Мои дворовые друзья исчезли – кто-то вырос, кто-то покинул родину. Во дворе больше не было беседки, не было общих чаепитий и игры дедов в домино, не было детского смеха и догонялок. Даже скамейка у входа в подъезд настолько обветшала, что никто на ней не садился… Верилось, что придет демократия и решит все проблемы. Эти музы Перестройки, демократия и гласность, порождали стремление отыскивать самое худшее, что было в нашем обществе. Из телевизионных новостей исчезли добрые дикторы и приятные новости, популярный тогда ведущий программы «600 секунд», лаконичный и неулыбающийся Невзоров, колдующий в эфире Кашпировский, – вот, что смотрели тогда на экране. Заросла и бабушкина дача, а в электричках больше не хвастались урожаем, разве что обсуждали политические события.
Гомель изменился до неузнаваемости: планетарий в парке отдали верующим, и он вновь стал собором. Жители города стали совершенно другими, меньше улыбались, и даже говорили всё чаще на чуждом говоре…
Я возвращалась в Москву под привычный стук колес, они не изменились и продолжали выстукивать гармоничное «тудых-тых-тых», я смотрела назад на исчезающие вокзал, рынок, городской сад, мост через реку Сож, и понимала, что Гомель моего детства исчез безвозвратно. Да и детство, увы, прошло.
Конец.
Путь к Сантьяго из Москвы. Женщина на отдыхе
«У Геркулесовых столбов
Лежит моя дорога…»
«Мира и горя мимо,
Мимо Мекки и Рима,
Идут по земле пилигримы»
День первый
В суете прошло лето, и при ближайшей возможности я решила отправиться в путь. Суетившаяся с детьми, крутящаяся между магазинами и плитой, я забывала смотреться в зеркало и набрала небось пяток лишних килограмм, свисающих теперь с живота. Итак, решено, я еду в Португалию и мой маршрут пройдёт мимо испанского Сантьяго де Компостела. Побросав в дорожную сумку пару смен белья, я добралась до аэропорта и погрузилась в самолёт. «Куда я лечу? Что мне не сидится дома?» Такие мысли преследуют всякий раз накануне вылета. В изнурительной борьбе с ними я пересекаю воздушное пространство над Европой и оказываюсь из подмораживаемой по ночам Москвы в цветущей, тёплой Португалии. Принимающая фирма отвезла нас сразу же в старинный городок Обидош. Бродя по узким улочкам, вдоль крепостных стен, мимо испускающих аромат ресторанов, я все ещё отчасти в Москве: сопоставляю цены, нахожу аналоги. Живот сводит голодный зверь, живущий там. Ничего, уморю его постепенно. И я заказываю суп с салатом в уютном ресторанчике. Вечером в гостинице смываю дорожную пыль, бросаю зверю несколько бутербродов из ближайшего супермаркета и заваливаюсь в постель. На сегодня достаточно. Серость обыденных дел, обволакившая меня в Москве, начинает обретать колорит. Сегодня это цветы везде, где я оказываюсь. Цветы в Обидоше, раскинувшиеся огромными кустами вдоль улиц, словно сиреневые и розовые облака. Цветы в парке напротив гостиницы: жёлтые и синие, устилающие красочным покрывалом вечерний город. А ещё картина в номере гостиницы: женщина в ярко-малиновом платье в окружении цветов. А ведь она где-то моего возраста…
День второй
Проснулась очень рано, поскольку московское время отстоит от местного на три часа. Солнце только просыпалось, и я пошла в парк. Пели птицы и испускали аромат цветы. Эвкалиптовая роща, кедры – этот целительный запах для меня всегда ассоциировался с самыми приятными поездками: Крым, Рим, Эллада. И вот теперь он вернул меня в настроение путешествий, впечатлений, радости. На завтрак в гостинице можно было взять салат из экзотических фруктов: дыня, ананас, персик, апельсин – все это были не травянистые, а очень вкусные представители своего вида. Видно, сегодня проснулись мои обоняние и вкус. Поездка в Алкобасу, старинный монастырь, где покоятся принц Педро со своей возлюбленной Иннес. Их история любви настолько пронизывает культуру Португалии, что португальцы называют своих любимых женщин «госпожа Инеш». Вот и тема для стихотворения, хоть ей уже пользовался Пушкин. В монастыре сохранилась «порта де фитнес» – дверь, через которую должен был пройти каждый монах после Пасхи. Если он пройти не мог (как Винни-пух), то ему назначался дополнительный пост. А вот это мне пригодится: пусть моей «портой де фитнес» станут узкие портки. В любом древнем церковном месте, где мы оказываемся, есть обход вокруг алтарной части храма, специально для паломников, идущих к святому Якову. Прохожу старательно каждый такой проход, ведь путь мой к Сантьяго и я в паломничестве, как тысячи средневековых верующих. Вечером полил дождь, и на небе нарисовалась радуга. Вся цветовая гамма предстала предо мной во всей красе. А Атлантика повеяла запахом ракушек и морских водорослей. Сегодня пробудилось моё обоняние. Вечером в номере гостиницы воспроизвожу в памяти историю Педро и Инеш. Влюбленный в фрейлину своей жены, он дождался возможности вступить в законный брак. Однако его отец решил иначе и на глазах детей велел зарубить Инеш. Как только Педро взошел на престол, он велел откопать останки Инеш и короновал ее посмертно. Ложусь на мягкую, с кружевными простынями кровать и воображаю себя возлюбленной средневекового рыцаря, прекрасной дамой. Чтобы даме стать прекрасной, окружите ее красотой и не засоряйте ее ум житейскими невзгодами, насилием и фальшью СМИ. Дарите ей цветы, ароматы, сладости, и она сама расцветет как прекрасная роза.
День третий
Просыпаюсь утром под стук дождя по стеклу. Фруктовый завтрак и морской бриз с ароматом водорослей и ракушек – и вкус и обоняние так же чутко во мне. Сегодня нас повезут в очередное малое паломничество на пути к Сантьяго: место явления креста под городом Брага – «Бом Жезю дю мондо» (добрый Иисус в горах). Под проливным дождём поднимаемся мы на фуникулере в гору (обычные паломники проходят 500 ступеней ногами), а потом спускаемся вниз по лестнице мимо барочных фонтанов. Вода льется из тел статуй в самых незаурядных местах: то через нос, то через уши или рот. Сначала меня пугает фантазия скульптора, но потом проникаюсь идеей – все человеческие чувства освящает водная стихия. И так же я в Португалии, одно за другим раскрываются мои чувства: я начинаю видеть, чувствовать запах и вкус… Во второй половине дня мы едем на дегустацию портвейна. Крепленое, винтажное вино кружит мою голову, и, не помню как, я добираюсь до кровати гостиницы и засыпаю. Проспала я около 12 часов и проснулась уже на следующий день.
День четвёртый
Наверно хроническое невысыпание не давало мне радоваться в Москве. Теперь радость возвращается и сопровождает меня повсюду. Сегодня у нас экскурсия по городу Порту, родине портвейна. Этот напиток, обязательно смешенный с бренди, имеет естественную сладость, образуемую в процессе остановленного брожения. После смешения напиток помещают в деревянные бочки, где он хранится, набирая аромат. Чем старше вино, тем меньше в нем терпкого виноградного вкуса, оно гуще, медвянее и ароматней. Винтажное вино хранится по многу лет. В погребах было вино года моего рождения, вино начала 20 века и старше. Со временем вино обретает только преимущество: становится проникновеннее, изысканней, глубже. Размышления о портвейне переводят меня к жизни. Мы часто стремимся поймать за хвост ускользающую молодость. Особенно женщины, но и мужчины, примолаживаются посредством молодёжной одежды, клеше поведения или даже пластических операций. Но ведь чем дольше живёт человек, тем более благородным напитком он становится. Как хорошо ценить это. «Не вливают вина нового в мехи ветхие…", – вспоминаю евангельские слова. Понимание этого делает человека довольным тем, что он есть, и избавляет от необходимости лезть вон из кожи. С этого дня я хожу по Порту, с достоинством неся голову на плечах, изучаю окружающую действительность, впитываю ее, но не поглощаюсь ей. Прогулка на кораблике по реке Дауро, мимо многочисленных мостов Порту вплоть до места впадения реки в Атлантический океан. Где-то здесь греки считали, что находится край земли, Геркулесовы столбы. Вечером иду на концерт фадо, ностальгического португальского романса, исполняемого всегда в дуэте с португальской гитарой. Грусть и заунывная мелодичность фадо – это дух Португалии. Пожалуй, он очень сродни мне. «Почему Португалия?» – спрашивали многие, да и я сама, когда собиралась в путь. Вместе с фадо поёт и моя душа, и найдутся созвучные аккорды для моих песен. Да, наконец и мне есть о чем спеть. Вечером, оставшись в номере, мурлычу экспромты, в которых что-то от фадо, что-то от меня.
День пятый
Итак, сегодня наконец мы пересечем границу с Испанией и доберемся до Сантьяго де Компостела. В средневековой Европе существовало несколько путей паломничества к Сантьяго, святому Якову апостолу. Люди собирались в группы, чтоб не идти в одиночку. И вереницы верующих шли из Англии, Франции, Германии, шли сотни километров, чтобы испросить у святого Якова указания направления в жизненном пути. И мне крайне необходимо такое же указание. А от Сантьяго де Компостела по всему миру разнесли ракушки, характерный символ святого места. Их находят в Греции, Крыму, на Ближнем Востоке и во всех европейских городах. Замечательно дух паломничества передан в английском средневековом произведении «Кентерберийские рассказы». Что заставляло миллионы людей по всему миру оставить дом, семью, хозяйство и через невзгоды, опасности, разбойников, войны и эпидемии двигаться к святому месту, минуя тысячи километров? Пожалуй, без таких мест и трудностей жизнь превратилась бы в ежедневную рутину без просвета и перемены. И мне, как средневековым пилигримам, жизненно необходимы такие святые места…
Итак, на автобусе минуем чисто номинальную границу. Если б две страны не разделяла река, то я б и не заметила, что мы уже в Испании. И ещё телефон самопроизвольно переключился на час вперёд от португальского времени. Подъезжаем к Сантьяго и видим то там, то тут вдоль дорог идут люди с рюкзаком за спиной, многие с посохами. Идут вереницами и врозь. Но не смотря на труд, глаза их переполняет радость от приближения конца пути. И мой, хоть не пеший путь подходит к завершению. У главного собора, на площади начинается проливной ливень, который загоняет нас внутрь. Узкая лесенка, просто фитнес-проход какой-то, ведёт вниз, где покоятся мощи святого Якова. Попали они туда странным и мистическим образом, но место обошли такие сонмы паломников, столько молитв и обетов было обращено к святому на протяжении веков, что любого скептика это место не оставит равнодушным. И я обращаюсь к святому Якову от всего сердца: как бы ни сложилась моя жизнь, пусть не станет она унылой и серой. Пусть остаются всегда такие места, которые способны показать радугу красок, букет ароматов, гармонию звуков, и я, воодушевленная ими, смогу и сама создавать мотивирующие, прекрасные вещи, произносить нужные слова, петь от всего сердца и запечатлеть в красках великолепие. Выхожу из собора, как снявшая тяжёлую ношу, выхожу налегке. И брожу по вымытым дождём, залитым солнцем улицам, скупая миндальные пироги, ракушки и другие атрибуты святого места. В одном переулке стоит очередь из паломников: молодые француженки, пожилая чета англичан, испанцы и немцы получают сертификат о прохождении путём святого Якова. Подтверждением этому служат их паспорта паломников, где отмечены все остановки на их пути. Ставшие в путешествии выносливее, нашедшие новых друзей, увидавшие множество изумительных мест, они вызывают восхищение и некоторую зависть. «Глаза и полны заката, сердца их полны рассвета,» – лучше и не скажешь…
Мой путь завершен. И сколько таких мест по всей земле мне удалось посетить: Иерусалим (гроб Господень), Синай (Екатерина), Рим (Петр и Павел), Бари (Николай), Венеция (Марк), Грузия (Нина), Корфу (Спиридон), теперь ещё и Сантьяго де Кампостела, а так же множество других святых через века мест: Константинополь, Каппадокию, Соловки, Киев, Патмос, Кипр, Херсонес… Пусть каждое такое место несёт людям тепло до конца мира. Пусть память о таких местах помогает в минуты малодушия. И пусть каждому человеку найдётся уголок, в котором он сможет отстраниться от суеты и обрести гармонию небесного и земного.
Я лечу обратно в промерзающую по ночам Москву, но чувства мои полны жизни, и душа кипит энергией. Надеюсь, этого путешествия хватит мне, как зарядки, чтоб прожить в суматохе дел ещё один год.
Искушение унией
А было это в Риме, знойной июльской порой, в 2005 год от рождества Христова. Собрала нас община святого Эгидио, расположенная в древнем районе города, за Тибром. И собралось нас 20 человек со всего православного мира, не как представители церквей, а просто молодые люди, свидетели своей православной культуры и всего происходящего. И на суд нам дела дружной католической общины и искусительной предложение признать все происходящее как знамение времени и поддаться соблазну унии.
Община святого Эгидио
Это действительно необычная община. В лоне своей католической церкви она стремится возродить христианскую жизнь. Обновить и облагородить ее нашей родной православной традицией. Так, во время службы вы, к удивлению своему, обнаружите русские мотивы песнопений, подойдя к алтарю, найдете на аналоях наши православные иконы. И это, конечно, не может не броситься в глаза среди барочного блеска Рима, в окружении зычной органной музыки. Но, кроме этого, вызывающего подозрение, восточного колорита, действительно церковная жизнь общины святого Эгидио испытывает духовный подъем: на службах народ переполняет огромную базилику Санта Мариа в Трастевере; у всех присутствующих в руках книги, вместе поют избранные псалмы. Сам строй службы претерпел изменение в этих стенах: священники произносят харизматические молитвы, вставляя прошения о повседневных нуждах.
Но главное обновление духовной жизни в общине святого Эгидио произошло вне стен церкви: община уже десятилетия подвизается в служении нищим.
Служение
Движение общины святого Эгидио возникло как молодежное. Молодые верующие свой юношеский энтузиазм обратили на служение нуждающимся. Община создала собственный дом для престарелых, где постоянно дежурят ее представители. В одном из зданий района Трастевере устроена столовая для бездомных, где два раза в неделю можно совершенно безвозмездно получить полноценный обед. Периодически члены общины появляются на вокзалах и других местах скопления бездомных и раздают им еду. А наш приезд в Рим совпал с проводимым общиной фестивалем, который каждый вечер веселил народ на площади перед базиликой.



