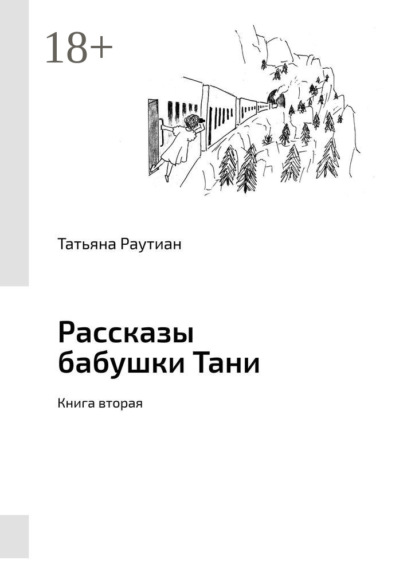
Полная версия:
Рассказы бабушки Тани. Книга вторая
В это время многие терялись, не знали, что делать, рвались «домой, в Питер». Но мама точно знала, что делать. Ведь она помнила Гражданскую войну. Это же «недавно» было – всего лет двадцать назад. Она тогда приняла ответственность за младших братьев-сестер, за всю семью. И сейчас она знала, что главное – это запастись продуктами, что с каждым днем будет труднее. И организовала заготовку. Мы покупали на базаре ливер (легкие, печенку, сердце), варили, проворачивали через мясорубку, добавляли бульон и замораживали. Холодильников тогда вообще не было, но морозы в Кирове наступили очень скоро.
Однажды мама обнаружила в хозяйственном магазине кедровое масло, очищенное. В хозяйственном? Да! Оно предназначалось художникам, для разведения красок. Мама купила бутылочку, мы распробовали – вполне съедобно. И скупила в этом магазине весь их запас. Не так уж и много: 92 бутылочки.
Запах хлеба
В Кирове школьные здания были заняты госпиталями – сюда привозили раненых. А классы размещали в самых разных помещениях. Юра учился в фойе кинотеатра. Мой восьмой класс был в помещении мастерской по починке обуви. Места там было мало, поэтому занятия проходили в четыре смены. Моя смена была четвертая: с семи вечера до двенадцати ночи.
Возвращаюсь из школы. Ночь, звезды, мороз. Снег скрипит под ногами, громко, просто на весь город. Иду через базарную площадь. Днем там народ, а ночью – никого, тишина. И вдруг – запах горячего хлеба, просто оглушающий запах. Для голодного желудка непереносимо вкусный. Откуда? Догоняет меня санная повозка. Лошадь везет большие сани, на них – громадный ящик с хлебом. Везут его в магазин, утром продавать будут. Но этот запах! И у меня в голове как будто сон: я «вижу», как я догоняю сани, открываю дверцу этого ящика и хватаю две – только две! – буханки… Но, конечно, это только мечта, только сон наяву. Никуда я не бегу, не догоняю этот горячий хлеб. Не могу же я его украсть. Но могу же я помечтать…
Восьмой класс
Анатомию прочитала за пару дней в начале года – а что там учить, там и так все ясно. Это вам не математика и не язык. Анатомия и физиология дополнялись медицинскими упражнениями. Как делать перевязки. Как переносить раненых. Что-то было и про сельское хозяйство. Знали бы мы, что придется в поле работать, – кое-что постарались бы выучить получше.
Мы очень дружно не хотели учить немецкий: «Вражеский язык, мы его ненавидим!» Это, конечно, чистой воды спекуляция. Если есть шанс чего-то не учить – как упустить такую возможность!
«Выковырянные»
Уже возникло и прижилось это слово. О великий и могучий! Если он переиначит умное заграничное слово вроде «эвакуированные», которого не произнести русскому человеку, – получается в точку. Конечно, мы и есть выковырянные из родных мест.
Оказалось, что существует два главных типа людей: «выковырянные» и местные. Вот, например, в школе нам давали не горячие завтраки, конечно, а по две маленькие серые кругленькие булочки, граммов по сто каждая. Без карточек! Для «выковырянных» это дополнительный паек. А местные стали кидаться этими булочками, как, бывало, в пионерском лагере – подушками. Просто так. Для смеха. Не по злобе. Они же не догадывались, что наши голодные глаза смотрят на булочки – дополнительные! без карточек! – которые падают на пол…
Еда – это не просто так. Это жизнь. А мамины гигиенические правила гласят: «Что на пол упало – то пропало». Да и без того – мы ведь не можем поднять то, что сосед по парте бросил на пол. Мы молча смотрим. Мы унижены.
А я еще помню свой сырок с томатом, который вот так же бросила. Даже не на пол, а вообще.
Мама уезжает
Ну вот, все вместе, Володенька спасен, продуктами хоть и не очень, но запаслись.
Но ведь взрослые всегда работают. Как же иначе! А что моим папе с мамой делать в Кирове? Они уехали сюда со своим институтом, Главной палатой мер и весов. В Питере все было понятно – они в этой палате занимались созданием стекольных и цветовых стандартов. А тут, в Кирове, это проверка гирь в магазинах.
Делать было нечего. А мама не в состоянии сидеть и ничего не делать. Ведь война и надо помогать фронту! И мама пишет разным влиятельным людям. Наконец – ответ. Мама объявляет свое решение: «Я еду в Пёстровку. Это в Пензенской области. Там завод оптического стекла. Пока поеду одна, а когда устроюсь – заберу вас. А папа пока останется с вами».
И напомнила мне: «Если я помру, Володенька – твой сын».
Библиотека имени Герцена
И мы остались в Кирове. Раньше город назывался Вятка. А переименовали его в 1934 году, после убийства Кирова. Так он и называется до сих пор.
Жили мы на Милицейской улице, дом 50. Это деревянный двухэтажный дом. Дров нет почти. Дома было холодно, и я уходила в городскую библиотеку. Это замечательное большое здание. Одним из основателей этой библиотеки был Герцен. Он жил в Вятке в ссылке. Служил в канцелярии губернатора. А позже в Вятку сослали Салтыкова-Щедрина. И он даже был правителем губернаторской канцелярии. Но я тогда знать не знала и ведать не ведала, что во время войны, одновременно со мной, в Кирове был один мальчик, эвакуированный из Питера, – Талик Халтурин. И что когда-нибудь мы оба вернемся в Питер, поступим в университет, познакомимся, поженимся и уедем вместе в Гарм…
Тогда я знала только про Герцена и Салтыкова-Щедрина. И решила, что мне надо прочитать книги классиков, имена которых я слышала, но у нас дома в Ленинграде их книг не было. Прочитала всего Тургенева, Лермонтова, Некрасова, Гончарова. Сейчас не помню имен героев и сюжетов – но кажется, что представляю себе это время, середину 19-го века… Вижу этих людей, как они ходят, как общаются, как говорят. Не так, как мы, и даже не так, как взрослые. Оказалось, что Лермонтов – это совсем другой мир, чем Тургенев-Гончаров. Обломова я не поняла. Что это за человек?! Ничего не хочет делать! Это невозможно представить. Так и лежать на диване целый день? Или всю жизнь? Байрона я попробовала – и не одолела. Очень понравился Лессинг. Почему-то никогда потом мне не попадалось это имя – Лессинг.
А еще прочитала пьесу Шекспира «Венецианский купец». О ростовщике, который давал взаймы деньги. А тот, кто взял, подписал обязательство, что отдаст. И если не сможет отдать деньги, то отдаст фунт собственного мяса. Оба, конечно, надеялись, что до мяса – ха-ха! – дело не дойдет. Но – дошло. Не помню, чем дело кончилось. Это было уже неважно. Наверно, сказка о попе и Балде – о том же. Но в «Балде» все как-то по-сказочному весело и не всерьез. А фунт мяса – это как? Твое тело, кусок тебя – превращается в какое-то постороннее тебе «мясо»? Какой-то бесконечный средневековый мрак… И нет выхода. Нет выхода. Нет! Обещал – отдай.
В библиотеке занимались курсанты Военно-морской медицинской академии. Помню, они всегда брали огромные альбомы с нарисованными органами тела. В том числе – с неприличными органами. Это все были молодые красивые мальчики. Что делать – эти органы, наверно, тоже как-то болеют. Но это ужасно неприлично.
В городе говорили, что курсанты получают хороший паек: 25 граммов сливочного масла! У нас сливочного масла не было. Но им надо – ведь они окончат свою академию и пойдут на фронт. Им нужны силы. Там врачи работают день и ночь…
Ножки мои, ножки
В городе стали давать без карточек суп с галушками и костный бульон. Но надо в очереди постоять, часа два. А зима была жутко морозная. И вот ножки мои простудились. Не заморозились, а простудились – распухли, воспалились, болят, ходить не могут. И папа меня, такую большую, взрослую, тяжелую – пятнадцать лет! – на саночках стал возить в больницу, куда-то на горку. Там меня грели по-всякому – горячей лампой, горячей ванной. И постепенно все прошло. Но оказалось, что не совсем. Потому что силы в моих ногах никогда уже не было. Не только теперь, когда мне девяносто с хвостиком, а и тогда, когда была я молоденькая, от двадцати до семидесяти.
Черемша
Но вот и весна наступила. Оказалось, что за Вяткой-рекой, в лугах, есть черемша – дикий чеснок. Он очень рано выпускает свои жесткие перья, похожие на зеленый лук. И девочки старшие, Алена-Ксана, стали ходить за реку лук собирать. Алена продавала его на базаре и даже накопила денег на буханку хлеба!
Вверх по Вятке-реке
Кончился учебный год. Всех учеников начиная с пятого класса направляют в колхозы. Мы едем каждый со своим классом. Мы – это я и Серега. Юра болел и не мог поехать. Погрузили нас на баржу. Тянет нас буксирчик по Вятке-реке. Вниз по карте, вверх против течения. А навстречу нам – другие буксиры тянут другие баржи, вверх по карте, вниз по течению. Там – люди. Говорят – это беженцы из Сталинграда. А мы и не знали, что фронт дошел до Сталинграда… Это же так далеко…
Проезжаем город Советск. Потом Уржум. Это знакомый город. Мама и ее братья-сестры жили там в голодное время, в 1918—1919 годы. А еще мы читали книжку про детство Кирова – он родом из Уржума.
Деревня Муша
Высаживаемся и едем куда-то вглубь. В глушь. Мы будем жить в деревне Муша́, с французским таким ударением. В Муше́. Кормить нас будет колхоз, хлеба в день по буханке на человека. Буханка – круглая такая, деревенской выпечки. Примерно килограмм. Что еще мы ели – не помню. Разве что ягоды, рябину. Никакой столовой не было. Хлеб только помню. Наверно, больше и не было ничего.
Самое трудное – это разделить свой круглый хлебец на три части, а не съесть сразу. Получаем его утром, еще теплый. И целый день носим с собой. Ведь иногда могут среди дня послать куда-нибудь на другую работу. Иногда не выдерживала: откусывала, отщипывала, и он как-то к «обеду» уже исчезал.
Лен теребить
Это была наша первая работа. Мы не знали, что это значит – теребить. Оказывается, лен надо не срезать, как рожь, а выдергивать. Он легко выдергивается, но стебли такие жесткие, что пальцы разрезать ничего не стоит. Самое трудное, что работаешь внаклонку. Брать пучок надо у самой земли. Мы не привыкли. Через полчаса спину уже не разогнуть.
Бригадирша отмерила каждому делянку – норму за день. Говорит: «Я вам пока половинную отмерила. Как применитесь – полную задам».
Потом рожь жали, серпом. Девочки боялись cерпа. В школе мы учили стихотворение Некрасова, там «баба порезала ноженьку голую, некогда кровь унимать». А здесь бабы так ловко управлялись серпом, что им порезаться никак невозможно. Какая-то неумеха Некрасову попалась.
Я тоже серпа не боялась. Потому что в школе на уроках, когда скучно было, вырезала узор на карандашах опасной бритвой. Хоть и называется «опасная», но это только для тех, кто не умеет.
С нами, со школьниками, была незнакомая учительница. Молодая, маленькая, тощенькая, неумелая. На все работы она тоже ходила, но получалось у нее хуже всех. Было ее очень жалко, как больного ребенка.
Стопудовый урожай
Рожь стояла высокая, густая, зеленая еще. «Точно сказать нельзя, но сто пудов будет», – говорит бригадирша. Сто пудов с гектара. Сто пудов – это полторы тонны примерно, 1600 килограммов. А в гектаре десять тысяч квадратных метров. Вот прикидываем, сколько зерна в квадратном метре, сколько поклонов с серпом, чтоб получилась буханочка. Теплая, вкусная, ничего нет вкуснее, и хочется съесть ее сразу.
Бригадирша ходила. Сорвет колосок, посмотрит, пожует – нет, не готова еще. «Молочная». За несколько дней рожь пожелтела вся. Вот и готова. Нам снова дают урок. Показывают, как жать, как снопы вязать, как копны ставить, чтоб не осыпались, чтоб от дождя не промокли. Смотрим. Слушаем. Стараемся. Древняя технология, бережная. Зерно не осыпается, и солома не мнется. Ведь солома – это еще и новая крыша. Мятая не годится. Это не так, как комбайны работают, – те и солому ломают, и в поле керосином воняют…
Молотилка и рябина
И молотить пришлось. На бугорке – четыре столба и крыша. Под ней – молотилка и веялка. Кто ручку крутит, кто снопы распутывает и в молотилку сует. Молотилка – самая опасная женская работа. Если волосы, или платок, или что-то еще в нее попадет, то может всю туда затянуть. А там, внутри, – мясорубка.
Рядом с этой молотилкой – дерево, рябина. Ягоды крупные, розоватые. Горькие, конечно, но не очень. Есть можно. Едим и домой прихватываем.
Очень вкусно!
Деревенские мужчины
Мужиков настоящих в деревне совсем не осталось. Или старики, или дети. Подростки, которым по пятнадцать, – парни уже считаются. За нами, городскими, ухаживают. Угощенье вечерами в окно бросают: семечки, турнепс. Турнепс – это кормовая культура. Для скота. На вкус – редиска, по форме – морковка, по весу – килограмм, а то и два. Вкусно до невозможности. Сочная и не такая горькая, как редиска.
Ухажеры частушки нам поют. Неприличные до смеха. Помню их, но не решаюсь написать.
Одного «мужчину» я забыть не могу. Он еще и не парень даже, ему двенадцать лет, а на вид – десять. Отец убит на фронте, мать инвалидка, работать не может, младше него еще трое. Он их кормилец. Всю мужскую работу работает – и с лошадьми, и все остальное. Красоты – ангельской. Есть картина «Портрет сына» у художника Тропинина (который сам был крепостной). Такой же нежной красоты мальчик. Да и просто похож. Но у того был отец. А этот наш – сам кормилец. В деревне его уважают и величают по отчеству. Самостоятельный. Мужик. Кроме него некому семью тянуть. У многих и такого нет.
Баретки
Лето короткое. Сентябрь к концу подходит, а полевые работы еще не кончились. В Ленинграде нам велели брать с собой сандалии. Но я взяла то, что было, – баретки. Кто теперь знает, что это такое? Это по форме мужские полуботинки, но не из кожи, а из брезента, точнее, из тряпки, отдаленно похожей на брезент. И как-то незаметно оказалось, что брезент этот рвется, пальцы лезут наружу. Надо бы поберечь обувку – домой-то в октябре. Начинаю беречь в сентябре, когда уже и беречь-то там почти нечего. Хожу босиком. По стерне.
Знаете, что это? А это засохшие жесткие острые палочки, которые остались от сжатой ржи или того хуже – от клевера. Они торчат и ногу протыкают запросто. Ходить приходится как на лыжах, чтоб не наступать сверху на «гвозди» эти, а сгибать их.
Сентябрь. Вятская земля – еще не Сибирь, конечно, но с утра уже иней. Вот и бежишь по колючкам, по инею, босиком, бережешь драные баретки.
Вниз по Вятке-реке
Конец лету. Перелистываем наши трудовые книжки, подсчитываем заработанные трудодни. В моей книжечке написано, что с 25 июня до 30 июля заработала я 21,4 трудодня. А с 1 августа до 15 сентября есть записи за каждый день. Например: 2 августа, уборка льна, 0,5 трудодня. А 11 августа, тот же лен, – уже 2 трудодня! Научилась! В конце – итог: за все 80 дней, минус пять выходных, заработала 79,25 трудодня.
Сколько получим на них, чего и когда – неизвестно. Председатель говорит: «Не беспокойтесь, вы все свое получите. Адреса ваши я записал. Сколько на трудодень – узнаем, когда рассчитаемся с государством».
Домой! На подводах к Вятке-реке, потом опять на баржу с буксиром. Вниз по течению, вверх по карте до Котельнича. Однако холодно, сентябрь к концу. Баржа «не отапливается». От Котельнича до Кирова – поездом.
Дали нам товарный вагон. Прицепили к какому-то поезду. Едем. Ночь. Вообще-то название этих вагонов – «теплушка» – вроде бы намекает на какое-то отопление. Но его нет, конечно. Сидим кучкой, «греем» друг дружку. Подремываем. Опять остановка. Где мы? Темень. Что-то очень уж долго стоим…
Открываем дверь. Мокрый снег валит, вагон наш никуда не прицеплен. Ничего себе положеньице! Теребим бедную нашу учительницу. Хотела она как-нибудь отбиться, подождать до утра. Но мы уже не можем. Дом-то близко. Пошла она искать кого-нибудь. Нашла. Прицепили. Еще постояли. Поехали.
Вот и Киров. Пять утра. Мокрый снег лежит, сантиметров двадцать. Пальчики мои с любопытством из бареток выглядывают. Большой – в свою дырку, мизинчик – в свою. Выпрыгиваю – плюх! – снег пополам с водой. Иду домой, Милицейская, 50. Надо сказать, что ноги мои натренировались по холоду. Горячие – или это опять воспаление какое-нибудь?
Вот и наш дом. Папа открывает дверь:
– Бедная моя девочка, давай скорее я твои ножки погрею!
– Что ты, папа, все в порядке. Они горячие, смотри.
Папа один дома. Все уже уехали с мамой в новое место: Завод Сарс. Мы тоже поедем. Вот только дождемся Сережу.
Военный завод
(1942—1944, Сарс)
Сарс
Завод Сарс – это название не завода, а поселка. Завод назывался №542 НКВ, то есть наркомата вооружения. Тогда этих «буржуйских» министерств еще не было, а были революционные народные комиссариаты. Завод варил стекло для биноклей, танковых призм и так далее. До войны это тоже был стекольный завод. Они бутылки делали. Тогда он и назывался Завод Сарс. Находится поселок на реке Сарс, около Красноуфимска, в Щучье-Озерском районе.

Все фотографии Сарса сделал Николай Сулима, мамин коллега
Поселок состоит из самого завода и деревянных жилых домов. Было и несколько двухэтажных, тоже деревянных. Мы жили в одной из этих двухэтажек. Комната и кухня с русской печкой и полатями. А народу нас – одиннадцать душ. Папа, мама, восемь детей и не «грузовик», а няня баба Дуня. Спали на печке, на полатях, на полу, на столе, под столом. Как-то помещались.
Меновая торговля
В школу мы пошли во вторую четверть, потому что приехало наше семейство в Сарс осенью. У всех, кто был тут и летом, была уже своя картошка-морковь-капуста. А у нас – ничего. Поэтому заводское начальство разрешало нам брать лошадь, чтобы ездить в деревню и там менять что-нибудь на еду.
Сначала мы меняли «лишнюю» одежду. Например, если у тебя три рубашки, то можно одну и сменять. Если только две – отдать одну из них труднее, потому что, пока вторую стираешь и она сохнет, в чем-то надо ходить.
Потом лишние одежки кончились. И тогда завод дал нам товар для обмена: спирт и соль. На заводе соль была сырьем для варки стекла, лежала в мешках и измерялась сотнями килограммов. А в деревнях и деревенских магазинах соли не было совсем. Ну один раз можно не посолить, второй. А когда соли нет совсем – это очень плохо. Местные колхозники выменивали соль на масло, баш на баш. Очень было стыдно так менять – а что делать?
Спирт мы разводили водой, чтоб получилось 40 градусов. Оказалось, что если смешать 500 кубиков воды и 500 кубиков спирта – то смеси получается вовсе не 1000! А всего лишь, не помню точно, ну например 950. Скажешь – вот еще новости! Как это может быть? А очень просто. Это то же самое, что мама мне объясняла про свою работу еще в Изюме. У воды и у спирта молекулы разные по размеру. Маленькие молекулы воды просовываются в свободное пространство между большими молекулами спирта.
Потом надо было сделать так, чтоб наша самодельная водка выглядела как настоящая, магазинная. Ну этикеток взять было негде – а горлышко мы заливали сургучом и прижимали пятачком – той стороной, где герб.
Как-то все это нехорошо, какой-то обман… Но приходится так делать, хоть и чувствуешь, что нехорошо. Дважды нехорошо. Второй раз потому, что понимаешь, а все равно делаешь.
Монгольские кони
Как вы понимаете, все грузовики были взяты в армию. А возить-то надо. Дрова к печам, сырье с железной дороги, готовую продукцию – на железную дорогу, да мало ли что еще. Взамен грузовиков дали заводу табун монгольских лошадей. Пригнали своим ходом. Маленькие, злые, совершено дикие лошадки. Они раньше паслись на воле в табунах под водительством главного жеребца. Чуть что не по ним – визжат и кусаются. Они не то что телеги никогда не возили – а и уздечки не знали. Впрочем, знаете ли вы, что такое уздечка?
Нашлись на заводе умельцы, которые объяснили коням, что работать надо, иначе никак. Кони смирились, но точно знали свой рабочий день, восемь часов. И ни минутой дольше работать не хотели.
С конями непросто. Вот, помню, дали нам с Сережей лошадь, запряженную в сани. Зима, мороз, ночь, тьма. Нагрузили товар («лишние» одежки), покидали мешки для картошки. Поехали. Выезжаем на дорогу. В деревню ехать – надо свернуть налево, а на конюшню – направо. И вот коняга наша в своем праведном гневе за неурочную работу закусила удила и – направо, на конюшню, вскачь. Санки на повороте отцепились, мы вылетели вместе с ними в сугроб, а лошадка с передком – что есть силы, галопом, домой. Пришлось самим эти сани на конюшню тащить. Недалеко, километр всего. Никуда уже не поехали.
Были и другие приключения. Как-то раз мы с Сережей благополучно доехали до деревни, наменяли картошки несколько мешков, возвращаемся. А ночь, а метель! Все замело, заровняло. Дороги не видно. Мы понадеялись, что лошадь дорогу знает, – а она тоже сбилась с пути. Может быть, направление она выбрала правильное, а уж дорогу увидеть под снегом – этого и лошадь не может. Едем по каким-то буграм и ухабам. Сани наклонились, и мешки наши вывалились. Пришлось перепрягать, снова мешки на сани взваливать – а они не легонькие, надо сказать. А мы, как и лошадь, тоже после рабочего дня. Прознали бы про нас волки – нам бы не убежать. Но обошлось.

Работа
Варка стекла шла круглосуточно, поэтому работали в две смены. Рабочий день тогда был одиннадцать часов плюс час на обед. Это для простых рабочих. А у итээров, то есть инженерно-технических работников, рабочий день ненормированный. Их же мало, они не могут разделиться на две смены. А работу надо обеспечивать и днем, и ночью. И они работали поэтому как бы в обе смены. Из Москвы могли среди ночи позвонить на завод: «Где начальник цеха? Позовите!» Где он должен быть? Ясное дело – дома. Спит.
Завод – военный, поэтому те, кто работал, получали хлеба 800 граммов. На обычных заводах давали 600, детям до двенадцати лет – 400. А те, кто не работал, старики и подростки старше двенадцати, назывались «иждивенцы» и получали 250 граммов. Это так мало, что дети бросали школу и шли работать. На заводе работало 50—60 детей старше двенадцати лет. Мама обратилась в дирекцию: «Бросают школу! Этого нельзя допустить! Ведь тогда рухнет будущее целого поколения!» И она добилась, чтобы дети работали не одиннадцать часов, как взрослые, а шесть. И ходили бы в школу. У школьников рабочий день начинался не в восемь утра, как у всех, а в семь. Обед у взрослых был с двенадцати до часу. А дети работали до часу, потом обед, и в два часа дня начинались уроки в школе.
Юра приехал в Сарс раньше нас с Серегой и уже работал пирометристом. Папа сказал, что это по-гречески «измеритель огня».
Сергей стал работать в столярной мастерской. Там делали ящики для готовой продукции. А готовая продукция – это результат работы всего завода. Если в дороге ящик сломается, то все насмарку. Ведь уже известно, куда пойдет это стекло. Например, на бинокли, которые делает оптико-механический завод. И представьте, сами бинокли изготовили – а стекло не доехало. Потому что разбилось в дороге. Потому что ящик оказался непрочным.
Правильный ящик для такого тяжелого и дорогого продукта, как оптическое стекло, сделать непросто. Сергей очень любил что-нибудь делать, и делать хорошо. Очень гордился этим. И учитель его, когда-то хороший столяр, а теперь однорукий инвалид, научил его делать ящик специальной, очень сложной и прочной конструкции. И заодно научил мебельному делу. В результате появился у нас дома стенной шкафчик Сережиной работы. Под орех, с филенкой, лакированный, все как надо.
Нужно и мне оформляться на работу. Пришла я в отдел кадров. Говорят – лаборантом. Забоялась ужасно. Лаборантом? Это же надо много чего уметь. Мне скажут – делай, ты же лаборант. А я не умею, стыдно: «Нет, я не могу лаборантом, а можно – учеником лаборанта?» Уперлась – ни за что лаборантом.
Ну ладно. Оформили учеником на месяц. И я весь этот месяц училась считать на логарифмической линейке, на арифмометре «Феликс», измерять поглощение в стекле прибором Дёмкиной. Прибор Дёмкиной? Мамы! Ничего себе! Я и не знала. Научилась вычислять параметры на огромной сложной гистограмме. Она настолько обветшала – пришлось ее заново начертить. Вот это тоже мне поручили. И потом, через много лет, я сама в своей работе всегда использовала графические способы расчетов.
Потом и Алена стала работать, учетчицей. Младшие, Кира и Млада, в детсад ходили. Но и они работали. Когда ближе к весне картошка кончилась, мы перешли на суп из крапивы. И это они, малыши, Кира и Млада, под водительством Ксаны, обмотав ручки тряпками, отправлялись на сбор крапивы.



