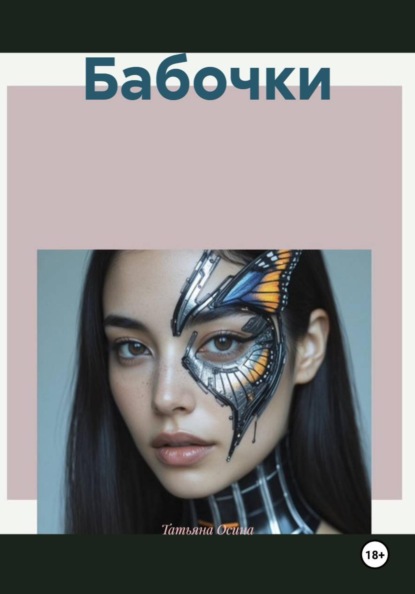
Полная версия:
Бабочки

Татьяна Осина
Бабочки
Глава 1
Маша держала чашку двумя руками, хотя капучино давно остыл и пенка осела тонким кольцом. Ей нравилось это кафе за одну вещь: здесь всегда было чуть шумнее, чем нужно, и этот шум закрывал паузы. Паузы – самое опасное. В паузах слышно, как внутри щёлкает невидимый замок: «решено».
За окном тянуло сырым декабрём, и стекло то и дело покрывалось дымкой, будто город выдыхал прямо в витрину. Маше казалось, что в эту дымку можно спрятать лицо – на минуту, на две – и никто не спросит, куда она исчезла.
– Ты опять смотришь в окно, как будто там сценарий твоей жизни написан, – сказала Лена и сдвинула к Маше тарелку с чизкейком. – Ешь. У тебя, когда ты нервничаешь, сразу вид «я питаюсь воздухом и работой».
– Я не нервничаю, – ответила Маша.
Ира оторвалась от телефона. У неё была привычка проверять экран каждые десять секунд, как будто время могло куда-то сбежать.
– Маш, мы вообще отмечаем что-то? – спросила она. – Ты нас собрала, сидишь, молчишь… У тебя новости?
Маша улыбнулась. Улыбка получилась ровной и очень правильной – такой, как на собеседовании, когда надо показать, что всё под контролем. Хотя внутри ничего не было под контролем; внутри шла тихая, почти официальная перекладка документов из одной папки в другую.
– Скоро всё поменяется, – сказала она.
Лена фыркнула:
– О. Это как «с понедельника начинаю новую жизнь»?
– Нет, – Маша покачала головой. – Не так.
– Тогда как? – Ира подняла взгляд, теперь уже внимательнее. – Что «поменяется»?
Маша хотела сказать правду. Или хотя бы её мягкую, пригодную для друзей версию. Но слова упёрлись в горло – не потому что было страшно, а потому что правда в этот момент казалась чем-то лишним, чем-то слишком личным, как медицинская справка на общем столе.
Она выдохнула:
– Просто… у меня будет другая работа. Может быть. И, возможно… другой город.
– Рязань? – Лена произнесла это слово с таким выражением, будто Маша сказала «Марс».
Маша моргнула. Слишком быстро, слишком резко. Это было похоже на сбой.
– С чего ты взяла?
– Да ты сама пару недель назад говорила, что тебя зовут «в регион», – Лена пожала плечами. – Плюс ты сегодня какая-то… собранная.
Маша опустила взгляд на свои руки. На безымянном пальце не было кольца, и она поймала себя на мысли, что именно отсутствие кольца иногда кажется людям самым громким фактом о ней. Одинокая. Без детей. «Свободная». Как будто это товарная категория.
Телефон завибрировал на столе, почти бесшумно, но в Машином теле что-то сжалось, как от резкого света. Экран показал неизвестный номер – только цифры, без имени, без аватарки, без контекста. Маша уже знала: если не ответит сейчас, дальше будет сложнее. Не опаснее – сложнее.
Она поднялась.
– Сейчас, – сказала она и улыбнулась подругам так, будто выходит просто помыть руки.
У окна было холоднее. Маша взяла трубку.
– Да.
Пауза. В трубке был кто-то, кто не тратил время на приветствия. Это был голос, который привык, что ему открывают двери.
– Да, я отпросилась, – повторила Маша. – Да… сегодня. Конечно.
Ещё одна пауза. Её просили подтвердить, что она понимает условия. Как в договоре: «ознакомлена, согласна».
– Я буду, – сказала Маша. – Вовремя. Да.
Она убрала телефон в карман и вернулась к столу.
– Кто это? – Лена уже смотрела на неё пристально.
– Работа, – ответила Маша. – Срочно.
– В восемь вечера? – Ира прищурилась. – Маш, ты уверена, что это «работа»?
– Уверена, – сказала Маша слишком быстро. – Мне надо ехать.
Лена наклонилась вперёд:
– Ты одна поедешь?
Маша на секунду задумалась. «Одна» – это не просто обстоятельство, это способ существования, который становится привычкой. Она умела быть одна: ходить в кино, заказывать еду на одного, смеяться над мемами без свидетеля. Но сегодня слово «одна» звучало иначе – как техническая характеристика предмета: «без защиты».
– Да, – сказала она. – Там… встреча.
– С мужчиной? – Лена сказала это не насмешливо, а осторожно, как будто проверяет температуру.
Маша снова улыбнулась – правильной улыбкой:
– С людьми.
Ира подняла руки:
– Ладно-ладно. Только напиши, что доехала.
– Напишу, – ответила Маша.
Она обняла подруг. Лена пахла парфюмом и чем-то тёплым – привычной жизнью. Ира – мятной жвачкой и холодным телефоном. Маша задержалась на секунду, будто пыталась запомнить это ощущение: обычное, безопасное, почти скучное.
Потом вышла.
Метро «Котельники» встречало людей одинаково: светом, который делает лица плоскими, и воздухом, который пахнет железом, резиной и усталостью. Маша прошла через турникеты, и писк карты прозвучал как разрешение. Не «проходите», а «вы имеете право».
Эскалатор тянул вниз медленно и неизбежно. Внизу шум был плотнее, и в нём легко растворялись мысли. Маше этого и хотелось: чтобы мыслей стало меньше, чтобы осталось только движение.
Она поймала себя на том, что идёт по привычке – как ходит человек, который десятки раз повторял один и тот же маршрут. Но сегодня в маршруте была лишняя деталь. Как в знакомой фразе появляется слово, которое меняет смысл.
На переходе она остановилась у киоска, купила бутылку воды и шоколадку. Это было иррационально. Она не хотела ни воды, ни сладкого. Просто рука сделала что-то «нормальное», чтобы убедить тело: всё нормально.
На платформе электрички было холоднее, чем в метро. Здесь воздух не притворялся тёплым. Здесь он был честным: декабрь, ветер, влажность. Вдоль перрона стояли люди с сумками и усталыми лицами. У каждого была своя причина ехать. И у каждого была своя версия того, что в дороге случиться не может.
Маша нашла свой вагон и вошла. Двери закрывались мягко, без щелчка – будто поезд не хотел привлекать внимание.
Она села у окна. Третий вагон, середина, место у прохода было свободно. Маше нравилось сидеть у окна: там можно смотреть наружу и не смотреть на людей.
Напротив сидела пожилая женщина с тележкой – с такими тележками ездят на рынок и обратно, как будто весь смысл пути в том, чтобы что-то увезти. Рядом – мужчина в тёмной куртке, аккуратный, неприметный. У него была папка или планшет – плоский предмет, который делает человека «деловым». Люди охотнее доверяют деловым.
Чуть дальше двое подростков тихо смеялись, но так, чтобы взрослые не сделали замечание. Их смех был живым, как доказательство: мир не обязан быть тяжёлым.
Поезд тронулся. Вагон качнулся, и Маша почувствовала знакомую вибрацию пола – будто рельсы разговаривают через подошвы.
Телефон в руке был гладким и холодным. Маша открыла переписку, которую не хотела открывать. Там было мало текста и много пауз между сообщениями, как в разговоре людей, которые заранее знают, что лишние слова опасны.
«Еду. Жди», – было её последнее.
Она пролистала вверх, увидела короткие «да», «поняла», «не обсуждаем», увидела фотографию – не селфи, не романтика, просто лицо мужчины лет сорока пяти, возможно пятидесяти, с улыбкой, которая не выражала эмоций, а демонстрировала привычку.
Маша задержала палец над экраном. Стереть переписку – значит признать, что она делает что-то такое, о чём нельзя оставлять следы. Не стирать – значит оставить доказательство. Она не хотела думать словом «доказательство». Это слово принадлежало чужой жизни.
Она стёрла всё, кроме фото. Фото оставила зачем-то – как якорь. Как подтверждение, что это не сон, не фантазия, не случайная паника.
Объявили станцию. Её станцию.
Голос в динамиках был привычно равнодушен, как у людей, которые повторяют одно и то же каждый день и больше не вкладывают смысл. Но сегодня в этом равнодушии Маше послышалось что-то другое – будто голос чуть срывается, будто в слове пропадает часть звука.
Маша поднялась. Или попыталась подняться.
Секунда – и она поняла: тело не двигается так, как должно. Руки лежали на сумке, пальцы были будто не её. Ноги тяжёлые, как мокрая ткань. В голове стало тихо. Не спокойно – именно тихо, как в комнате, где выключили вентиляцию и все звуки сразу стали чужими.
Она посмотрела на дверь. Дверь открылась. Люди выходили. Пожилая женщина с тележкой поднялась и медленно пошла к выходу. Подростки вскочили и, толкаясь, выбежали на платформу. Маша тоже должна была идти. Но вместо «должна» было только «не могу».
Поезд снова закрыл двери. Платформа уплыла назад. Её станция осталась там, где ей и положено быть – но без неё.
Маша села обратно, хотя и не вставала по-настоящему. Сердце било где-то далеко, будто в соседнем теле. В горле пересохло.
Она вдохнула – и почувствовала странный запах. Не резкий, не явный. Сладковатый, чуть медицинский, как у нового пластика или лекарств, которые держат во рту слишком долго. Запах был не опасным сам по себе. Опасным была мысль: «этого запаха здесь не было».
Маша повернула голову. Мужчина напротив оторвался от телефона.
Их взгляды встретились. В его глазах не было удивления. Он смотрел на неё спокойно, как на ситуацию, которую ожидал.
– Проехали? – спросил он.
Голос был обычный. Даже мягкий. Так говорят люди, которые помогают: «вы не туда», «давайте подскажу», «вам сюда». У Маши возникло нелепое желание схватиться за этот голос как за поручень – как будто поручень спасёт.
Она открыла рот.
– Я… – попыталась сказать она.
Слова не вышли. Они рассыпались ещё до того, как стали звуком. Маша услышала только слабый выдох, похожий на шорох.
Мужчина слегка наклонил голову – жест, который можно принять за сочувствие.
– Ничего, – сказал он. – Сейчас решим.
Маша посмотрела на проход. Ей нужно было встать. Ей нужно было уйти в другой вагон. Ей нужно было подойти к людям. Но вагон вдруг стал огромным и пустым, как зал после концерта, где остались только уборщики. Хотя люди были. Просто они перестали быть «людьми» в Машином восприятии – стали фоном.
Звук колёс усилился. Или, наоборот, всё вокруг стало тише, а звук колёс остался прежним и потому показался громче.
Маша моргнула.
И мир исчез.
Темнота была плотной, но не страшной – как ткань, которую набросили на голову, чтобы не видеть. Потом ткань разорвали белой вспышкой.
Маша открыла глаза.
Сначала она не поняла, где находится. Голова была тяжёлой, как после долгого сна, который не приносит отдыха. Воздух был холодным и сухим. Где-то капала вода – мерно, с паузой, как метроном. Этот звук сразу стал самым главным, потому что в нём была структура: кап – пауза – кап. Мир, который ещё держится на ритме.
Перед ней было стекло. Большое. Высокое. Оно запотевало изнутри, и по нему медленно стекали тонкие ниточки влаги. За стеклом – движение.
Бабочки.
Не как в мультфильме, не яркие и радостные. Тёмные, спокойные, почти строгие. Некоторые были с узорами, похожими на глаза – такими узорами природа будто шутит над теми, кто думает, что всё в мире создано для человека.
Бабочки сидели на тонких ветках или на сетке, которую Маша не сразу заметила. Они иногда шевелили крыльями – беззвучно. От этого движения у Маши возникло ощущение, что за стеклом есть свой воздух, своя отдельная жизнь, не имеющая к ней отношения.
Она попыталась поднять руки и почувствовала ограничение – не боль, не жестокость, а просто факт: запястья связаны. Не туго. Как будто тот, кто связывал, не хотел причинять вреда – он хотел, чтобы она не мешала.
Маша повернула голову. Пол под ней был бетонный, холодный, с мелкой крошкой. На стене – ничего, кроме пятен влаги. Свет был ровный, без лампочки в поле зрения, как в помещении, где свет – не для уюта, а для контроля.
Она снова посмотрела на стекло.
На стекле появился отпечаток ладони – не её. С той стороны кто-то коснулся стекла и убрал руку. Отпечаток остался на секунду дольше, чем должен, как будто влажность была слишком высокая.
Маша попыталась вдохнуть глубже, но грудь сжало. Паника была не громкой – она была вязкой. В голове вспыхнула мысль: «Надо кричать». Затем другая: «Крик – это тоже энергия. А энергии нет».
Она выдавила хрип.
За стеклом бабочки не взлетели. Они даже не дрогнули, как будто привыкли к звукам. Или звука не было.
Маша попробовала повернуть кисти. Узел поддался на миллиметр. Значит, шанс есть. Шанс всегда есть, пока тело живое и пока кто-то ещё не решил иначе.
Вдалеке послышался шаг. Один. Второй. Шаги были спокойные, не торопливые.
Маша замерла.
Кто-то остановился вне её поля зрения. Послышался лёгкий щелчок – возможно, выключатель или замок. Потом – тишина.
И снова капала вода.
Маша смотрела на бабочек и вдруг, на странной ясности, подумала: «Они здесь потому, что их кто-то держит. Им не нужно стекло. Стекло нужно тому, кто смотрит».
Утром, в половине седьмого, в центре города прорвало трубу. Это случилось внезапно и буднично – так, как обычно случается то, что потом станет кошмаром: без музыкального сопровождения и без предупреждения.
Сначала люди просто увидели пар. Потом – воду, которая пошла по асфальту не туда, куда ей положено. Потом приехали коммунальщики, натянули ленты, начали рыть. Прохожие снимали на телефоны и раздражались: «опять перекрыли». Жизнь не любит менять маршрут.
Экскаватор сделал несколько привычных движений, ковш ушёл вниз и вдруг остановился не потому, что земля плотная, а потому что что-то в земле оказалось не землёй.
Бригадир спустился в яму и не выругался. Это было самым странным: обычно люди ругаются, когда работа мешает. Но тут ругаться было не на что. Тут было только молчание – короткое, тяжёлое, профессиональное.
Потом на место приехала полиция. Потом – те, кто смотрит туда, куда обычным людям лучше не смотреть.
К вечеру новости сказали аккуратно: «обнаружены человеческие останки». Слова были подобраны так, чтобы не пугать и не объяснять.
А в реальности на свет подняли пятнадцать чёрных мешков. Пятнадцать женщин. Пятнадцать чужих жизней, сведённых в одну цифру.
И только одна деталь выбивалась из этой сухой, служебной картины: на внутренней стороне упаковки некоторых мешков был тонкий налёт – словно пыльца, словно чешуйки, которые остаются на пальцах, если коснуться крыла бабочки.
Если хотите, в следующем сообщении можно сделать «Глава 1. версия 2» – ещё длиннее и кинематографичнее, но с более чёткой географией маршрута (Котельники → пересадки → электричка на Рязань) и с одним запоминающимся свидетелем в вагоне (который позже всплывёт в деле).
Глава 2. Морг
Коридор к судебному моргу был слишком белым, слишком ровным – как будто стены специально придумали, чтобы не за что было зацепиться взглядом и не о чем было думать. Василий Казанцев шёл без спешки: так ходят люди, которые давно перестали доказывать скорость – себе и другим – и научились экономить внимание. Ему было сорок с небольшим, лицо – усталое не от недосыпа, а от постоянного «держать в голове» чужие жизни; коротко стриженные тёмные волосы, аккуратная щетина, взгляд с привычкой сразу отмечать выходы, камеры, руки.
Он был из тех следователей, кто пережил моду на «громкие версии» и остался на простом: проверка, цепочка, мотив, техника. За годы он научился говорить с родными так, чтобы они потом не проклинали его голос, и с подозреваемыми – так, чтобы те сами заполняли паузы. Развод случился два года назад и не был драмой – он был молчанием: сначала «поживём отдельно», потом «так всем проще», потом тишина в квартире, где всё на своих местах и всё не нужно. Иногда он ловил себя на том, что задерживается в отделе дольше, чем требуется, потому что домой идти всё равно не к кому – и эта мысль злила больше, чем уставшая спина.
У дверей с табличкой «Экспертная» он задержался на секунду – не из суеверия. Просто привычка: перед входом в чужую территорию он всегда собирался, как перед допросом, где на кону может быть не признание, а единственная зацепка.
– Казанцев? – спросил мужчина в маске, не столько спрашивая, сколько сверяя. – Проходите. Я Серебряков, патологоанатом.Внутри воздух был другой: сухой, холодный, с металлической ноткой. За стеклом дежурки мелькнула фигура в халате, и почти сразу открылась дверь – как в учреждении, где все уже знают, зачем ты пришёл, и никто не делает вид, что это «обычный день».
– Это Мельников, – представил Серебряков. – Наш эксперт по следам и упаковке. От СК, прикомандирован.Серебряков был из тех, кто не пытается «быть человечным» специально. Он говорил ровно, двигался экономно и держал дистанцию, которая здесь была не высокомерием, а санитарной нормой. Казанцев кивнул, показал удостоверение – скорее по ритуалу, чем по необходимости – и увидел ещё одного мужчину у стола с лотками и пакетами: в тёмном свитере, без халата, с блокнотом в руке.
Мельников кивнул коротко, будто не здоровался, а ставил отметку о присутствии.
Осмотр и факты
– Все женщины. По антропометрии и внешним признакам – возраст разный, но типаж повторяется. И вот что важно: большинство не худые. Не «плюс сайз», но… плотные, тяжёлые, – он произнёс это слово как термин, не как оценку. – Переносить таких в одиночку неудобно. Значит, либо у него есть техника, либо помощник, либо он умеет пользоваться инфраструктурой так, чтобы тяжесть не была проблемой.Серебряков провёл Казанцева в зал, где свет не давал тени – всё было видно одинаково, без углов, без милости. Пятнадцать мешков лежали рядами, и от этого порядка становилось хуже, чем от хаоса: порядок означал системность. Серебряков не стал начинать с эмоций, он начал с того, что умеет лучше всего – с фактов.
– Явных следов борьбы немного, – ответил Серебряков. – Это не значит, что борьбы не было. Это значит, что её могло не быть. И это как раз тревожнее всего: когда человек не сопротивляется, потому что не может.Казанцев посмотрел на мешки, потом на руки Серебрякова. У патологоанатома руки всегда говорят больше лица: уверенность движений означала, что он уже видит картину целиком, даже если ещё не озвучил. – По травмам? – спросил Казанцев.
– Есть косвенные признаки медикаментозного воздействия. Седативное, возможно, с быстрым началом. Пока без химии – это предположение, но оно подкрепляется тем, что на мягких тканях местами нет того, что ждёшь при силовом захвате. И ещё… – Серебряков посмотрел на Мельникова. – Покажи.Он сделал паузу, позволяя словам лечь, как инструменты в лоток.
Находка эксперта
– Вот это было в складках. Не земля, не строительная пыль. Похоже на перемолотую скорлупу, – сказал он. – Знаете, чем таким кормят улиток? Кальций. Добавка для раковин.Мельников подошёл ближе и открыл один из пакетов‑сейфов, где лежали мелкие фрагменты, собранные с внутренней поверхности мешков и складок упаковки. Он высыпал на белый лист что-то бледное, почти невесомое – пыль, крошка, мелкая «мука».
– Улиток?Казанцев поднял глаза:
– Террариумы, мини‑фермы, экзотика. Люди покупают смесь или сами мелют скорлупу. По структуре похоже на скорлупу, перемолотую почти в пудру. Не гарантия, но направление.Мельников кивнул.
– И это странно совпадает с общей «влажной» темой дела. Труба, коллектор, сырость. Улитки любят влажность. Бабочки – тоже не про сухую пыльную кладовку. Это может быть просто бытовой след, но бытовые следы и ловят тех, кто думает, что всё контролирует.Серебряков добавил спокойно:
Казанцев перевёл взгляд на мешки снова и почувствовал знакомую злость – не ярость, а холодную, работоспособную. Пятнадцать – это не вспышка, это процесс. Процесс всегда оставляет технологию, он смотрел на ряды мешков и ощущал не шок – он давно отучил себя от шока, потому что шок мешает работать. Он ощущал знакомую тяжесть ответственности, которая не записывается в протокол: когда понимаешь, что это не «случай», а механизм, и ты обязан найти, где у него кнопка «стоп». В таких делах ему всегда помогало одно – дисциплина: он мог не спать сутки, но не пропускал мелочей и не верил совпадениям, пока не проверит, кому они выгодны.
И ещё он слишком хорошо знал: серийные истории держатся не на гениальности убийцы, а на чужой усталости – когда все вокруг делают «как обычно». Транспортные узлы особенно удобны для этого – поток людей, шум и привычка окружающих не вмешиваться.
Алиса Игнатова
– Алиса Игнатова, – представилась она. – Психиатр, консультант по профилированию. Меня попросили подключиться.Дверь открылась без стука, и в помещение вошла женщина в тёмном пальто, которое она держала на согнутой руке, как будто не хотела, чтобы ткань коснулась «этого воздуха». Она была собранной и спокойной не внешне – внутренне: это отличалось. Лицо у неё было уставшее, но не сдавшееся, и взгляд – прямой, без демонстрации сочувствия.
– Вовремя. Мы как раз на стадии, когда факты начинают складываться в характер.Серебряков кивнул:
– Серийность здесь не в количестве, а в дисциплине, – сказала она. – Он не импульсивный. Он строит ритуал. Подбирает похожих женщин, потому что так проще: один сценарий, один набор ошибок, один набор «решений». И если правда, что их усыпляли, значит, ему важнее контроль, чем драка.Игнатова подошла ближе, но не к телам – к упаковке и лоткам с мелочами. Она смотрела не на «ужас», а на структуру: одинаковые мешки, одинаковая укладка, повторяемость.
– Что по месту исчезновения? У всех след в электричке.Казанцев спросил:
– Транспортные узлы удобны для таких преступлений: поток людей, шум, привычка не вмешиваться, а главное – много технических зон, где «чужой» может стать «своим» просто надев жилет и сказав уверенным тоном пару слов. Он может быть связан с железной дорогой напрямую или умело её «использовать», но в любом случае он любит пространства, где у него есть право прохода.Игнатова не улыбнулась, но в голосе появилось что-то, похожее на профессиональный интерес:
– Если усыпляли – значит, контакт был короткий. Не «долго уговаривал», а сделал так, чтобы человек перестал быть субъектом.Серебряков, как будто подтверждая, добавил:
– Улитки… – произнесла она медленно. – Это может быть хобби. Хобби часто выдаёт человека лучше, чем работа. Особенно если работа – железная дорога, где люди годами учатся быть незаметными.Игнатова посмотрела на крошку скорлупы на белом листе.
– Значит так, – сказал он, глядя на Мельникова. – Всё по скорлупе – в отдельную экспертизу. По мешкам – партия, поставщик, любые маркировки, одинаковые дефекты. По медикаментам – токсикология, что бы это ни было.Казанцев ощутил, что в голове впервые за день появилась не просто тяжесть, а линия. Линия расследования.
– Дам вам предварительное заключение сегодня же. Но предупреждаю: если это действительно седативное, он умеет дозировать. Это не «повезло». Это навык.Серебряков кивнул:
– И ещё, Казанцев, – сказала она. – Когда найдёте первого живого, кто видел «помощника» на платформе, не давите. Такие люди обычно не помнят лицо. Они помнят ощущение: уверенность, спокойствие, «служебность». Его нужно ловить не по внешности, а по роли.Игнатова надела перчатки, будто собиралась трогать не предметы, а человеческую мысль, оставившую следы на пластике.
Казанцев молча кивнул. Снаружи морг оставался белым и ровным, но теперь в этой белизне появились ориентиры: железная дорога, технические зоны, седативное, скорлупа для улиток. Он развернулся к выходу, и только у двери позволил себе короткую, почти незаметную мысль: в этом деле убийца не прячется в темноте – он прячется в порядке.
Глава 3. Раменское
Василий не любил выезды «на местность» ради галочки. Пыльные архивы, цифры, пересекающиеся маршруты – вот где обычно лежала разгадка. Но в этом деле бумага уже отставала от реальности, как старая карта от нового ландшафта. Пятнадцать женщин не могли раствориться в одной линии сообщения случайно – значит, на этой линии кто-то давно и уверенно работал по своему расписанию, используя её ритм как камуфляж.
В машине до Раменского он пару раз ловил себя на том, что смотрит не в окно на мелькающие придорожные сосны, а в своё размытое отражение в стекле: мужчина за сорок, ещё нормальная форма, но уже проступающая привычная, нажитая усталость. Развод, который стал не катастрофой, а тихой пустотой, куда было удобно складывать одно дело за другим, пока они не заполнят всё пространство. Он поймал этот взгляд и намеренно перевёл его на дорогу.
– Если он действительно связан с железной дорогой, то Раменское для него не «случайная точка на карте». Это рабочий узел. Место, где он чувствует почву под ногами. И где его не ищут под ногами.Игнатова сидела рядом, листая планшет с краткими, до боли схожими сводками по пропавшим, но не задавая лишних вопросов. Её молчание не давило, а скорее помогало выстроить мысли в линию: опытный психиатр понимала без слов, что следователь сейчас не нуждается ни в сочувствии, ни в обсуждении личного. Она была как тихий ассистент на сложной операции, подающий инструмент ещё до того, как его попросят. Когда навигатор ровным голосом сообщил, что до станции осталось несколько минут, она только коротко, глядя на экран, сказала:



