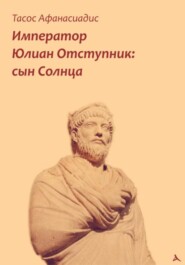
Полная версия:
Император Юлиан Отступник: сын Солнца
Однако от наслаждения высокой словесностью и изучения риторики Юлиан время от времени испытывал пресыщение. Теперь его снедало желание причаститься к верованиям, которые дали бы ему объяснение мира несколько отличное от лицемерной нравственности официального христианства с его посмертными воздаяниями в раю или в аду, к верованиям, которые соответствовали бы его тайным чаяниям. Он жаждал, чтобы перед ним открылись более широкие горизонты, жаждал постичь во всем драматическом величии эту переходную эпоху религиозного синкретизма*, удерживавшего в равновесии многонациональное общество империи в ее попытках достичь психологической реорганизации и соответствия духу времени, свергнув с престолов старых идолов, не утверждая однако при этом веры возведением на престол новых идолов. В головокружительной смене божеств на пьедесталы, где возвышались некогда понятные и простоватые боги греков и римлян, эта эпоха возвела кумиры Анатолии, звереголовые божества египтян и ассирийцев, кошмарные фригийские образы, иранских духов, желая в своем маловерии распознать таинство жизни, в то время как христианство мобилизовало своих самых мощных апологетов, желая убедить эту эпоху, что жертвенник «неизвестному богу» был предназначен для его Бога. В определенный период солнцепоклонничество перса Зороастра, оказавшее влияние на евреев, познакомившихся с ним в изгнании, завладело бы ойкуменой, если бы христианство не успело занять его место, позаимствовав у него некоторые элементы своей метафизики. Опять-таки манихейской ереси удалось стать официальной религией Римской империи в годы ее борьбы со смертью. Очарованный познанным на Востоке богом света и приняв посвящение в его религию, Адриан воздвиг ему в Риме огромную статую на месте, где некогда возвышалась статуя Нерона близ Колизея, которая должна была символизировать его происхождение – Aelius Adrianus. Константин Великий чеканил монеты с изображением Гелиоса и ввел у себя при дворе великолепие персидского церемониала. Кроме того, он, подобно Александру Македонскому, заимствовал персидский покрой официальных одеяний после завоевания царства Сасанидов – любил носить «персидскую китару», «белоснежный хитон» и «персидский пояс». Даже само «движение иконоборчества», столь сильно распалявшее противоборствующие партии в VIII-IX веках, – кроме религиозных и политических стимулов, – было, как утверждают серьезные историки возрождением «безыконного» духа Востока, было заложено в аффектном фоне империи…
При этом два основных соперника – христианство и многобожие – фанатично продолжали свой поединок, заимствуя появившиеся за столетие до этого столкновения аргументы друг против друга у Оригена (христиане) и Кельса (язычники). В одном лагере находились языческие софисты и философы Гимерий, Фемистий, Хрисанфий, Либаний, Евсевий, Максим, Эдесий, Приск и их ученики, обвинявшие христианскую религию в унижении человека созданным ею жалким космоидолом и искали выхода от душевной усталости в мистицизме. В другом лагере пребывали проповедники христианской морали – Афанасий Великий, Проэресий, затем Августин, каппадокийцы Григорий Назианзин, Василий Великий, Григорий Нисский, великий Хризостом, Иероним, приписывавшие убожество своего времени язычеству и жизни земной, ждали избавления от прихода «Града Божьего» или же уходили отшельниками в Фиваидскую пустыню и в Азию. Однако, презирая действительность, т.е. саму жизнь с ее неотъемлемыми правами, и язычники и христиане способствовали появлению серьезных расколов в своих рядах. А потому взаимные отступничества были одними из наиболее частых недугов…
Безопасность дорог, облегчавшая путешествия, предоставила языческим философам и софистам возможность основывать свои школы в крупных провинциальных центрах. В Афинах, Смирне, Эфесе, Пергаме, Прусе, Антиохи, Никомедии, Александрии, Газе, Берите и других местах выдающиеся учителя эллинства давали уроки в чисто предпринимательском духе – с агентами, облегчавшими групповые передвижения учеников, и «зазывалами» для их рекламы. Так возникло следующее явление: если в середине IV века драматическое соперничество двух религий склонялось в пользу христианства, внешне эллинский дух переживал второй период расцвета в своем вековом развитии (третий последовал в XIV веке, а четвертый – в XIX, утверждая тем самым его неистребимую жизнеспособность). Многочисленная молодежь, жаждущая знаний, собиралась вокруг светочей эллинского классицизма (независимо от своей склонности к христианству или многобожию), стремясь излечиться его свежей родниковой водой от сухости латинского образования. Эллинскому духу было суждено вскормить своих врагов! У Либания из Антиохи, который не соблаговолил выучить латинский язык, поскольку не мог научиться ничему оригинальному у лишенной свежести мысли Рима, была два ученика – каппадокийцы великий Хризостом и Феодор Мопсуэстийский, а также другие видные клирики. Григорий и Василий учились в идолопоклоннических Афинах. Популяризатор Плотина Ямвлих из Апамеи на Оронте, согласно язычникам и христианам, был продолжателем Пифагора и Платона. В котомке и рясе Отцов Церкви киники того времени усматривали продолжение символа униженной жизни своего учителя Диогена. На развалинах древних храмов и из их остатков сооружали христианские базилики. Древнегреческая метрика звучала в гимнах православной литургии. На одном саркофаге IV века из Малой Азии, находящемся в Берлинском Музее, мы видим рельеф Христа в образе античного оратора! Церковь рукополагала на епископские кафедры преподавателей эллинского языка, не занимаясь скрупулезно выяснением вопроса об их вере. Языческие софисты воспитывали не только интеллигенцию, но также судей и высших чиновников. Причем иногда, в трудные часы они даже осмеливались напоминать императорам о необходимости исполнять свои обязанности. Константин Великий провозгласил при открытии церкви речь, которую составил для него языческий ритор Берхамий! Наконец, характерно, что в лагере язычников «партию либералов» представляли риторы, довольно вяло отстаивавшие своих богов, а в лагере христиан – епископы, получившие эллинское образование, тогда как «партию консерваторов» представляли в лагере язычников философы, устремленные в славное прошлое, а в лагере христиан – низший клир и фанатичные монахи…
Юлиан не испытывал ни малейшего колебания в религиозной ориентации. Посвящение в эллинскую культуру, совершенное в его детстве Мардонием, с одной стороны, и угнетение, которому подвергали его дух арианские наставники, наряду с памятью об убийстве его родных христианином Констанцием, с другой, довольно рано привили ему любовь к многобожию. Так, со всем пылом юности отдался он этому странному сочетанию неоплатонизма и пифагореизма, приправленному сильным восточным мистицизмом, обладавшим очарованием запретного…
Внезапно юный Юлиан начал становиться популярным в столице. Своей скромностью (он появлялся на улицах как обычный гражданин) и прилежанием в учебе он вызывал к себе уважение и любовь. Нередко его прославляли. Следовавшие за ним соглядатаи не замедлили вызвать гнусную подозрительность у императора. Всегда чувствительный к такого рода наветам, Констанций приписал культивирование этой популярности тактике Юлиана: эту популярность юноша когда-нибудь направит против него! О, Константинополь был опасным кормильцем мести в душе этого тихони. Нужно, как можно скорее, удалить Юлиана из столицы, где тайные враги подогревают его честолюбие. Юлиан получил распоряжение удалиться в Никомедию. Трудно представить себе действие более необдуманное. Император, который уже много лет готовился преподнести своему младшему двоюродному брату хлеб и вино Христовы, сам же отправил его в логово идолопоклонников!
Однако до отъезда из Константинополя Юлиан приобрел там бесценного друга – императрицу Евсевию. Увидав Евсевию, он был ослеплен ее царственной красотой. Тщетно, распорядитель церемоний напоминал ему ритмичными ударами жезла о пол, что нужно поклониться и поцеловать край ее порфиры. Юлиан не отрывал восторженного взгляда от императрицы. Конечно же, августа спросила юношу о его духовных запросах. Тогда он с трудом смог заговорить о своих кумирах – о Гомере, об эллинских философах и риторах. Эта юная македонянка (вторая жена Констанция), дочь консула, стала его ангелом-хранителем. Подобно тому, как Мардоний стал его духовным кормильцем, Евсевия помогла ему своими неустанными заботами об учебе и жизни Юлиана. Возникло ли между ними чувство? Никто не оставил на этот счет убедительного свидетельства. Большинство исследователей жизни Юлиана исключают это, основываясь на добродетели их обоих. Конечно же, они встречались всего несколько раз, да и то в официальной обстановке. Возможно, что бездетная августа испытывала определенную нежность к юноше-сироте, а тот был несколько более смел с ней только в мечтах. Тайну такой любви уносят с собой, уходя из жизни… Джулиано Негри и Анатоль Франс считали, что они были влюблены друг в друга. Впрочем, можно утверждать с уверенностью (исходя из сочинений самого Юлиана и его темперамента), только, что Юлиан употребляет слово «любимая» только по отношению к двум городам – Афинам и Лютеции*. Жестокосердный Констанций был страстно влюблен в Евсевию. И, действительно, ее красота и ум соответствовали ее добродетели и духовности. Вместо того, чтобы направить эту страсть на удовлетворение женских прихотей, августа направляла ее на дела добродетельные и великодушные. В затаенной печали, вызванной отсутствием ребенка, убежищем для нее стал епископ Феофил Индиец. Смуглый старец обратил на нее свой пронзительный взгляд, чтобы сжечь тем самым все ее скорби. Феофил стал для нее тем, чем Распутин для русской царицы (естественно, без распутства последнего). В своем энкомии императрице Юлиан сравнивает ее по мудрости с Афиной, а по добродетели – с Пенелопой. Впрочем, удаление его из столицы произошло в соответствующий час. Для этого задумчивого юноши, жизненные обстоятельства для которого обретали ценность только тогда, когда имели отношение к сфере духовной, шумный Константинополь становился уже удручающим из-за своего формального образования и полицейского порядка.
Юлиан прибыл в Никомедию «с радостью нетленности в очах», как выразился Кавафис, создавая портрет одного из богов, бывшего его ровесником. Ему было около двадцати. Из отрывочных описаний его внешности, которые оставили Аммиан Марцеллин в своей «Истории» и Либаний в «Похоронной речи» (а также по карикатуре, составленной впоследствии его соучеником по Афинах Григорием Назианзином в порыве неукротимой ненависти) можно более-менее верно воссоздать его внешний вид. Русый и кудрявый, как все Флавии, с широкими плечами, придававшими ощущение силы его среднего роста, но внушительной фигуре, с черными живыми глазами, которым была присуща особая привлекательность. Неизменно опущенный застенчивый взгляд светился избытком молодости, полной лирического тепла. Правильный нос, тонкие брови, треугольная бородка придавали ему благородное выражение. Нервозность была присуща всей его внешности. Несмотря на запрет императора посещать уроки языческого софиста Либания (несомненно, после доклада Гекеболия), вскоре после этого Юлиан, как представляется, вбирал в себя в Никомедии благоухание изысканного язычества. О, здесь он обрел своего бога…
С начала христианской эпохи города Малой Азии (где шестьсот лет до того философы, обобщая свои наблюдения над природой, пытались ответить на вопрос: «Что есть вселенная?») были погружены во мрак суеверий и тайно отправляли культы самой примитивной формы. Здесь же нашел благодатную почву для своей деятельности знаменитый чудотворец Аполлоний Тианский. Несколько позднее Протей Перегрин и Александр из Абон Тейхоса увлекали здесь наивных людей своими лжепророчествами. Вполне закономерно, что в следующие века на столь плодородной почве должна была достигнуть расцвета софистика. Естественно, что софистика эта не имела никакой связи со своей славной предшественницей V-IV веков до н.э. Первая составила особый кодекс глубочайших наблюдений над человеческой личностью, формировавшейся в демократическом обществе. Развивали ее гениальные личности – учители жизни, ювелиры речи, носители культуры, которые, соблазняя юношей очарованием своих силлогизмов, соперничали в их душах с философией. Несомненно, правы были в своей ненависти к ним тоталитарные режимы Спарты и Тридцати тиранов в Афинах. С другой стороны, софистика, развившаяся в годы империи под покровительством Pax Romana, представляла собой выгодное ремесло. Тем не менее, в какой-то момент, опираясь на славное прошлое и на классическую литературу, вторая софистика питала надежды на возрождение первой. Однако вскоре она опустилась до предпринимательства, виной чему были торговцы словесным очарованием с тенденцией к шарлатанству, уже при самом своем появлении ставшие предметом нападок сатирика Лукиана. В начале IV века главный представитель риторики и софистики Либаний Антиохийский (глава, как сказали бы сегодня, «эллинской партии»), предпочетший Константинополю спокойствие Никомедии, поскольку противники чернили его при дворе, пребывал в зените славы. Восторженные юноши слушали его уроки, «заставлявшие их забыть риторов Нового Рима». Даже армянский софист Проэресий, приводивший аудиторию в восторг своими импровизациями, признавал за Либанием первенство в силе слова. Либаний родился в богатой семье в Антиохии, однако отличался слабым здоровьем. К частым головным болям (от нервного потрясения, вызванного ударом молнии, которая убила рядом с ним одного из его соучеников), к которым в тридцать лет добавились периодические воспаления артрита. Поэтому Либаний был раздражителен и саркастичен. В Афинах, где прошли годы его учения, талант его повергал в изумление. Ранняя популярность вызвала у него самолюбование. Он не соизволил выучить латинский язык, поскольку презирал культурную традицию Рима. И когда однажды императоры Констанций, Валерий и Феодосий Первый написали ему по-латыни, обращаясь за советом, он ответил им на своем богатом греческом. Из своего учения Либаний изъял мелодраматизм со сладостной приподнятостью, характерный из его современников для Гимерия. Превознося широту его кругозора, Евнапий сравнивал Либания с «госпожой, за которой следует целая толпа служанок, когда, омолодившись, выходит она из купели», имея в виду его филологический талант заново открывать омертвевшие в течение веков слова, освежать их и делать снова актуальными. С характерным для него высокомерием он почитал только (за духовную чистоту) ритора II века Элия Аристида, бюст которого украшал его рабочую комнату. Тем не менее, некоторые из современников (и язычники и христиане) считали несколько анахроничным его рафинированный аттицизм.
Драма двойной жизни Юлиана продолжалась: днем он на виду у всех изучал христианские писания и с притворным благочестием присутствовал на богослужениях, ночью – тайно изучал «меморандумы» Либания, которые приносили ему друзья. Вскоре Юлиан стал одним из самых прилежных учеников великого софиста. Весьма вероятно, что они тайно встречались друг с другом. Впоследствии Либаний признается с вполне оправданной гордостью, что, несмотря на отсутствие на его занятиях, Юлиан обладал душевной готовностью подражать его стилю с большей точностью, чем регулярные ученики. Так, изящную краткость посланий Юлиана, Либаний приписывал своему влиянию. Несомненно, зачастую язвительный тон, настрой исповеди, частые воззвания к богам, тенденция к назиданиям, мелодичность и вместе с тем некоторая монотонность, привычка цитировать или ссылаться на классиков (только в одной из его речей содержится более двадцати цитат из «Илиады»!) указывают на влияния Либания – одного из, как сказали бы мы сегодня, «кафаревусианистов»…
Вполне естественно, что соученики Юлиана, увлеченные его страстью к эллинству, однажды представили его общине язычников, отправлявших тайно свои религиозные обряды. Несмотря на опасность лишиться всего после очередного доноса императору (при его постоянном страхе это означало «лишиться головы»), Юлиан не замедлил вступить в контакт с общиной. Тогда-то и началась его жизнь в кругу непрерывной духовной и религиозной приподнятости – он стал видеть сны, видеть божества, верить, что умершие посылают ему вести. Он шел по следу своего бога! Однако о его посвящении в древнюю религию, несмотря на строжайшую тайну, стали шептаться язычники, жившие в постоянном страхе перед доносами. Узнав об этом событии, Либаний восторженно воскликнул: «Все благомысленные должны молиться, чтобы этот юноша стал правителем государства и положил предел уничтожению ойкумены (со стороны христианства), чтобы даже над больными в своих рассуждениях (христианам) был поставлен имеющий врачевать такого рода болезни (как заболевание христианством!)». Естественно, что Либаний выражается намеками из страха перед соглядатаями. Преследуемая любовь Юлиана к многобожию сразу же ожесточилась в его душе. Она стала его избавляющей религией. Тем не менее драма его усугублялась все более. С одной стороны он возносился в среде язычества, с другой – продолжал изображать веру в то, что ненавидел – в подобострастное христианство палача своей семьи Констанция. Чувство мести часто закипало в его душе – мести насилию, омрачившему его юные годы. В ее перепадах он с болью осознавал трагичность своего существования: жить до возмужания под пятой своего коварного двоюродного брата, не имея надежды освободиться от нее. Тем не менее, бывали минуты, когда он снова исполнялся отваги, видя в некоем экстазе, как «царь Солнце» сияет в голубом небе Никомедии, или устремлял – на несколько часов – взор свой к Гекате, очарованный таинством ночи. Нет! Когда-нибудь этот бог-благодетель непременно освободит его от уз – уз христианства – чтобы помочь осуществить свою цель…
Неожиданно в тихую Никомедию пришло сообщение, что император намеревается сделать Галла цезарем. Надежда воспрянула в душе Юлиана. Стало быть, угрызения совести, тяготившие братоубийцу Констанция, с течением времени привели к самым щедрым решениям относительно его двоюродных братьев? Постоянно окруженный сыщиками, Юлиан по чистоте душевной приписал внезапную перемену в Констанции его нравственному усовершенствованию, тогда как тот поступил так исключительно в силу необходимости, обратившись за помощью к старшему из двоюродных братьев, поскольку правление его переживало критический период. В Галлии, где находился император, вспыхнуло восстание легионов. Полководцы, видя, что император забавляется охотой и развлечениями со своими ничтожными фаворитами, были раздражены пренебрежением с его стороны к делам армии. Реакцией на это явился заговор, организованный интендантом Марцеллином. 18 января 350 года интендант под предлогом празднования для рождения сына устроил командованию армии большой пир в Отене. В полночь, когда пир был в разгаре, один из гостей, весьма представительной внешности, язычник Герман, начальник охраны Констанция, вышел на какое-то время из зала, а затем вернулся облаченный в императорскую порфиру и увенчанный диадемой. Приветствия и славословия сотрапезников самопровозглашенному императору показали, насколько шатким был престол нового государства: в армии язычество было все еще очень сильно. Вскоре Магненций стал повелителем западной половины империи. Однако во время продвижения в восточную часть непредвиденное препятствие остановило его порыв в Иллирии. Констанция, первородная сестра императора Констанция, удостоенная отцом титула августы, после убийства ее мужа, царя Армении Ганнибалиана Первого во время восстания 337 года, жила в Паннонии. Коварная дочь Константина Великого, решившая отказаться от своего уединения с целью предотвратить соединение дунайской армии с легионами Магненция, сумела (благодаря своему блеску и вероломству) разжечь тщеславие старого полководца Бетраниона. Этот безграмотный крестьянин, провозглашенный солдатами цезарем, желая заполучить престол (он даже начал учиться грамоте) оставил Магненция на произвол судьбы. Так, с помощью, предоставленной галлами и алеманнами, Констанцию удалось справиться с восстанием. Простоватый Бетранион, по просьбе Констанции вымолив на коленях прощение у Констанция, удалился в изгнание в Прусу Вифинскую. Приблизительно в то же время племянник Константина Великого Непотиан провозгласил себя в Риме императором, однако правление его продлилось всего двадцать восемь дней. Констанций, звезда которого посылала ему решительные победы, устроил так, что Непотиана убили.
Понятно, что все эти восстания заставили Констанция задуматься о том, что власть его будет весьма непрочной, пока у престола находятся честолюбивые полководцы. Чтобы расправиться с Магненцием, ему нужен был кто-то, кому можно было бы доверять. Тогда он вспомнил о Галле. Во время душещипательной встречи с Галлом Констанций признался в глубоком раскаянии и угрызениях совести из-за гибели его отца, Юлия Констанция, во время рокового восстания 337 года, когда ему, тем не менее, удалось спасти и его самого и его брата. Пришло время старой семейной вражде смениться братской помощью. Почему он должен раздавать высокие должности чужакам, подрывающим силу их династии? Несомненно, эта встреча завершилась пламенными объятиями со слезами на глазах. 15 марта 351 года Галл облачился в императорскую порфиру и был провозглашен цезарем – правителем Востока. Чтобы подтвердить свое доверие, император отдал ему в жены свою сестру Констанцию, исполнив тем самым перед ней старый семейный долг. Во время церемонии брака, который благословил епископ Феофил, новобрачные дали императору клятву в верности и покорности. Удостоившись второго звания в империи, Галл отправился вместе с супругой в Антиохию. Сопровождала его целая свита военных и высших сановников, созданная для слежки за ним. Неизменно подозрительный Констанций, по-видимому, решил, что, если Галл окажется клятвопреступником, ему представится возможность отрубить еще одну голову Лернейской гидры рода Флавиев – его собственного рода. Проезжая через Вифинию, Галл попрощался с Юлианом, который в течение нескольких дней находился в имении своей бабушки. Были ли это объятия их последними объятиями? В весенних сумерках неподвижно стоящий Юлиан задумчиво смотрел, как императорская повозка с его братом и Констанцией исчезает на фиолетовом горизонте Пропонтиды. О, эти высокие звания, привлекающие к себе молнии богов и ненависть людей… Как он их боялся…
Глава третья
Посвящение
Высокое положение Галла безусловно должно было оказать влияние и на судьбу Юлиана. Констанций возвратил ему наследство бабушки. Осмелев, Юлиан попросил у двоюродного брата большей свободы для завершения образования. Император не стал возражать. В конце концов было предпочтительнее, чтобы этот угрюмец проводил все время за книгами и пребывал в бездействии, не думая об уничтоженной семье и положении своих предков. Юлиан, который, благодаря состоятельности и вновь обретенному блеску, уже в большей степени распоряжался собственной жизнью, решил отправиться в путешествие по Малой Азии, где неоплатоновское учение переживало расцвет. Он жаждал пройти посвящение в теургию прославленного Ямвлиха, чтобы узреть его свет…
В то время плеяда учеников сирийца Ямвлиха («божественного», как называл его Юлиан, помещая рядом с Пифагором и Платоном), популяризатора неоплатонизма, умершего двадцать лет назад, – Эдесий, Хрисанфий, Евсевий, Гимерий, Приск, Фемистий, Максим – собирали на своих лекциях юношей, жаждавших знания, – язычников и христиан. Эти последователи Плотина, развивая учение Ямвлиха, «совершившего извращение платоновских и аристотелевских сочинений, чтобы обосновать на них свой восточно-эллинистический религиозный синкретизм, дойдя до того, что называл это Наукой», как замечают в своей «Истории философии» Целер и Нестле, излагали систему идей, в которой древняя традиция эллинства сочеталась с нравственными ценностями, становившимися актуальными благодаря христианству, – ценностями, по мере распространения христианства занимавшими господствующее положение. Несмотря на то, что каждый из упомянутых ученых создавал своими «тезисами» особое отклонение («ересь») от основных положений Ямвлиха, который, впервые был вынужден привить к аристократической системе Плотина мистические элементы, чтобы противостоять христианству, тем не менее эта популяризированная смесь из различных учений, в которой «Разум» Аристотеля уживался с «Идеей» Платона, а последняя – с «Атомом» Демокрита, затем – с «Числом» Пифагора, с «Единым всеобщим» Гераклита и, наконец, это великое «Единое» – с «Ничем» киника Диогена (исключена была только школа стоиков), эта популяризированная смесь обладала сильным очарованием. В особенности этика с ее трехстепенной ценностной градацией добродетелей («политических», «очистительных» и «гностических») очень сильно напоминала посвящение пифагорейцев. Весьма естественно, что неоплатонизм, желавший объединить с безличным божеством Плотина «Единое» (от которого произошел «разум», от него – «душа», а от нее, словно тень, – «материя») платоновскую антиномию «бог – космос», вынужденный соперничать с очаровывавшим массы христианством, присваивать (и творчески ассимилировать) его элементы, чтобы привлечь их на свою сторону, подобно тому, как (конечно, уже на совсем ином уровне) буржуазное общество заимствует «программы» социалистического. Многобожие в высшем стремлении своем преодолеть вред, нанесенный ему христианством, усваивало элементы всех верований прошлого, вызывая из-за встречающихся противоречий насмешки у апологетов христианства. Таким образом, наблюдается следующее явление: обе противоборствующие стороны согласны друг с другом не только в обвинении своей эпохи (бренность земной жизни, несовершенство человеческой природы, трудность приближения к богу), но и в средствах спасения (молитва, духовное созерцание, божья милость). Тем не менее, швейцарский исследователь духовных течений эпохи Юлиана Навилл делает следующее тонкое замечание: христиане верили, что избавление человека является делом Спасителя Христа, который вочеловечился для этого, тогда как неоплатоники полагали, что человек, наделенный божественной душой, способен сам добиться милости, спасения и бессмертия после долгой духовной аскезы…

