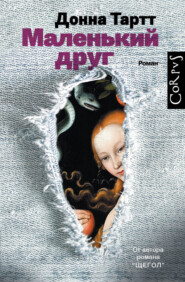скачать книгу бесплатно
Александрийская академия
4 сентября
Два континета которые образуют обшир. просранство наз. Юропа и Азия.
Полушарие земли над икватором называется Северным.
Зачем нужна сестема мер?
Если часть природы можно объяснить только в теории?
На карте четыре части.
На эти записки Гарриет взглянула с презрительной нежностью. Одно время она даже хотела вырвать эту страницу, но со временем она стала настолько неотъемлемой частью блокнота, что Гарриет решила ее не трогать.
Она перевернула страницу – дальше начинались ее собственные карандашные записи. Списки книг, которые она прочла, и книг, которые хотела прочесть, списки выученных наизусть стихов, списки подарков на Рождество и дни рождения и списки дарителей, список мест, где она побывала (не то чтобы очень экзотических), и мест, где она хотела бы побывать (остров Пасхи, Антарктида, Мачу-Пикчу, Непал). Списки людей, которыми она восхищалась: Наполеон и Натан Бедфорд Форрест, Чингисхан и Лоуренс Аравийский, Александр Македонский, Гарри Гудини, Жанна д’Арк. Целая страница была исписана жалобами на то, что ей приходится жить в одной комнате с Эллисон. Там были списки словарных слов – латинских и английских – и совершенно неузнаваемый кириллический алфавит, который она как-то раз от нечего делать с превеликим старанием перерисовала из энциклопедии. Несколько так и не отосланных писем, адресованных людям, которых Гарриет терпеть не могла. Одно письмо было миссис Фонтейн, другое – миссис Биб, ненавистной училке, которая вела у них уроки в пятом классе. Было там и письмо для мистера Дайала. Решив убить сразу двух зайцев, Гарриет написала его прилежным, скругленным почерком Аннабель Арнольд.
Дорогой мистер Дайал (так начиналось письмо)!
Я небезызвестная вам юная особа, которая вот уже некоторое время тайно вами восхищается. Так по вам с ума схожу – спать не могу. Понимаю, что я еще очень молода, а у вас есть миссис Дайал, но, может, нам с вами удастся как-нибудь провести вечерок под сенью “Дайал Шевроле”? Я помолилась над этим письмом и Господь открыл мне, что любовь – это смысл всему. Вскоре я напишу вам еще. Пожалуйста, никому не показывайте это письмо.
p.s. Думаю, вы догадываетесь, кто я. С любовью, ваша тайная валентинка.
Внизу письма Гарриет прилепила крохотное фото Аннабель Арнольд, которое она вырезала из газеты, а рядом с ним – громадную золотушную голову мистера Дайала из его рекламки в “Желтых страницах” – от энтузиазма глаза у него чуть ли не на лоб лезут, из головы торчат короной зубцы мультяшных звезд, а над всем этим прыгают черные буквы:
КАЧЕСТВО – НАШ КОНЕК!
НИЗКИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС!
Снова увидев эти буквы, Гарриет подумала, а не послать ли и впрямь мистеру Дайалу письмо с угрозами – написать его детским почерком, с кучей ошибок, якобы от Кертиса Рэтлиффа. Нет, решила она, постукивая карандашом по зубам, это будет нечестно по отношению к Кертису. Кертису она зла не желала, особенно после того, как он напугал мистера Дайала.
Она перевернула лист и написала на чистой оранжевой странице:
Цели на лето
Гарриет Клив-Дюфрен
Она с тревогой смотрела в блокнот. Вдруг ее, словно дочь дровосека из какой-нибудь сказки, охватило неясное волнение, желание отправиться в дальние страны и вершить великие дела, она, правда, не знала, каких именно свершений она жаждет, но чувствовала – непременно грандиозных, лихих, безумно трудных.
Гарриет отлистала пару страниц назад, нашла список людей, которыми она восхищалась: в нем преобладали полководцы, солдаты, исследователи, в общем, все – люди деятельные. Жанна д’Арк была немногим старше Гарриет, а уже командовала войсками. А Гарриет на прошлое Рождество отец подарил обиднейшую настольную игру для девочек, которая называлась “Кем быть?”. Игра была удивительно глупая – по идее она должна помогать с выбором карьеры, но хоть как ты в нее играй, а вариантов будущего она предлагала всего четыре: учительница, балерина, мать или медсестра.
Такое будущее, точнее, как его себе представлял учебник “Здоровье человека” (в математической прогрессии: свидания, карьера, свадьба, материнство), Гарриет не интересовало. В ее списках великих людей самым великим был Шерлок Холмс, а его ведь даже не существовало. Был еще, правда, Гарри Гудини. Вот он был королем всего невозможного и, что для Гарриет было куда важнее, он был королем побега. Он мог сбежать из любой тюрьмы, он выпутывался из смирительных рубашек, выбирался из закрытых сундуков, которые несло течением по бурным рекам, вылезал из зарытых в землю гробов.
А почему ему это удавалось? Потому что он ничего не боялся. Святая Жанна, конечно, шла на врага с ангельской подмогой, но вот Гудини поборол страх самостоятельно. Безо всякой божественной помощи он на собственной шкуре выучил, как усмирить панику и не бояться темноты, воды, удушья. Когда он сидел на дне реки в запертом сундуке, то ни секундочки не извел на страх, ни на миг не испугался цепей, темноты, ледяной воды; если бы он хоть на минуту потерял голову, если б у него хоть раз дрогнула рука, пока он, задерживая дыхание, выпутывался из оков, кувыркаясь по дну реки, живым бы он не выплыл.
Регулярные тренировки. Вот в чем был секрет Гудини. Он каждый день залезал в ванну со льдом, проплывал громадные расстояния под водой, учился надолго задерживать дыхание, так что мог не дышать целых три минуты. Ванны со льдом она, конечно, себе организовать не сможет, но вот плавать и задерживать дыхание – сумеет.
Она услышала, что вернулись мать с сестрой – Эллисон что-то неразборчиво говорила плаксивым голосом. Гарриет быстро спрятала блокнот и побежала вниз.
– Милая, нельзя так говорить: “ненавижу”, – рассеянно сказала Шарлотта Эллисон. Они втроем, в выходных платьях, сидели за обеденным столом и ели курицу, которую Ида оставила им к обеду.
Эллисон смотрела в тарелку, жевала дольку лимона, который она выловила из чая со льдом, челка свешивалась ей на глаза. Она, конечно, энергично расчленила еду на мелкие кусочки, сначала размазала ее по тарелке, потом сгребла в неаппетитные кучки – от этой ее привычки Эди чуть на стенку не лезла, – но съела всего ничего.
– Не понимаю, мама, почему Эллисон не может сказать “ненавижу”, – вмешалась Гарриет. – Слово как слово.
– Это невежливо.
– В Библии оно есть. Господь ненавидел то, Господь ненавидел сё. Да там оно почти на каждой странице.
– А ты не говори.
– Ну хорошо, – взорвалась Эллисон, – я не выношу миссис Биггс!
Миссис Биггс вела у Эллисон уроки в воскресной школе.
Шарлотта, конечно, одурела от транквилизаторов, но тут и она слегка удивилась. Эллисон всегда была такой тихой, послушной девочкой. Таких вот безумных выпадов про ненависть как-то больше ждешь от Гарриет.
– Полно, Эллисон, – сказала она. – Миссис Биггс такая славная старушка. И с тетей Аделаидой дружит.
Эллисон, равнодушно тыча вилкой в ошметки еды, сказала:
– А я все равно ее ненавижу.
– Солнышко мое, нельзя кого-то ненавидеть только за то, что он отказался в воскресной школе помолиться за умершего кота.
– Это еще почему? Заставила же она нас молиться, чтобы Сисси с Аннабель Арнольд выиграли состязания по жонглированию.
Гарриет сказала:
– И мистер Дайал нас заставил за это помолиться. А все потому, что у них отец – священник.
Эллисон осторожно пристроила дольку лимона на краю тарелки.
– Хоть бы они уронили эти свои горящие жезлы, – сказала она. – Хоть бы там все дотла сгорело.
– Кстати, девочки, – вяло нарушила Шарлотта воцарившуюся тишину. Все эти дела с котом, церковью, жонглированием у нее в голове не особо отложились, и мысленно она уже переключилась на другое, – а вы сходили уже в поликлинику, прививки от брюшного тифа сделали?
Никто из дочерей ей не ответил, и она продолжила:
– Значит, так, пойдете туда прямо в понедельник с утра, первым делом. И заодно от столбняка прививку сделаете. А то вы все лето босиком бегаете и плаваете в прудах, где коров купают…
Она добродушно умолкла, снова принялась за еду. Гарриет с Эллисон молчали. Они никогда не плавали в пруду, где купают коров. У матери в голове события из детства опять наложились на настоящее: в последнее время это случалось все чаще, и девочки не очень понимали, что на это отвечать.
Гарриет впотьмах спускалась по лестнице – выходное платье с ромашками она с утра так и не переодела, белые носки снизу посерели от пыли. Девять тридцать вечера, а мать с Эллисон уже полчаса как улеглись.
Мать вечно хотела спать из-за таблеток, Эллисон же была сонливой по натуре. Для нее не было большего счастья, чем поспать, зарывшись головой в подушку, весь день она только и мечтала о том, как бы поскорее улечься в кровать, и едва темнело, зарывалась под одеяло. А вот Эди, которая спала от силы по шесть часов, очень раздражало, что дома у Гарриет все только и делают, что прохлаждаются в постели. Шарлотта сидела на транквилизаторах с тех самых пор, как умер Робин, с ней говорить было без толку, но вот Эллисон – другое дело. Несколько раз Эди загоняла Эллисон к врачу, потому что боялась, что у нее какой-нибудь мононуклеоз или энцефалит, но все анализы оказывались в норме.
– Растущий подростковый организм, – говорил доктор Эди. – Подросткам нужно побольше спать.
– По шестнадцать часов?! – сердито восклицала Эди.
Впрочем, она прекрасно знала, что доктор ей не верит. И совершенно справедливо подозревала, что именно он и прописывает Шарлотте ту дрянь, от которой она вечно как в дурмане.
– А хоть бы и семнадцать, – отвечал доктор Бридлав, усевшись на свой заваленный бумагами стол, глядя на Эди жуликоватыми, холодными глазами. – Хочет девчонка спать, так пусть спит.
– И как ты можешь так много спать? – однажды с любопытством спросила Гарриет сестру.
Эллисон только плечами пожала.
– И тебе не скучно?
– Мне скучно, когда я не сплю.
Тут Гарриет ее понимала. Иногда она сама так цепенела от скуки, что ей делалось дурно, тошно, как будто ее усыпили хлороформом. Сейчас, правда, она только радовалась, что у нее весь вечер впереди, и в гостиной направилась не к шкафчику с оружием, а к отцовскому столу.
У отца в ящике стола лежало много чего интересного (золотые монеты, свидетельства о рождении – вещи, которые ей строго-настрого запрещали трогать). Перерыв кучу фотографий и погашенных чеков, она наконец нашла, что искала: черный пластмассовый секундомер с красным цифровым табло, подарок от какой-то финансовой фирмы.
Она уселась на диван, сделала глубокий вдох и запустила секундомер. Гудини натренировался так, что мог по нескольку минут не дышать – на этой уловке и держались все его величайшие трюки. Посмотрим, сможет ли она задержать дыхание надолго, да так, чтоб еще и сознание не потерять.
Десять. Двадцать секунд. Тридцать. Она почувствовала, как кровь стучит у нее в висках – все сильнее и сильнее.
Тридцать пять. Сорок. Глаза у Гарриет заслезились, сердце забилось так, что зарябило в глазах. На сорок пятой секунде легкие у нее свело спазмом, пришлось зажать нос и прихлопнуть рот рукой.
Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять. По щекам у Гарриет текли слезы, она не могла усидеть на месте, вскочила и лихорадочно закружилась возле дивана, обмахивая себя свободной рукой, отчаянно перескакивая взглядом с одного предмета на другой – стол, дверь, скосолапившиеся на светло-сером ковре парадные туфли, – а комната вокруг нее подрагивала в такт ее оглушительному сердцебиению, вибрировали стопки газет, словно в преддверии землетрясения.
Шестьдесят секунд. Шестьдесят пять. Розовые полоски на портьерах потемнели до кроваво-красного, свет от лампы пополз длинными лучистыми щупальцами – то наползут, то схлынут вместе с невидимым прибоем, но вот и они начали темнеть, в середине еще раскалены добела, но пульсирующие кончики уже почернели, и где-то вдруг зажужжала оса, где-то над ухом, а может, это и не оса, может, это у нее внутри что-то зажужжало; комната заходила ходуном, рука вдруг затряслась, перестала слушаться, сил зажимать нос больше не было, и с долгим, судорожным вздохом, с фейерверком в глазах, Гарриет рухнула на диван и остановила секундомер.
Так, отдуваясь, она пролежала довольно долго, пока по потолку неторопливо разлетались фосфоресцирующие огоньки.
В затылке у нее звонко тюкал стеклянный молоточек. Ее мысли свились в клубок и распустились сложными золочеными узорами, ажурные обрывки которых закружились вокруг головы.
Когда искры поугасли и Гарриет наконец смогла сесть – с гудящей головой, хватаясь за спинку дивана, – она взглянула на секундомер. Одна минута шестнадцать секунд.
Долго, куда дольше, чем она ожидала от первой попытки, но чувствовала себя Гарриет очень странно. У нее болели глаза, и казалось, что все содержимое ее головы перетряхнули и смяли в один ком, так что вместо слуха у нее было зрение, вместо зрения – вкус, а мысли смешались, будто детали головоломки, и она не понимала, где какой кусочек.
Она попыталась встать. Все равно что стоять в каноэ. Снова села. Эхо, мрачный перезвон.
Что ж, никто не обещал, что будет легко. Если б задерживать дыхание на три минуты было легко, каждый был бы Гудини.
Несколько минут она еще посидела, не двигаясь, делая глубокие вдохи, как ее учили на уроках плавания, и как только пришла в норму, еще раз глубоко вдохнула и щелкнула секундомером.
В этот раз она решила не глядеть на тикающие цифры, а сосредоточиться на чем-то другом. Когда глядишь на цифры – тяжелее.
Ей снова сделалось нехорошо, сердце забилось чаще, кожу головы закололо иголочками – будто ледяным дождем. Глаза защипало. Она закрыла глаза. На фоне пульсирующей красной черноты фейерверком сыпались искры.
Обмотанный цепями черный сундук застучал по каменистому речному дну, течение – плюх, плюх, плюх – поволокло его за собой, а внутри что-то тяжелое и мягкое – тело, – рука Гарриет взметнулась к носу, она хотела было его зажать, будто учуяла дурной запах, но сундук все катился себе по мшистым камням, и где-то в раззолоченном театре с полыхающими канделябрами играл оркестр, Гарриет слышала, как чистое сопрано Эди взмывает над скрипками: “Спят храбрецы, спят в пучине морской. Стерегись, о моряк, о моряк, берегись!”
Нет, это не Эди, это тенор – тенор с черными набриолиненными волосами, он прижал руку в перчатке к лацканам смокинга, в свете рампы его напудренное лицо казалось белым как мел, а вокруг глаз и на губах залегли глубокие тени, как у актеров в немом кино. Он стоял перед бахромчатым бархатным занавесом, который под грохот аплодисментов медленно разъехался в стороны, открывая сцену, в самом центре которой стояла огромная глыба льда с вмерзшей в нее скрюченной фигурой.
Всеобщее “Ах!” Оркестр, состоявший по большей части из пингвинов, разнервничался, ускорил темп. На галерке теснились белые медведи, у некоторых на головах были красные колпаки санта-клаусов. Они опоздали и теперь не могли договориться, кто куда сядет. В толпе медведей сидела миссис Годфри и с остекленевшим взглядом ела мороженое из тарелки с арлекинами.
Внезапно свет погас. Тенор поклонился и ушел за кулисы. Какой-то медведь перегнулся через край балкона и, подбросив в воздух красный колпак, проревел:
– Троекратное ура капитану Скотту!
Когда на сцену вышел голубоглазый Скотт в заиндевевшей шубе со слипшимся от тюленьего жира мехом, поднялся оглушительный шум, а Скотт сбил снег с одежды и, не снимая рукавиц, поднял руку в приветственном жесте. Стоявший позади него на лыжах малыш Бауэрс тихонько, загадочно присвистнул, сощурился и стал вглядываться в рампу, прикрывая рукой, как козырьком, загорелое лицо. Доктор Вильсон – без шапки, без рукавиц, на ботинках железные кошки для хождения по льду – пробежал мимо него и взобрался на сцену, оставляя за собой цепочку снежных следов, которые, впрочем, под светом софитов моментально превращались в лужицы. Не обращая никакого внимания на аплодисменты, он провел рукой по глыбе льда и сделал несколько пометок в блокноте с кожаным переплетом. Как только он его захлопнул, гул затих.
– Положение критическое, капитан, – изо рта у него вырывались клубы белого пара, – ветра дуют с норд-норд-веста, а у айсберга, похоже, верхняя часть серьезно разнится в происхождении с нижней, слои которой, судя по всему, образованы регулярными снегопадами.
– В таком случае мы незамедлительно начнем спасательную операцию, – сказал капитан Скотт. – Осман! Сидеть! – нетерпеливо скомандовал он ездовой собаке, которая, гавкая, прыгала вокруг него. – Лейтенант Бауэрс, ледорубы!
Бауэрс, похоже, вовсе не удивился тому, что в руках у него вместо лыжных палок вдруг оказались два ледоруба. Один из них он – под дикий гвалт, клекот, рев и хлопанье плавников – ловко перебросил через всю сцену капитану, и они оба, скинув покрытые снежным крошевом рукавицы, принялись рубить глыбу льда, и снова заиграл пингвиний оркестр, а доктор Вильсон продолжил делиться интересными научными фактами о природе льда. Над просцениумом завихрился легкий снегопад. Набриолиненный тенор помогал Понтингу, фотографу из экспедиции, установить штатив на краю сцены.
– Бедняга, – сказал капитан Скотт, занося ледоруб для очередного удара – пока что они с Бауэрсом не особо продвинулись, – похоже, вот-вот отдаст концы.
– Так поторопитесь, капитан!
– Поднажмите-ка, ребята! – проревел белый медведь с галерки.
– Наша жизнь в руках Божьих, и кроме Него нас некому спасти[6 - Цитата из дневников Джорджа Вашингтона Делонга (1844–1881), американского полярного исследователя, который погиб во время экспедиции к Северному полюсу.], – мрачно сказал доктор Вильсон. На висках у него выступили бисеринки пота, свет софитов белыми кругами отразился в старомодных очочках. – Так помолимся же вместе, прочтем “Отче наш” и “Символ веры”.
Оказалось, что “Отче наш” знают не все. Одни пингвины запели: “Дейзи, Дейзи, детка, не томи, молю”, другие, прижав плавники к сердцу, принялись декламировать клятву верности флагу, но тут на сцену головой вниз, на обвязанной вокруг лодыжек цепи, спустили мужчину в смокинге, смирительной рубашке и наручниках. Публика умолкла, а мужчина, корчась и извиваясь, побагровев от натуги, выпутался из смирительной рубашки и стряхнул ее через голову. Через пару секунд на сцену с грохотом свалились наручники – он сумел расцепить их зубами, после чего, ловко сложившись пополам и высвободив ноги, спрыгнул на сцену с десятифутовой высоты и приземлился, как гимнаст, эффектно вытянув руки, взмахнув неизвестно откуда взявшимся цилиндром. Из цилиндра вылетела стайка розовых голубей и запорхала над восторженной публикой.
– Боюсь, джентльмены, традиционные методы здесь не сработают, – сказал незнакомец пораженным исследователям, засучил рукава смокинга и на секундочку отвернулся, чтобы ослепительно улыбнуться яркой вспышке камеры. – При выполнении именно этого трюка я дважды едва не погиб: один раз это случилось в копенгагенском Цирке Бекетовых, другой раз – в нюрнбергском театре “Аполлон”. – Вдруг он извлек откуда-то усыпанную драгоценными камнями паяльную лампу, из которой вырывалась трехфутовая струя голубого пламени, а за ней пистолет и с треском выстрелил в воздух – из дула вырвалось облачко дыма. – Ассистенты, прошу на сцену!
На сцену выбежали пятеро китайцев с пожарными топориками и ножовками, одеты они были в алые халаты и круглые шапочки, и у каждого сзади болталась черная косичка.
Гудини швырнул пистолет в толпу – в полете пистолет превратился в лосося, который к превеликой радости пингвинов, извиваясь, приземлился в самую их гущу, – и выхватил у Скотта ледоруб. В правой руке у него полыхала горелка, а левой он теперь держал ледоруб, размахивая им во все стороны.
– Позвольте напомнить почтеннейшей публике, – вскричал он, – что наш герой пробыл без живительного кислорода четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять дней, двенадцать часов, двадцать семь минут и тридцать девять секунд и что до сих пор американская сцена не видывала спасательной операции такого размаха! – Он бросил ледоруб обратно капитану Скотту, погладил сидевшего у него на плече рыжего кота и, вскинув голову, глянул на пингвина-дирижера: – Маэстро, прошу!
Китайцы под бодрым руководством Бауэрса, который разделся до борцовского трико и сам трудился наравне с ними, ритмично, под музыку рубили айсберг. Гудини споро и эффектно работал горелкой. По сцене расползалась огромная лужа, в оркестровой яме пингвины-музыканты весело танцевали шимми под ледяным дождем. Слева на сцене капитан Скотт изо всех сил сдерживал своего ездового пса, Османа, который взбеленился, завидев кота Гудини, и сердито звал на подмогу Мирса.
Загадочная фигура в запузырившемся айсберге теперь была всего-то дюймах в шести от горелки и ножовок китайцев.
– Мужайтесь! – ревел медведь с галерки.
Тут вскочил другой медведь. Он зажал трепещущую голубку в похожей на огромную бейсбольную перчатку лапе, откусил ей голову и выплюнул кровавый ошметок.
Гарриет не понимала, что творится на сцене, а ведь там происходило что-то важное. От нетерпения у нее засосало под ложечкой, она встала на цыпочки, вытянула шею, но пингвины, которые воркотали, вертелись и лезли друг другу на плечи, были выше нее. Несколько пингвинов вывалились из кресел, зашлепали клином к сцене, переваливаясь из стороны в сторону, трясясь всем телом, задрав клювы к потолку, с состраданием глядя на сцену ополоумевшими, выпученными глазами. Гарриет попыталась пробиться сквозь их ряды, но тут ее сильно толкнули в спину, она повалилась вперед и набрала полный рот маслянистых пингвиньих перьев.
Внезапно Гудини прокричал, торжествуя:
– Дамы и господа! Он у нас в руках!
Сцена кишела людьми. Гарриет удалось разглядеть в толпе белые вспышки старомодной фотокамеры Понтинга и наряд полицейских, которые ворвались на сцену, размахивая наручниками, дубинками и служебными револьверами.
– Сюда, офицеры, – сказал Гудини, шагнул вперед и элегантно повел рукой.