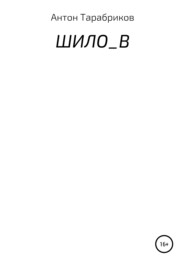 Полная версия
Полная версияШИЛО_В
Кто-то нервный: А вот лично я, зная о той самой репутации господина Шилова, опасаюсь за то, как бы он нас не втянул в какие-нибудь неприятности, как это было с интеграторами и кооператорами.
Старший: Вот я и хочу услышать план, чтобы это понять.
Шилов: Ясно. В таком случае, для начала скажу, что без риска ничего не бывает, не мне вам об этом рассказывать. Что касается интеграторов и кооператоров, то все оценки уже даны – эти организации стали жертвами ситуации, когда желание сиюминутной мелкой выгоды, губит долгосрочный огромный потенциал, вам это прекрасно известно. Что же касается плана, то мы его просчитали в том виде, который вы очень хорошо понимаете. Все цифры перед вами. Особое внимание хочу обратить на сроки, даже по вашим меркам это не так уж и долго.
Старший: Да, цифрs заманчивые, лично меня это и пугает. По моему опыту, когда все выглядит настолько складно в теории, все заканчивается печально на практике. Хотелось бы каких-то гарантий.
Шилов: На самом деле гарантий в моем предложении даже больше, чем в вашей повседневной деятельности. Главная же гарантия заключается в том, что все ваши вложения остаются при вас, и даже если основная цель не будет достигнута, вы сможете и из этих инвестиций извлечь существенную выгоду, в цифрах это тоже есть. А то, что я с вами буду в ходе реализации этого плана, так это вы прекрасно знаете, на примере тех же кооператоров и интеграторов.
Тот же нервный: Только им это не сильно помогло.
Шилов: Не скажите, все на свободе и при делах. Господа, скажу прямо, я вас умолять не собираюсь, у меня еще есть к кому обратиться…
Старший: Авдей Наумович, поймите нас правильно, подавляющее большинство из нас подобных решений даже близко не принимали, поэтому столько недоверия, все-таки новые сфера деятельности и статус. Поэтому, мы берем пять дней на обдумывание.»
Через пять дней мы получили положительный ответ. Что стало решающим фактором в этом? Думаю, очень заманчивые перспективы, которые действительно перекрывали все риски.
Получив это положительное решение, мы сразу же приступили к реализации упомянутого плана, так как подготовительная работа нами уже была проведена. Сам же план был достаточно простым, даже примитивным по меркам Шилова. Заключался он в следующем: становимся спонсорами всего культурного, что не спонсируется государством, а это почти девяносто процентов всего культурного потенциала; входим во все незанятые наблюдательные советы культурных центров; проводим программы возрождения культурного наследия; создаем новую культурную среду; «стучимся» в секцию генерального совета по культуре, по признаку влиятельности на сферу. Первые два этапа прошли без особых проблем, никто не противодействовал потому, что просто дела не было. На этапе же формирования программы по культурному наследию, ожидаемо, начались всевозможные барьеры и препоны. Общий формальный лозунг всего этого противодействия можно сформулировать, как «нельзя позволить приватизировать наше общее культурное наследие», как-то так. Понятно, что ни о какой приватизации и речи быть не могло, так как, банально, ничего из спонсируемого не оформлялось в собственность, да и не нужно это было. Но, признаю, ход с этой «угрозой» был хорош. Достоверно мы не знаем, кто его придумал, но по косвенным признакам похоже на то, что его автором был Видов, так как он думал, что мы создаем противовес влиянию науки. В общем, проведение программы по культуре забуксовало, даже не смотря на то, что она была бесплатной для государства. Вообще, как ты уже понял, аргумент бесплатности в отношениях нас, и прежде всего Шилова, с государством стал некой константой. Но даже это не помогло провести программу с ходу, пришлось проходить через все «прелести» слушаний.
Это точно. И самым показательным, чтобы передать всю риторику этих слушаний, стало открытое мероприятие в министерстве культуры. Было такое ощущение, что на него были приглашены вообще все, что не могло не привести к хаосу. Уверен, что это было сделано намеренно, что бы саботировать программу по культуре. В общем, проходило все это действо примерно в следующем ключе: «
Министр культуры: Авдей Наумович, Вам вопрос, как инициатору рассматриваемой программы, что конкретно вас не устраивает в нынешних действиях правительства в культурной сфере?
Шилов: Конкретно, меня не устраивает фактическое отсутствие действительности со стороны правительства в этой сфере, что вскоре может привести к полному ее упадку.
Министр культуры: И это Вы поняли, занимаясь наблюдением за государственными корпорациями и местными властями? Я к тому, что есть ли у Вас компетентность в этих вопросах, чтобы давать подобные заключения?
Шилов: Ни каких особых компенсаций для того, чтобы это понять, мне не нужно, достаточно того, что я постоянно нахожусь среди людей, в отличие от возглавляемого Вами министерства, которое вообще забыло, что оно для населения, а не для крупного капитала.
Министр культуры: Вы еще и обвинять нас будете?…
Шилов: Обвинения – не моя прерогатива, я всего лишь констатирую. Просто очень странно видеть противодействие с вашей стороны в решении задачи, которую вы должны решить…
Беглый: Авдей Наумович, не Вам говорить о странностях и непродуктивности, Вы задачи по своему профилю никак решить не можете, а каждый раз замахиваетесь на что не следует.
Видов: Тем не менее, раз уж всполошили всех, почему Вы считаете, что государству нужна еще одна программа, тем более в далеко не самой проблемной сфере?
Шилов: Геннадий Евсеевич, а что разве по научным данным у нас все в порядке с культурным обликом населения? По независимым социологическим данным это далеко не так, или тут вопрос интерпретации? Никто из вас, почему-то, не хочет услышать главное – мы не просим от чего-то отказаться или что-то добавить, мы вообще не просим что-либо менять, мы лишь просим дать нам возможность вернуть подавляющем большинству их доступ к культуре.
Беглый: А самому подавляющему большинству это нужно?
Шилов: Мда, господин Беглый, по этой логике можно людей сразу подключать к ИИ, к виртуальному пространству, и больше не отключать. Видимо, Вы этого и добиваетесь…
Министр культуры: Господа, не надо перепалок в министерстве культуры, этого еще не хватало. Я услышал все, что хотел, достаточно на сегодня.»
На самом деле вся эта псевдопафосная полемика со стороны как Видова, так и Беглого с министерством была направлена только на одно – не дать подойти частному, точнее самостоятельному, капиталу к государственным процессам. Но, к счастью, для Управления и таких, как Лобов, допуск новых игроков в «нижние» госпроцессы был на руку – чем сильнее противостояние снизу, тем стабильнее их положение, так они считали. Поэтому, верхи распорядились программу утвердить, с условием, что ничего из бюджета потрачено не будет. Плюс к этому, лично Шилову от Управления было распоряжение о том, что он на постоянной основе должен следить за деятельностью новых участников, и лично за это отвечать, но это для него новостью не стало, уже на тот момент он знал, как он это будет осуществлять.
Собственно, реализовывал он все так же, как и до этого реализовывал предыдущие задачи – за счет точности получаемых результатов. Подчеркиваю именно за счет досконального соответствия запланированного и полученного, в этом соответствии и было его преимущество перед любым другим. Если же что-то менялось по независящим от него причинам, то и конечный результат пересматривался, но это было крайне редко. Вот и в этом «культурном вопросе», получив и формальное и неформальное одобрение, мы сражу же приступили к формированию новой культурной среды, не дожидаясь проведения программы по бесконечному количеству ведомств – бюрократия, как была врагом действий, так им и осталась. Разумеется, был риск, что нас могут заблокировать в некоторых моментах, но поскольку, по обыкновению, финансирование было не бюджетным, эти блокировки фатальным стать не могли ни при каких обстоятельствах. Первым же шагом того, самого важного, этапа стало проведение на постоянной основе множества массовых культурных событий. Здесь мы воспользовались уже созданной, пусть и заброшенной, инфраструктурой социально-досуговых центров, созданных для решения хотелки верхов по инвестклимату. И первым же результатом всех этих наших действий в данном направлении стал, не поверишь, рост поступлений в бюджет от культурной сферы.
Изначально мы посчитали, что это всего лишь «эффект новизны» – людям дали ощутимую альтернативу их повседневности, и после исчезновения этого эффекта, спадет и уровень активности. Но нет, активность не только не спала, но и начала нарастать. Мы было подумали, что начали появляться и первые результаты по нашей макрозадаче, связанной с решением проблемы инертности большей части населения, может он и так, только вот главной движущей силой того процесса стало не стремление к созиданию, а банальная биологическая потребность в самоутверждении. Выяснив это, мы никак не обрадовались, причина простая – природа активности, связанная с необходимостью созидания, и активность, связанная с самоутверждением, совершенно различны. Более того, самоутверждение скорее ведет к негативу. И действительно, после появления более менее многочисленных новых социальных групп, сформированных на базе расширенной культурной среды, между ними начались конфликты, прежде всего на предмет того, кто из них более «авангарден» что ли. В общем, было решено первую полученную конструкцию «демонтировать». Но, к нашему сожалению, сложившуюся ситуацию успели заметить и оценить в верхах – она им очень приглянулась, так как теперь большая часть внимания была отвлечена на противостояние между собой, а не на постоянную, пусть и ленивую критику их, причем, даже в теории, это не могло привести к какому-нибудь существенному кризису. Короче, сами того не ведая, мы создали для верхов очень удобную для них ситуацию с большей частью населения на территориях. Мы ни сколько не оправдываемся, но предвидеть мы этого никак не могли, так как это изначально была в значительной степени авантюра, мы это уже отмечали.
Сам же Авдей Наумович высказался по этому поводу следующим образом: «Да уж, видать совсем с мозгами не в порядке стало, раз я собственноручно для своих главных оппонентов создал благоприятнейшие условия. Я даже боюсь предположить, как они этим воспользуются.» А воспользовались они ей по-полной, тут же принявшись ее «якорить», да и не сложно это было: не давай культурным группам укрупняться, и постоянно подпитывай почву для конфронтации, и все. В итоге, нам пришлось вмешиваться радикально – выстраивать новую культурную среду через бизнес, через корпорации. Такого мы от себя не ожидали, но поверьте, на тот момент это был самый действенный вариант поменять ситуацию, которую мы сами же создали.
Я так понимаю, речь идет о зарождении концепции «Интеллигентный бизнес»?
Да, о нем. Только на том этапе самой концепции не было даже в прожектах. Главной локальной задачей было помешать верхам закрепить ситуацию постоянной конфронтации па почве культурных различий. Заход на решение данной задачи через частный бизнес был самым очевидным, так как, банально, у нас просто-напросто не осталось других «субъектов воздействия». На самом деле, лично для нас с Шиловым положение дел было еще более серьезным, которое могло привести к тому, что мы могли навсегда стать заштатными исполнителями, теми же аппаратчиками, если бы не разрешили тот «культурный коллапс». И для нас все могло закончиться печально по одной простой причине – мы бы полностью сами себя лишили рычагов воздействия. Так-что права на ошибку у нас не осталось. И тот небольшой ресурс действительно частного бизнеса, который, на удивление, еще остался после многовековых издевательств со стороны государства, нужно было использовать очень осторожно и наверняка.
А разве ресурса крупных частных инвесторов у вас не осталось?
Очень незначительная часть, в виду того, что большинство из них, к тому моменту, уже добилась для себя главного – вхождения во власть. Точнее, верхи позволили им так думать, а никто особо разбираться и не стал, самоощущение было важнее действительности, ничего в этом нового нет. Те же, кто остался с нами, и было то меньшинство, которое понимало, что ничего еще не решено, а тех, кто удовлетворился показухой верхов, в конечном итоге просто присовокупят к их системе. В конечном итоге, так и получилось. Но, это их проблемы, вернемся к нашим задачам. Всему нашему скудному активу, истощенному бесконечным противостоянием с госаппаратом, были озвучены следующие перспективы, лично Шиловым: «Я прекрасно понимаю, что на основании всего нашего, так скажем, резюме, доверия к нам осталось не много. Поэтому, я всего лишь озвучу наше видение дальнейшего развития событий, а вы уж, как всегда, вольны воспринять его, как хотите. Так вот, у нас есть все основания полагать, что в виду новых возможностей государства в сфере культуры, оно с их помощью привлечет к себе более девяносто пяти процентов всех конечных потребителей во всех сферах. Говоря прямо, капитала и бизнеса не аффилированного с государством практически не останется. Банальный вопрос – хотите ли вы этого? Ответ тоже очевиден. Для того, чтобы эти перспективы не стали реальностью мы видим два базовых решения. Первое – смена государства осуществления деятельности, банальный переезд. Второе – всестороннюю смену культуры ведения дел, а именно, перестать быть врагами самим себе, между собой и своим коллективам. Подробное описание и расшифровка этого предложения была вам разослана ранее. Добавлю, я целиком и полностью осознаю, что изначально это выглядит, как наращивание издержек, но, как я уже говорил, в долгосрочной перспективе, если ничего не менять, то не будет ни издержек, ни прибыли, собственно, как и ваших предприятий и организаций.» На мой взгляд, вполне доходчивое разъяснение далеко не радужных перспектив, но все это понимали и до этого. Что же касается самого предложения, то было достаточно сложным в реализации…
Вадим, тут с тобой не соглашусь, предложение было понятным и детальным, а на фоне озвученных тобой рисков, оно вообще казалось довольно-таки простым решением. Заключалось же предложение в следующем, дело в том, что Авдей Наумович подробно и методично фиксировал весь свой опыт, наработки, алгоритмы и так далее, это известно всем, кто его знает. Так вот, на основании всего своего зафиксированного опыта, Шилову удалось сформировать некую принципиальную модель предприятия, при которой получается своего рода «гармония» между прибыльностью, максимально возможной независимостью от государства, отношения с клиентами и коллективами. Строилась она на вполне прозрачных принципах, вот некоторые из них: предприятие должно быть сложно для проверки, прежде всего за счет прозрачности; существенные внутренние требования к предприятию должны быть жестче, чем законодательные требования; одно предприятие – одно направление деятельности; прозрачное бюджетирование при комплексном исполнении бюджета; затратные ожидания клиентов должны быть всегда выше реальных и тому подобное.
Только надо пояснить, что при всем при этом был еще один существенный критерий – финансовые возможности отдельно взятого предприятие не должны были превышать определенного уровня. Рассчитывался этот уровень следующим образом: объем государственного бюджета нужно разделить на количество чиновников и лиц к ним приравненных. И надо сказать, работала эта «линия отсечения» очень четко, как только отдельно взятое предприятие ее переступало, тут же инициировались какие-нибудь действия со стороны государственного аппарата в отношении него. На самом деле, этот параметр легко объясняется, если можно так выразиться, «рентабельностью действий отдельного чиновника». И кстати, этот уровень отлично работает до сих пор. Собственно, он всегда работал отлично, но до этого надо было дойти и заметить его, вот Шилов и заметил. Для всех, кто был в это посвящен, в том числе и для нас, это стало неким откровением. Нет, все, конечно же, догадывались, что некий ценз в отношении объема средств существует, но какой он в точности, никто не знал. Думаю, что даже сами аппаратчики не знали, они действовали по самоощущению, которое в точности коррелировало с этим уровнем.
Но это же только для одного предприятия и, насколько я знаю, не составит особого труда привязать какую бы то ни было организацию к конкретному хозяину.
Верно, но и по этому поводу у Авдея Наумовича было решение – делать соучредителями наиболее ценных сотрудников. Казалось бы, решение старое, как мир, даже примитивное, но как оказалось, контраргументов против этого у чиновников не нашлось. Кстати, этот ход был также частью смены культуры ведения дел…
Вот я и предлагаю к этому вернуться, друзья-коллеги. А-то мы что-то сильно в сторону ушли. Имеющиеся же у нас заметки и записи Наумовича мы обязательно опубликуем. Кто захочет, ознакомится, там действительно много полезного и существенного, но это отдельный труд. Продолжим по разрешению культурного коллапса, посредством упомянутой концепции «интеллигентного бизнеса», которая, на самом деле, заключалась в одной простой вещи – оставшимся частным предприятиям и малозависимым от государства предприятиям надо прекращать быть врагами друг другу. «Конкуренция, тем более, здоровая конкуренция не имеет нищего общего с вражеской конфронтацией, хотя бы потому, что движущей силой конкуренции является – большая продуктивность и эффективность в интересах клиента, а не целенаправленное устранение конкурента, в случае с конфронтацией.», таким образом это разъяснял Авдей Наумович. Сама же концепция предполагала переход к более быстрому реагированию и гибкости, по сравнению с крупняком и госкорпорациями. Ты же помнишь экономическую модель допроизводства? Вот она и легла в основу данного концепта. Можно сказать, что Шилов придал модели еще более прикладной характер. И вроде все с этим было нормально, но все же оставалась одна огромная проблема – параллельно с новой формой ведения бизнеса, нужно было готовить и новый тип клиентов, который бы потащил за собой остальных. И не было на тот момент понимания, где таких взять…
Вадим, ну не скажи, по-моему Наумович сразу же знал, из кого «клиентов нового» типа надо делать. Во всяком случае, весь маркетинг концепции изначально был настроен на оставшихся работников культуры и интеллигентов. Более того, я не помню, чтобы над этим моментом как-то долго бились, да и у этой группы людей всегда были особые запросы, которые игнорировались крупняком, в силу малочисленности группы и «возвышенностью» что ли. Вот через эти «возвышенные» запросы и решено было пробиваться к этой социальной группе, формируя тем самым новую потребительскую культуру, точнее, культуру приобретения необходимого. Если связывать решение этой задачи с моделью допроизводства, то получалось что необходимо дополнительно производить повседневный продукт, но с новой интеллектуальной составляющей, и каждый раз реагировать на изменение этого содержания. Проще говоря, не навязывать произведенное, а реагировать на запросы. По сути, в очередной раз, нам предстояло сформировать новый сегмент рынка – рынок интеллектуального спроса.
Получается, что всех «смиренных» хотели сделать интеллектуалами, и таким образом решить проблему инертности?
Ну нет, Юрий, боюсь, что эта задача не подвластна даже всем правительствам вместе взятым. И потом, этом было бы не только не полезно, но даже вредно, прежде всего с эволюционной точки зрения, так как привело бы к дикому усложнению и без того непростой действительности. Другой вопрос, что непонятно, почему так жестко разделяют труд физический и труд интеллектуальный – без должного интеллекта, физически будет сложно сделать что-то достойное, и наоборот, без банальных физических усилий все полеты интеллекта, так и останутся несуществующими. Вот и Авдей Наумович в своей «культурной концепции» эти типы труда не разделял: «Усилия, всегда усилия, интеллектуальные, физические, моральные, материальные, не важно, так как прикладывая одни, ты неизбежно прикладываешь остальные, в противном случае ничего в результате этих усилий не произойдет.»
И что, весь ваш актив независимого бизнеса сразу все это принял и начал действовать?
Глава 33.
Как бы не так! Еще на стадии озвучивания предложения Шиловым, большинством из них был высказан такой скепсис, что мы уже начали подумывать о том, чтобы искать другие возможности реализации концепта, но Авдей Наумович попросил их подумать некоторое время, после чего еще раз встретиться по данному вопросу. Через дней пятнадцать-двадцать состоялась еще одна встреча. Собственно, я могу кратко пересказать то, что на ней происходило. Мне она запомнилась, прежде всего тем, что это было первое на моей памяти собрание, которое Шилов проводил на достаточно повышенных, особенно для него, тонах. Говорилось на ней примерно следующее: «
Шилов: Слушайте, ну как вы не поймете, что расчищаете дорогу всему госбизнесу своими собственными руками, планомерно уничтожая друг друга. Поверьте мне, государству такая услуга не нужна, оно само прекрасно справится.
Один из старших: А что нам делать, если этот самый госбизнес уже все под себя подмял? Мы же с ним конкурировать не можем, вот и воюем друг с другом…
Шилов: И это чрезвычайно деструктивная логика. Во-первых, никто не говорит, что надо конкурировать с госкопаниями, это не реально. Во-вторых, почему обязательно нужно друг с другом воевать…
Кто-то из молодых: Потому, что в противном случае нас обвинят в корпоративном сговоре…
Шилов: Все та же, деструктивная логика. Хотя решение все это время было у вас под носом – нужно всего лишь создать новый сегмент рынка, скажем так, неудобный для государства. А у подавляющего большинства из вас схема простая – что-то сделал, быстро продал, сделал, продал. Развитием никто не занимается.
Один из старших: Какие условия созданы, так и действуем. Если даже вам до сих пор не удалось ничего изменить, то что же говорить о нас. Мы всего лишь создаем определенный образ жизни для себя, в предложенных условиях.
Шилов: Мы-то как раз новые условия для вас создавали, и неоднократно, просто вы этим не воспользовались. Но, ладно, не об этом сейчас, тем более, что каждый останется при своем. Только вот, раз уж довели до ситуации, когда ничего частного может просто не остаться, надо что-то делать, отсидеться уже не получиться.
Кто-то из молодых: Так для того и собрались, чтобы решить, что делать.
Шилов: Так давайте уже к этому перейдем, и не будем бросаться какими-то непонятными, надуманными упреками. Еще раз, наше предложение было разослано вам ранее, за две недели, думаю, можно было достаточно подробно с ним ознакомиться. Сразу говорю, стопроцентных, даже пятидесятипроцентных, гарантий я не дам, так как мы находимся еще в более рискованном положении, чем вы. Но, поскольку никто никакой альтернативы не предложил, значит вариант, предложенный нами, остается единственным.
Я: Авдей Наумович, для порядка надо отметить, что нет, не единственный. Можно уйти под опеку к Геннадию Евсеевичу Видову – преобразоваться или стать частью какой-нибудь научной корпорации. Кстати, далеко не самый плохой вариант, если есть научная база для этого, в противном случае можно просто раствориться в научной среде, и что-то мне подсказывает, что никакого из присутствующих такая перспектива не прельщает.
Шилов: Да, Елена Федоровна, согласен с Вами. Вот вам три реальные альтернативы: стать частью госсектора, частью научной сферы, или постараться сохранить самостоятельность.
Один из старших: Но история с интеграторами и кооператорами покоя не дает.
Шилов: Зато вы можете четко осознавать риски и последствия – перспектива лишиться самостоятельности, думаю, страшней. А опыт с той историей, как и со всеми остальными, учтен, вот это я вам гарантировать могу.»
Произнося эту фразу, Шилов уже фактически сорвался на крик, оно и понятно – ты людям вариант для сохранения хоть какой-то независимости, они тебе за это вспоминают все твои промахи. Вот она, расплата за инициативность и созидание. В любом случае, главное, что все согласились действовать, пусть и осторожно.
А вот мне лично, показалось, что Авдей Наумович провел то совещание в таком эмоциональном ключе, чтобы получить должное восприятие проблемы, тем самым он, так сказать, нагнетал обстановку, а-то все поначалу были какие-то уж очень расслабленные. И все последующие совещания о проводил на высоком эмоциональном градусе именно по этой причине, как мне кажется. Хотя, и без фактора усталости тут не обошлось. Сам Шилов по поводу своей возросшей эмоциональности особо не высказывался, разве что как-то он обронил фразу, типа: «Отсутствие интеллектуальной гибкости это просто какая-то беда, всеобщая патология. Уже приходиться откровенно вбивать, вкривать мысли в сознание.» В любом случае, не хочется думать, что Наумович делал что-то неосмысленно.
Надо полагать, что и решение задачи по созданию нового сегмента экономики проходило также на высоком эмоциональном градусе?



