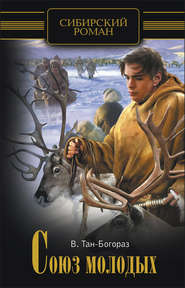скачать книгу бесплатно
И солдат объяснил, как умел, по-своему:
– Не хватает им земли.
Егор, сибиряк-новосел, еще понимал про российскую нужду в земле.
– Столько народу развелось на Руси, что негде пахать, а кое-которую землю получше разобрали купцы да начальники. Опять же и у них, у «не наших», скажем, у германцев, тесная земля, куренка негде выгнать. Вот и отнимаются и режутся все вообще.
– А чего это – куренок?
– Птица!..
И еще большое дивовались простодушные поречанки:
– Зачем же выгонять куренка, когда можно убить его и съесть.
Мало земли!.. А в Колымском обширье о поселок от поселка стоит на тридцать верст, и в поселке два дома и только, и столько земли, что хватило бы сразу на всех, и наших, и не наших. И каждый человек на счету. Человек – это богатство.
– Дети – богатство наше! – говорит Колыма.
Ребятишки ходили за Безруким табунами. Викеша, и Егорша, и Андрей, и Савка Якутенок, из старого шаманского рода. Имя его было Прокофий, но его называли не Пронька, а Савка, по деду-шаману. И Пака Гагарленок, – тоже Пака, по отцу, – острый, суматошливый, кудлатый, похожий на сорокопута. И еще двое братьев. Имя обоим было Микша[17 - Микша – от «Николай» (Миколай), как Якша от «Яков», Кирша от «Кирилл».], одного называли Берестяный, другого Крутобокий. Берестяный был крепкий, веселый и гладкий, как белая береста, а Микша Крутобокий был кожаный, жесткий, похожий на чукотского бога, каких выставляют на праздничных санках и мажут им губы салом. У Микши Крутобокого, кстати же, была и привычка постоянно облизывать губы языком, как будто он слизывал чукотское жертвенное сало.
И девчонки, Хачирка, и Сельдятка, и Машура Широкая, и Фенька Готовая, и Аленка Гусенок, и Лика Стрела. Все они подросли за последние годы. Коноводу всей партии, Викеше, уже миновало двенадцать. Они держались в стороне от больших и от очень маленьких, устраивали особые игры, например, начали играть в войнишку.
Они делились для этого на две партии: «наших» и «не наших». Дальше этого в своих обобщениях они не пошли. Вообще же в распределении побед и поражений они были вполне беспристрастны. Например, «не наши» частенько нападали на «наших» и давали им здоровую трепку.
Японская война на севере не выразилась играми. Но эта вторая война, таинственная и ужасная, задела фантазию даже у колымских подростков. А тут был живой источник, из которого можно было почерпнуть заманчивые знания об этих беспричинных, жестоких и вполне непонятных делах.
Они смотрели Егору в рот и задавали вопросы без счета: «Чем дерутся и зачем дерутся? И куда они девают убитых и что они едят на войне?» Последние вопросы задавали девчонки. Возможно, что они подозревали жестокую Русь в смешении войны с охотой, то есть в людоедстве.
VI
Однажды на обрыве над речкой Егор стал рассказывать. В сущности, это не был рассказ, а отрывочный ряд воспоминаний, и то, пожалуй, не личных, а общих солдатских, навеянных Егору массовым ощущением войны.
– Крыли нас немцы, почем зря. Нос высунешь – нос отстрелят. А голову – так голову. Зарылись мы в землю, как змеи. Лежим, шипим. Яд наш при нас. И вдруг подходит ко мне юнкирь.
– Вставай, сукин сын! – А мне встать неохота. Так он меня кнутом. – Ух ты! – А мне встать неохота. Так он винтовку схватил, да штыком меня, штыком. – Вставайте! Всех переколем!.. – Тут мы встали, пошли. А немец и почал поливать. У него пулемет-отгонялка. Что жиганет, то полоса. Сунулись назад, а у наших пулемет-погонялка. Все та же смерть. От своих еще обиднее.
Хачирка всплеснула руками:
– От чужих, от своих!.. Народы, народы немилосливые.
– Некуда нам деться, побегай. Добегай до окопов, а там проволока в три ряда повешена, как сеть. Мы давай рубить да резать. Кто и застрянет на проволоке, как жук. Тут, там, везде вопят да бьются. Которые прорвались, тех немцы покололи. Тут мы назад повернули вполне.
– Как гуси в сетях, – промолвила Фенька Готовая.
Люди, повисшие на проволочной сетке, напомнили ей птичьи охоты. Колымские охотники жердями и камнями загоняют в губительные сети тысячи линялых гусей, а потом бьют их палками, или душат руками, или еще проще – перегрызают им горло зубами.
– А кто это юнкирь с кнутом, – спросил неожиданно Викеша, – русский?
– А то кто, чужой? – жестко ответил Егор. – Русский, конечно. Русский что лошадь – без кнута не возит.
– Не путай, сибиряк, – сердито отозвался Викеша. – Русский бьет, и русский возит?.. Врешь ты! Русский, конечно, стегает челдонов.
Они успели узнать про Егора, что он «сибиряк-дурак», из тех самых сибирских челдонов, которых некогда завоевал Ермак.
Новоселы упрекают староселов, сибирских челдонов, что это их собственных предков завоевал Ермак, а совсем не одних полевых кругоходов татар.
– У, какой вострый, – сказал хладнокровно Егор. – А ты сам кто, русский?
– Русский! – сказала за Викешу Аленка с известной гордостью. – Политика русская. Его отец на царя бонбами бросался.
– Важное кушанье, – сказал презрительно Егор. – Мы на войне сами бонбами бросаем… А российским попадает поболее сибирских. Сибирского достанешь либо нет!.. Всех больше на свете битые русские.
– Кто с кнутом? – настойчиво спрашивал Викеша.
– Известно, начальство, офицер!..
– А какое ему имя? – негромко спросил Викеша. Ему почему-то представилось, что Егор ему скажет: Авилов.
– Какой имена!.. Мы разве спрашиваем? Он тебе имя свое пропечатает на морде…
– А я бы его бонбой, – сказала Аленка Гусенок своим сладким, слегка шепелявым голоском.
– Кого? – спросили ребята, заинтересованные.
– Того, который бьеть – сказала Аленка спокойно и упрямо.
Безрукий пожал плечами.
– А может, и мы?! – сказал он загадочно.
Викеша молчал, в душе его двоилось. Русь бьет, Русь бьют… Бывают различные Руси.
– Я бы убежала, не пошла, – воскликнула Хачирка.
– Быват, убегают которые в леса, – согласился Егор.
О, в леса – это было знакомое.
– Есть нечего в лесах, – объяснил Егор, – на волчьем положении.
Дети молчали, словно взвешивали, которое положение лучше, человечье или волчье.
– Трудно идти на войну, – сказал Егор. – Когда уезжали на машине, жонки с ребятами ложились под машину: задави нас, машина, до смерти, чем с милым разлучаться!..
И это было знакомое. Горечью внезапной разлуки была напоена кочевая колымская жизнь. Хачирка даже пропела тихонько:
Прощай, радость, жисть, веселье,
Слышу, едешь от меня.
Нам должно с тобой расстаться,
Тебя мне больше не видать.
А потом помолчала и вздохнула:
– Какая ваша русская жисть…
– Такая, – ответил Егор… Он долго молчал и вдруг затянул тоненьким, чуть слышным голоском:
Из-за речки, за быстрой,
Становой едет пристав.
Ой, горюшко, горе, горе,
Становой едет пристав.
– Чего это ты поешь? – спросили дети.
– А это русская песня. Вот там, где война была, там и поют. А вы не молчите, подпевайте.
За ним письмоводитель,
Сущий вор-грабитель.
И дети подхватили с привычной певучей ухваткой:
Ой, горюшко, горе, горе,
Сущий вор-грабитель.
Самая несчастная, злая российская жизнь!..
VII
Якутскую торговлю словно отрезало ножом. Не стало ни привозу, ни отвозу. Словно Якутск переехал на луну или прямо на тот свет.
Худосочный Колымск неожиданно стал задыхаться от обилия ненужной пушнины, готовой одежды, даже драгоценной белой юколы, которую зимою возили в Якутск по морозу. Никакой осетровый балык не может сравниться с юколою из колымского чира. Но теперь приходилось колымчанам самим потреблять свои рыбные лакомства.
Главная беда – не стало чаю, табаку, сахару, ситцу, железа, не стало ничего.
Что было у купцов, они припрятали в подполья или прямо закопали в подземных тайниках, чтоб люди не нашли и не отняли.
С удивлением и гневом Колымск, раньше полунезависимый от южной Руси, которому главное – была бы святая рыбка, наглядно ощутил, какая крепкая пуповина соединяет его с культурой. Но теперь в этой пуповине кровь перестала пульсировать.
Без русского прядева и нити не было сетей и нечем было даже ловить святую рыбку. Приходилось плести кое-как ивовые верши. Без пороху и дроби приходилось приниматься за дедовский лук.
Но от сознания этой тесной связи с югом еще более негодовал Колымск.
– Не пропущают, ничего не пропущают. Чаю ни маковой росинки, сахару ни зернышка. Злая Русь!
Раньше в Колымске говорили: «Мудреная Русь» и этим отдавали дань почтения всем выдумкам культуры, старой и новой, от церковной восковой свечи до граммофонной пластинки. Ведь был и в Колымске граммофон.
Но теперь колымчане были готовы пуститься походом на Русь и силой отнять задержанные богатства.
Вестей и гонцов из Якутска тоже не бывало. Доходили, неизвестно откуда и как, тяжелые, мутные слухи: режутся, воюют.
Тут где-то воюют, под боком, в самой Якутской губернии.
– Вот так на! – судили колымчане. – Апонцы или кто иные пришли. Столько народов воюют. Мог какой-нибудь добраться и до Ленского угла.
Другие слухи, более неопределенные, но вместе и более понятные, разъяснили:
– Никто не пришел. Сами воюются, режутся, режут друг дружку.
Собственно о революции, о революционном правительстве в Колымске не слыхали. Однако как раз через год, в июле 1918 года, в Колымске, вообще привыкшем ничему не удивляться, случилось новое чудо.
Съехал исправник из полицейского дома, так неслышно и скромно съехал, словно рассчитанный приказчик. Конечно, никто его не рассчитывал. Он сам рассчитался, рассчитал, что пора уходить, и съехал на квартиру к своей «экономке» Палаге. «Экономка» – по-колымски любовница. Очевидно, подход экономический. С собою исправник не взял ничего, ни казенных бумаг, ни вещей. Из собственных вещей взял самое необходимое, носильное платье и две колоды новых, неразодранных карт. Даже мундиры свои и шапку с кокардой, орленые пуговицы и шашку с портупеей оставил на квартире при полиции, как достояние казны.
У Палаги был собственный невод, справленный, конечно, на исправничьи деньги. На другой день после своего отречения от власти, колымский Цинциннат[18 - Цинциннат – римский диктатор, покинувший власть, для того чтобы пахать землю на собственном участке.], вместе с Палагой и ее косоглазым братом, сели в неводный карбас и выехали за сто верст на рыбную заимку.
На колымчан это дезертирство исправника произвело впечатление гнетущее. Главное, вслед за исправником сбежал и помощник, и дежурные казаки, и писцы – и тоже бросили бумаги и пуговицы. Полиция осталась как будто чумовая, запустелая.
Последним оставался престарелый Олесов Никола. Ему было семьдесят лет. По имени он звался совсем не Николай, а именно Никола, по святому Николе Мокрому, и имел серебряный крестик за выслугу лет. Он просидел три дня совершенно один, но оторопь взяла и его. И он ушел.
Дошло до того, что даже те грозные двери, куда колымчане ходили на поклон и носили посулы, стали заплетаться паутиной.
Городу, однако, нельзя было оставаться без власти. Была казенная пушнина, хлебный и соляной магазины, боевые припасы, да мало ли что.
«Как бы не ответить за это», – подумал Колымск.
И как-то само собой составилось новое колымское правительство, деловое и нейтральное.
Оно составилось тоже из чиновников, но преимущественно из опальных, отставных, отстраненных от власти – за что? Разумеется, за взятки, воровство и так далее. Они состояли многие годы под судом. Но как только ушло настоящее начальство, эти подсудимые его заместили по праву.
Они себя назвали: «Народное правительство» – почему же народное? Очевидно, неопределенный дух демократизма, даже при отсутствии вестей, как-то сообщился с юга на Колыму.
Возглавляли это правительство два отставных подсудимых. Трепандин, бывший заседатель, отданный некогда под суд, но отказавшийся ехать в Якутск на разбирательство. Судили его заочно, приговорили к лишению прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Но так как достать его из Колымска не удалось, то ему и назначили ссылку в этом самом Колымске. Колымск, без сомнения, и был отдаленнейшим местом Восточной Сибири.
Был он человек пожилой, зажиточный и по-своему весьма уважаемый в городе.
Другой отставной подсудимый был Бережнев Екимша, иначе Екимша Качконок из девичьей семьи, не лучше, чем девки Щербатых. Корень этой семьи пошел от бабушки Катьки. И оттого эту ветвь Бережневых звали Качконки, Катериничи, Бережневы, Бережные – на Колыме, это очень ветвистый корень. Есть Бережневы Ростопыри, и Бережневы Лапкины, и Бережневы Брехуны. Но Бережневых Качконков стали отличать особо. Екимшу всегда называли вместо батюшки по матушке: Еким Катеринич Бережной. Насколько Трепандин был маленький, тощий, корявый, с якутскою редкой бородкой, настолько Еким Катеринин был высокий, белявый, сырой, весь слепленный из славянского белого недопеченного теста. Он был казачьим командиром и под суд угодил за растрату казачьей муки. Растрату произвел в Верхоянске, а в Колымск сбежал, как в убежище преступников.
Знамя восстания против этого странного правительства поднял макарьевский батрак, Митька Ребров.
VIII
Митька Ребров писался «из якутского рода», но, в отличие от других колымчан, по-якутски говорил плохо. У него были светлые волосы и ужасные монгольские широченные скулы. Был он здоровый, плечистый, работал за двоих. А если устанет, закладывал за щеку черную жвачку из накипи табачной, выскребленной из его же собственного трубочного мундштука. Накипь была горькая, как желчь, и на жвачку годилась отлично. От нее пропадала усталость, как от крепкого вина.
Митька собственного хозяйства не заводил и с детства ходил в батраках у того же Макарьева. Получал он одиннадцать рублей на макарьевском чае и табаке. Пища на Колыме не считается. Жалованье Митькино было собственно двенадцать рублей, но Макарьев высчитывал рубль.
– Уж очень беспощадно изводишь табачишко, – говорил он в объяснение.
Митька помалкивал, и если в промежутках работы добудет какую лисицу или песца, сдавал их тому же хозяину. Плату выбирал портяным, т. е. тканями, из которых, как известно, шьют порты, и готовой меховой одеждой. У него были рубахи из серого сатина, что на Колыме считается щегольством, варваретовая куртка, подбитая лисьими лапками. Варварет, т. е. плис, на Колыме дороже наилучшей лисицы-огневки.