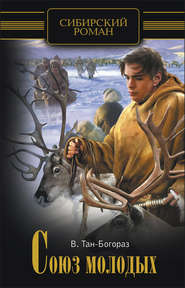скачать книгу бесплатно
– Давайте сказки сказывать! – предложила Фенька Готовая.
Сказок на Колыме было великое множество. Тут попадались русские, чукотские, якутские, тунгусские и даже американские индейские сказки, которые переплывали Берингово море вместе с китоловами и спиртовозами из Сиэтла и Сан-Франциско. Ребятишки и сами умели сочинять и даже устраивали состязания, кто скорее и лучше расскажет. Но самые лучшие сказки знала Машуха Березкина, короткая широкая девчонка, как будто выпиленная из сосновой доски.
– Какую сказывать? – предложила она, даже не дожидаясь приглашения.
– Едемную! – пролепетала Аленка, которая забыла о трепке и жадно раскрыла рот от ожидания.
– Зили-были старик и старуха, – начала Машуха особым шепелявым, свистящим, низким голосом. – У них были три дочки, Оселочка да Иголочка, да Метелочка. А еды у них было: олений бок, сохачиная голова, фляга жиру, вязка рыбы сушеной, сотня мороженой.
– Нельма, – прибавила Аленка вдруг.
Сказка сочинялась тут же на месте, и слушатели имели право делать вставки по своему желанию и вкусу.
– Не мешай! – огрызнулась Машуха. – Вот они как стали йисти, как стали йисти, съели этот бок, и голову, и жир, и рыбу…
– И нельму, – прибавила Аленка упорно.
– Девки, молчите! – крикнул неожиданно Викеша и вскочил на ноги.
Сказка оборвалась. Девчонки смотрели удивленно на буйного мальчишку.
– Молчите, не дразните. Кусаться стану!
Сельдятка засмеялась.
– Да ты, видно, правду людоед! – бросила она задорно.
– Молчи, зараза! – крикнул Викеша запальчиво. – Уйду я от вас!
– В чукчи иди! – поддразнивала Сельдятка. – Там мяса много.
– Тьфу, проклятая! – Мальчик отплюнулся длинным сердитым голодным плевком и быстро зашагал по улице, проходя сквозь Голодный Конец. Тут обитала вся городская голь, сироты, старухи, сифилитики, городские нищие, двое Егоршей – Егорша Худой и Егорша Юкагир. У многих не было даже настоящей избы, и, несмотря на лютый холод, они ютились в каких-то странных гнездах, выплетенных из ивы, как старая корзина, и засыпанных землей. Другие помещались в хатонах, старых хлевах, сложенных из стоячих плах, замазанных глиной и навозом. В таких хлевах якуты помещаются вместе со скотом, и скот, по крайней мере, греет их своим теплым дыханием и гниющим навозом. Но здесь приютился в хлевах человеческий скот, слишком тщедушный и тощий, чтобы рождать из себя тепло.
На Голодном Конце не было ни одной коровы и даже упряжных собак на дворах было меньше, чем двуногих под жалкою крышей.
Солнце понемногу собиралось всходить. Восточный край неба оделся яркими огненными перьями. Это «заря-заряница» в своей нарядной шубке из красных лебедей открывала дорогу своему золотому отцу. Уже загорелся венец на косматой ее голове, не вычесанной на ночь. Ибо с апреля заря перестает чесать свои алые косы, снимает свой облачный шлык и ходит простоволосая.
Ледяное стекло загорелось на реке, обнаженной от верхнего снега. И вместе с зарей и рекою загорелись глаза и у мальчика Викеши. Но в это погожее утро они горели зловещим волчьим блеском.
Он был страшен, этот маленький комок человеческих мускулов и хищного голода.
«Убить бы кого!» – думал он, разглядывая улицу. Но на улице не было добычи. Свистнул снигирь, каркнула ворона, пролетая. Она тоже искала добычи, не хуже голодного мальчика.
В лесу и на реке не было ни жизни, ни добычи.
«Еда у людей!» – подумал Викеша.
На другой стороне речки, за утлым мостиком, жили богатые торговцы в просторных домах, с настоящими стеклами в окнах, с амбарами, полными рыбы. Тут был запасной магазин с казенной мукою и солью. Но крепкая дверь магазина была замкнута троевинчатыми замками, и их охранял часовой, казачок Алеха Выпивоха.
«Там есть!» – думал мальчик. На него словно нанесло через речку дымным запахом копченой юколы.
IV
В маленькой избушке налево дверь отворилась, и вышел старичок, сутулый, почти горбатый, в парке-балахоне из мешочного холста, туго подпоясанный ремнем. Это был Пака-Гагара из рода Гагарленков[15 - Пака – Пашка. Гагарленок – гагарий птенец.]. За ремнем у Паки торчал крошечный топорик, сточенный до самого обуха. Железо на Колыме скудное, и даром его не бросают. Топорные обушки, сточенные до самого нельзя, служат для мелких домашних работ. На плече у старика был мешок, вернее, другая парка из такого же мешочного холста, только отороченная красным, должно быть, женская.
«Куда он?» – подумал мальчик с минутным удивлением. Топор говорил о дровах, но в лес за дровами ходят не с мешком, а с санями.
Пака перешел через речку по узкому мостику, дошел до полиции и остановился под окнами у самого исправника, постоял, подумал, даже руку поднял, сперва хотел постучать, потом двинулся по улице вперед, дошел до переулка, где был поворот к казенному складу, опять постоял и вернулся назад, прошел по переулку, ведущему к дому богатого торговца Архипа Макарьева. И тут тоже постоял и опять повернулся и прошел к складу Он сделал это странное путешествие три раза, и наконец Викеша прочитал по петлям его запутанных шагов, как по печатным строкам: «Выбирает! Какое – казенное или макарьевское?»
Пака действительно вышел на улицу с дерзким и злым замыслом против чужой собственности, во как будто не мог выбрать, какую ему собственность нарушить, казенную или частную. Он колебался, но его колебания были всецело вещественного свойства. В казенном складе были мука и соль, а в макарьевском амбаре сладкая пища туземного люда, «жизница», ожива, источник бытия поречан, святая питательница рыбка. Посягнуть одновременно на то и на другое духу не хватило даже у дерзкого Паки.
Время было для предприятия Паки особенно удачное. В этот предутренний час, уже после восхода раннего весеннего солнца, все жители спали наикрепчайшим сном, даже птицы, щебетавшие неугомонно круглые сутки, смолкали на полчаса. Ветер затихал, тоже словно сонный. Казак, стороживший казенную муку, давно вернулся в караулку и спал как убитый, крепко обнимая данное ему ружье, символ его власти и позиции, вместе полицейской и военной.
Наконец Пака решился. Он обошел кругом обширную усадьбу Макарьева. Усадьба была огорожена тыном, но с каждой стороны были пролазы, особо для взрослых и также особо для ребятишек.
Он шел вперед, а Викеша следовал за ним на расстоянии неслышно, как горностай. Пака весьма хладнокровно пролез сквозь забор, подошел к амбару, стоявшему посредине двора, подсунул топорик под ржавый пробой: «Дрык!» – внезапным усилием он выдернул все: и скобку, и накладку, и висячий замок. На Колыме запирались некрепко. Воровать же вообще не воровали.
Правда, исправник и помощник воровали, но они это делали иначе, помимо пробоев и замков.
Сломав замок, Пака раскрыл дверь и вошел внутрь.
– Как в свой амбар вошел! – сказал себе Викеша с восхищением и завистью.
Через минуту Пака уже выходил из амбара обратно. Мешок на плечах его раздулся, потолстел и стал не меньше самого Паки. Из устья торчали два широченных рыбьих хвоста. Святая рыбка победила чужеземную далекую муку. Мука, кроме того, была затхлая, а рыба свежая, мороженая, та самая рыба-строганина, которая составляет лучшее блюдо северного сыроядно-натурального стола. Едят строганину сырьем, нарезав широкими тонкими стружками без соли и без перца.
– Рыба… Чиры!
Двуногий горностай в свою очередь скользнул в амбар, по примеру грабителя, и отколе ни возьмись туда же посыпались снаружи такие же небольшие, проворные, поджарые фигурки. Викеша даже свистнул от удивления. Тут был Андрейка и другой мальчик Тимка, и девочки Хачирка, и Сельдятка, и Шурка Стрела, и Федосья Готовая, и даже пятилетняя ковыляющая Аленка Гусенок. Они нырнули в амбар, как мыши, и тотчас же выскочили вон, прижимая к груди как будто по серебряной лопате.
– А ты что, Аленка? – прошипела с удивлением Сельдятка.
Аленка удовлетворила свою страсть к крупным нельмам и тащила уже не лопату, а целую доску. Но нельма уперлась головой в порог и отказалась выходить. Аленка зашипела и фыркнула, совсем как горностай, и так поддернула упорную добычу, что вместе с ней перелетела через порог и кувыркнулась в снег.
Дети убежали, как волчата, с захваченным куском прямо в лесную чащу, укрывающую одинаково и жертву, и хищника, но Пака прошел переулком, как прежде, и пошел по дороге. Его мешок был слишком тяжел, чтоб тащить его в лес. К тому же его гагарлята ждали не в лесу, а в избушке на Голодном Конце.
Ему приходилось проходить мимо макарьевской усадьбы с другой, лицевой, стороны. Но, дойдя до ворот, он остановился, как будто поперхнулся. В воротах стоял сам старый Архип Макарьев, смотрел на солнце и скреб горстью широкую сивую бороду.
Макарьев был человек неторопливый, насмешливый и хладнокровный. Также и на этот раз, видя такое необычайное явление, как старого Паку с огромным мороженым уловом, спокойствия ничуть не потерял.
– С промыслом! – приветствовал он Паку.
Пака промычал что-то непонятное.
– Где Бог дал?
Наполненный рыбой мешок опасно закачался у Паки на плече, но Пака удержал его и двинулся вперед, собираясь пройти мимо.
– Моя рыба! – сказал Макарьев решительно. Он узнал своих мороженых чиров по виду и по масти, как другие узнают лошадей.
Пака неожиданно рассвирепел.
– Твоя, так бери! – пискнул он голосом, пронзительным, как дудка. – Бери!..
Он шваркнул об землю свою трехпудовую ношу и облегченно выпрямил свою хилую спину. Мерзлые чиры поплыли из мешка по скользкому снегу в разные стороны.
– На, на!
Пака нагибался, хватал чиров и бросал их в Макарьева. Один чир, брошенный особенно яростно, ударил Макарьева плашмя в грудь и прошелся широким хвостом по его окладистой широкой бороде. Даже по носу щелкнул концом плавника. Колымчане вообще рыбою драться мастера, и на летних промыслах порою раздают друг другу здоровых лещей, правда, не лещами, а чирами и пузатыми нельмами. Но Пака затеял драться мороженой рыбой, твердой, как нарубленные доски.
Выбежали собаки и стали, урча к хрипя, растаскивать лакомый груз.
– Поцам, проклятые! Прочь! Поцам!
Макарьев споткнулся и брякнулся грудью на свое погибающее добро. Пака с сердцем дернул свою реднину, такую же тощую, как прежде, и поплелся домой к своим голодным гагарлятам.
Макарьев осмотрел свой замок и даже испугался, несмотря на свое хладнокровие. Сколько ни стояла Колыма, не бывало такого, чтобы бедные ломали замки у богатых и уносили пищу прямо среди белого дня.
Правда, экономика колымская была какая-то игрушечная, вроде игры в бирюльки. Все продавалось, начиная от труда и кончая девичьей честью. Продавалось задешево уже потому, что не особенно ценилось даже основными владельцами. Платили не деньгами, а едой или товаром. Деньги вообще ходу не имели. Колымчане считали, как дикие чукчи, на чай и табак, например, нанимались в батраки – три кирпича чаю в месяц, папуша табаку, ситцу на рубаху, дрели на порты, сары, полусарки[16 - Обувь.] и так далее, во всю бесконечную длину потребительского списка.
Более дешевые вещи считали на рыбьи хвосты.
Парни распевали довольно известную песню:
Вот Чичирку за хачирку,
А Аленку за чилим.
Песня эта требует пояснения. Чичирка – женское имя. Хачирка – мелкая сушеная рыба. Чилим, силим – жвачка табаку. Таким образом, характер вышеуказанной торговой операции становится ясен.
«Малые люди», разумеется, были в долгу у «больших», но они не относились к этому очень серьезно. Поймает, например, тот же Пака в капкан неожиданно, почти против воли, хорошую лисицу-огневку, он не несет ее к своему постоянному «хозяину», точнее кредитору, Явловскому, а норовит продать ее из-под полы другому и непременно за наличный расчет.
Каждый из малых людей был в долгу, как в шелку, и его положение было такое: отдашь по закону, засчитают за долг и больше ничего не дадут. Сделки, таким образом, помимо всяких долгов, производились за наличный расчет. Это было, в сущности, начало естественной отмены долгов.
На другой день к обеду исправничий «драбант» Дормедонт привел Паку на суд пред грозные очи его высокородия. Пака не сробел, пошел. Даже вскинул на плечо ту же добавочную двойную реднину – мешок.
– Ты, что ли, сломал амбар у Макарьева? – грозно спросил исправник.
– Не запираюсь, я! – спокойно ответил Гагара.
– Да как же ты смел! – вскипел исправник. – Да я тебя в холодную посажу!
– Посадишь?.. – Лицо Паки сморщилось, как у собаки, готовой укусить. – Посадишь, да?.. А гагарленков моих кто будет кормить? Пятеро их у меня. Вот приведу и оставлю в твоей канцелярии, кормите их, да, вы, начальники!.. – Пака перешел в наступление. – Отольются вам наши слезы! – визжал он своим колющим, как дудка, голосом. – Голодные сидим. Не унес я ничего у твоего мордастого Макарьева. На, смотри, и мешок пустой! – Он дернул реднину и чуть не задел исправника по лицу. – Но вы погодите, мы вам покажем! – Пака повернулся и вышел из двери, волоча за собою свой пустой мешок.
Так и не посадил исправник Паку в холодную. На это было несколько причин. Первая причина: в Колымске не было холодной. Согрешивших казаков и мещан сажали в караулку, к старику Луковцеву, постоянно сторожившему казенный магазин. Алеха Выпивоха, казачок, представлял охрану временную и вовсе бездомовную.
Луковцев был тоже из «малых людей», к тому же он вел дружбу с Павлом Гагарой. Посадить Паку в караулку было не лучше, чем послать его домой. И власть предержащая предпочла отпустить его просто и без затей. Кроме того, арестованным надо было платить кормовые по 98 коп. на человека в день. Таким образом, Пака на двухмесячной высидке мог обойтись казне рублей в шестьдесят. Меньше двух месяцев назначить было невозможно. В расчеты исправника совсем не входило выдавать правонарушителям на реке Колыме хорошие казенные премии.
Так совершилась на реке Колыме первая экспроприация.
V
1914 год выдавался обилием промысла. Рыба, пушнина, олени на тундре и лоси в лесу – всего было вдоволь. Даже ламуты заплатили торговцам свои невероятные долги белками, песцами и горностаями. Природа словно хотела побаловать людей в последний раз перед нависшей грозой. Но о грозе никто не думал. Среди всеобщего обилия Голодный Конец на время перестал соответствовать своему прозвищу. Гагарленки старого Паки набивали отборною рыбою свои ненасытные зобы, и Щербатая выть жевала и мяла еду своими щербатыми ртами.
Ребятишки отбились от дому. Летом в каждом ручье есть еда и можно промышлять рыбу хоть штанами, как в юкагирской сказке. Викеша Казачонок больше не клевал краснощекую Аленку своим вороньим носом, и оба они карабкались рядом на склоны рыжих скал, выбирая из-под папороти крепкую и твердую бруснику, как красненькие бусы. И так настала осень с тихими ночными морозами, с первой, особенно сладкой мороженой рыбой – строганиной.
В октябрьский вечерок Андрейка и Викеша уже пробовали лепить молодые снежки из густо нападавшей пороши. Мало им было дня, так они прихватили и вечер. Как вдруг проступал по звонкой земле скачущий конь своими подкованными копытами. На всей Колыме три подковы, и те завезены с юга и прибиты для счастья над воротами у трех казаков.
Конь проскакал и запнулся у калитки.
Нарочный… Гонец из Якутска.
В 1881 году по сонным улицам Колымска впервые проскакал такой сверхъестественный гонец с воплем и воем: «Убили царя, убили Лександру второго!» И жители заперлись в страхе. Убили царя – все равно что убили Бога.
Вот тогда сразу решили поречане: «Безбожная южная Русь, ежели не побоялась, убила царюющего бога».
В 1894 году другой гонец привез на гриве лошади новую весть: «Царь помер, тоже Лександра, по счету третий».
Но тут колымчане уже осмелели, и чей-то голос из темноты крикнул с простодушным любопытством: «Сам, али тоже убили?»
И гонец объяснил, во избежание недоразумений: «Сам подох».
На Колыме, как сказано, вещи называются естественными именами.
А еще через десятку, в 1904 году, гонец принес на уздечке коня хлесткое слово «война». Теперь на четвертую десятку новый гонец принес новую войну. Две царских смерти и две войны – вот был итог новостей, приходивших с далекого юга за сорок лет в заброшенную Колыму.
Война Колымы не касалась. Там не было рекрутчины ни раньше, ни теперь. Туда забегали порою беглые солдаты, дезертиры-новобранцы, да там и оставались, укрытые тяжелым бездорожьем от воинской комиссии, – даже семьи разводили и пускали новый корень. От них на Колыме и Индигирке пошли такие имена, как Солдатовы, Забегловы.
Но все же наутро весь город говорил о неслыханной войне. С целым светом задралась мудреная южная Русь. С нами четыре державы, а то пять, а то шесть. А с «ними», с «теми» – три, а то четыре. И хотя 4–6 больше, чем 3–4, но колымские политики, вспоминая недавнюю русскую встречу с азиатским японцем, решили беспристрастно: «Отдуют опять».
По-прежнему жила Колыма. Собачники ездили на тундру к чукчам за оленями, и на зимних посиделках парни бросались с размаху к девицам на колени, чтоб крепче притиснуть к скамье, и смачно целовались с ними, и «корогод» (хоровод) выпевал посредине избы:
Кинуся, бросюся,
Кинуся, бросюся.
Маме Маше на ручки,
Маме Маше на ручки,
Я на Маше посижу, я на Машу погляжу,
Поцелую, обойму, надеждушкой назову.
По-прежнему пришел конский караван из Якутска, навьюченный чаем, мукой и сахаром и разными припасами и даже, к удивлению, спиртом, в плоских, трехведерных бочонках, несмотря на строжайший запрет. Правда, спирт продавался впятеро дороже, чем прежде. Но не все ли равно. В сей год Колыма была богата. Ей было чем платить. Ничего не изменилось.
Но мало-помалу, из обрывков газет, из темных неясных и ползучих слухов сложилось суждение: светопреставление на юге. Всякие народы, и «наши», и «не-наши», ум потеряли и режутся, грызутся хуже волков и медведей.
Однажды солдат, искалеченный, безрукий и навеки перепуганный, забежал в Колыму, прямо с далекой польской Равы, за десять тысяч верст.
Левая культяпка служила ему вместо отпускного билета. Но он чувствовал себя дезертиром, беглецом и порою просыпался по ночам с криком: «Идут, зовут!» Свое настоящее имя он тщательно скрывал, и называли его поречане Егорша Безрукий.
Был он иркутянин, сибиряк, хотя из семьи новоселов. На Раву попал сейчас же из телячьего вагона с надписью: «Сорок человек, восемь лошадей», – угодил под пулемет, под завесу огня, под буханье тяжеловесных прусских «берт» и видел в сущности один короткий бой, но все же каким-то чутьем он знал самое безумное и страшное о битвах и потерях, и осадах. И он рассказывал чуть слышным голосом, зажмурив глаза, как прячутся люди месяцами в земляных окопах, а потом бросаются вперед и рвут свое тело о колючую проволоку и колют друг друга штыками, а сверху железные птицы, с пулеметами на спине, поливают их бомбами, а птиц этих снизу стреляют и бьют на лету.
И простодушные колымские люди ахали и ужасались: безбожная, немилостивая Русь, хуже диких зверей, злее убийственных чукчей!
– А за что они бьются? – спрашивали бабы.