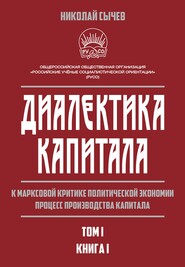
Полная версия:
Диалектика капитала. К марксовой критике политической экономии. Процесс производства капитала. Том 1. Книга 1
В этой связи Г. Кэри полагал, что принцип индивидуализма является основополагающим в социальной науке. Подытоживая суть своих размышлений о ее природе, он писал: «Социальная наука имеет предметом человека и его деятельность, стремящуюся поддерживать и улучшать свое положение. Она есть наука о законах, управляющих человеком в его деятельности, стремящейся упрочить за ним высшую степень индивидуальности и развивать в нем наибольшую склонность к ассоциации с себе подобными».[220]
В соответствии с подобной трактовкой Г. Кэри разработал метод робинзонады, который он широко использовал при исследовании такой сложной проблемы, как происхождение общества. Опираясь на этот метод, Г. Кэри утверждал, что первоначально Р. Крузо, живя на необитаемом острове, вынужден был работать один. Но как только к нему присоединился Пятница, возникло общество. В чем же заключается сущность самого общества? Не в том ли, что вместе с Р. Крузо на острове существовало другое лицо? – спрашивал Г. Кэри. И отвечал: «Конечно, нет. Потому что, если бы Пятница не заговорил с Крузо и не стал бы обмениваться с ним услугами, то общества еще не существовало бы. – Общество, или, другими словами, ассоциация возникла с появлением обмены услуг. Так как каждый акт ассоциации есть в то же время акт сношения, то слова «общество» и «сношение» суть только различные выражения того же понятия».[221]
Согласно Г. Кэри, для возникновения такого отношения необходимо наличие различий между указанными лицами. Дело в том, что «если бы Крузо и Пятница обладали одними и теми же способностями, то между ними не могло бы существовать сношений, как между двумя атомами кислорода или двумя атомами водорода. Но если привести эти элементы в соприкосновение друг с другом, то произойдет соединение; тоже и с человеком. Общество состоит из соединений, происходящих от существования различий. В обществе, ограничивающемся одним земледелием, едва ли существует ассоциация; но она встречается в полной силе там, где земледелец, адвокат, торговец, плотник, кузнец, каменщик, мельник, прядильщик, ткач, архитектор, железный заводчик и фабрикант машин входят в состав общества».[222] Иначе говоря, общество возникает лишь при наличии такого существенного условия, как разделение труда между отдельными индивидами, каждый из которых занимается определенным видом хозяйственной деятельности.
По мнению Г. Кэри, как и в органическом мире, в обществе склонность к ассоциации увеличивается по мере возрастания различий. Однако эта тенденция находится в прямом отношении к гармонии условий существования его отдельных частей. Поскольку человек, в отличие от других животных, обладает способностью к прогрессу, то эта склонность растет вместе с развитием его способностей, упрочением данных условий, соответствующих жизнедеятельности каждого человека. «Таким образом, ассоциация возрастает с возрастанием различий и уменьшается с их уменьшением, пока, наконец, не прекратится всякое движение, как это случалось во всех тех странах, в которых уменьшилось богатство и народонаселение».[223]
В целом, по Г. Кэри, процесс возникновения общества осуществляется следующим образом. Сначала уединенный поселенец бродит по обширному пространству в поисках пищи, чтобы не умереть с голоду. Поэтому он вынужден, в случае большой удачи, заниматься различными видами деятельности, а именно, быть попеременно то портным, то каменщиком, то плотником. Но с течением времени он находит другое лицо и тогда между ними начинается взаимный обмен услугами. Однако здесь неизбежно возникают трудности, обусловленные спецификой самого обмена, характером вовлекаемых в него продуктов.[224]
Согласно Г. Кэри, по мере развития общества, возрастания богатства и народонаселения обмен услугами становится более разнообразным, охватывая внутрисемейные, межсемейные и иные отношения. В результате образуется общественная система, соответствующая той, которая существует во всей вселенной.[225]
Такова довольно примитивная суть классической концепции робинзонады, выработанной Г. Кэри. Ее главные постулаты лежат в основе его теории ценности. По мнению Г. Кэри, с увеличением населения и склонности к ассоциации человек всюду становится господином природы, т. е. начинает обладать многочисленными предметами, с которыми он соединяет понятие ценности. Поясняя свою мысль, Г. Кэри вновь обращается к своему излюбленному приему, согласно которому Р. Крузо, обремененный поиском пищи, сначала работает лишь своими руками (например, при употреблении дикорастущих плодов земли). Однако позднее Р. Крузо стал изготовлять простейшие орудия (лук и байдарку), что позволило ему добывать немного мясной пищи. Последней он придавал большое значение по труду, употребленному на ее приобретение. Поэтому «здесь мы видим уже понятие ценности. Она, просто-напросто, представляет нам оценку противодействия, которое нам предстоит преодолеть, чтобы достигнуть обладания желаемым предметом. Это противодействие уменьшается по мере увеличения в человеке способности располагать даровыми силами природы, и, таким образом, объясняется замечаемый нами факт, что во всех развивающихся обществах обнаруживается возрастание ценности труда, в сравнении с жизненными потребностями, и уменьшение ценности жизненных потребностей, в сравнении с трудом».[226]
Подобная трактовка ценности всецело предопределяется методологией прагматизма. Напомним, последний сосредоточил свое внимание на исследовании свободной индивидуальной деятельности человека, базирующейся на принципе максимальной эффективности. Эта деятельность всегда имеет нормативный характер, а потому поддается нормативной оценке с точки зрения полученных результатов. В соответствии с этим определяется и задача любой науки – изыскать пути достижения данных результатов наиболее эффективным образом. Любое научное положение считается истинным только тогда, когда оно приносит определенную практическую полезность, понимаемую как удовлетворение субъективных потребностей человека.
Именно поэтому Г. Кэри, исходя из этой посылки, утверждал, что ценность есть субъективная оценка противодействия, которое человек должен преодолеть, чтобы приобрести необходимый для жизни предмет. Это противодействие уменьшается по мере того, как человек научился изготовлять простейшие орудия труда, с помощью которых он получает даровые вещества природы. При этом ценность самого труда возрастает, а ценность жизненных потребностей уменьшается.
Развивая этот тезис, Г. Кэри считал, что применение новых, более совершенных орудий труда ведет, с одной стороны, к изменению соотношения относительных ценностей потребляемых благ, на приобретение которых затрачивается уже гораздо меньше рабочего времени;[227] с другой стороны, к уменьшению ценности прежних орудий труда, вследствие уменьшения стоимости издержек на их воспроизводство.[228]
По мнению Г. Кэри, наличие и характер применяемых орудий труда служат важнейшим условием установления меновой системы, где каждый стремится за свой труд получить аналогичный труд другого, получая тем самым собственную выгоду.[229] Таким образом, «ценность при обмене определяется по тем же правилам, как если бы каждый сам по себе работал. Оба теперь в выигрыше в том, что соединяют свой труд с целью улучшить свое положение; каждый приобретает возможность, с меньшими препятствиями, посвятить себя той деятельности, к которой он чувствует себя наиболее пригодным, и производительность труда возрастает по мере того, как более и более развивается индивидуальность».[230]
Поэтому с идеей ценности, указывал Г. Кэри, неразрывно связана идея сравнения. «Мы сравниваем добытые жизненные потребности с умственным и физическим трудом, употребленным на их производство. При обмене, всего естественнее давать труд за труд и каждый стремится к тому, чтобы не давать больше того, что он получает по количеству труда».[231]
Положение о труде как субстанции меновых отношений, а стало быть, мериле стоимости, Г. Кэри позаимствовал у классиков английской политэкономии, прежде всего у А. Смита, на главную работу которого он неоднократно ссылался. Вместе с тем это положение Г. Кэри интерпретировал весьма своеобразно, стремясь механически соединить его с основными постулатами субъективной теории ценности. Поэтому в представлении Г. Кэри ценность есть не объективное, а субъективное явление, проистекающее из вечной природы отдельного человека, его изначальной способности дать оценку трудовых усилий, связанных с приобретением тех или иных полезных благ. Эти усилия рассматривались им как порождение внешней необходимости, обусловливающей жизнедеятельность каждого индивидуума, вынужденного, в силу разделения труда, вступать во взаимный обмен услугами с другим индивидуумом.
Следовательно, связь между отмеченным положением и теорией ценности Г. Кэри чисто внешняя, поскольку он никогда не понимал двойственного характера труда, воплощенного в товаре. Это обстоятельство не позволило ему также понять социальной природы и полезности, и стоимости (ценности, по терминологии автора), хотя он и правильно указывал на противоположные стороны их движения по мере роста кооперации людей, ведущей к повышению производительности труда. «Полезность есть мерило силы человека над природою; ценность есть мерило силы природы над человеком. Первая возрастает, последняя падает вместе с комбинацией людей. Обе, таким образом, двигаются по противоположным направлениям и поэтому находятся всегда в обратном отношении друг к другу».[232]
Опираясь на теорию ценности, Г. Кэри полагал, что капитализм – это вечная, естественная и разумная ассоциация, которая покоится на всеобщей гармонии интересов. Последняя, по его мнению, предопределяется «великим законом, управляющим распределением произведений труда». В этой связи Г. Кэри писал: «Из всех законов, открытых наукою, он может быть самый прекрасный, будучи именно тем началом, которое устанавливает совершенную гармонию реальных и истинных интересов между различными классами человеческого рода». И далее цинично заявлял, что этот «закон» «подтверждает тот факт, что как бы ни был велик гнет, тяготеющий на большинстве со стороны меньшинства, что как бы ни было значительно накопление, истекающее из одной силы апроприации, что как бы ни были поразительны различия, существующие между людьми, – все это необходимо для установления повсеместного и совершенного равенства перед законом и для дальнейшего уравнения социальных условий; что все это есть следствие системы, стремящейся установить на высокой степени силу ассоциации и развития индивидуальности, следовательно, стремящейся поддержать мир, т. е. спокойствие, и увеличить богатство и народонаселение внутри и извне».[233]
Если перевести это «мудрое» рассуждение Г. Кэри на простой человеческий язык, то получим следующее: согласно «прекрасному закону распределения», гнет, эксплуатация большинства меньшинством в условиях капиталистического общества и вытекающие отсюда коренные социально-экономические различия между классами есть объективная необходимость для установления всеобщего и справедливого равенства всех перед данным законом. Это положение является неизбежным следствием существующей системы как высшей ступени общественного прогресса, стремящейся к установлению и укреплению совокупной ассоциации и отдельной индивидуальности и в конечном счете к обеспечению и поддержанию гражданского мира, росту богатства и народонаселения.
Воистину экономическая апологетика Г. Кэри не знает границ! Рассматривая «прекрасный закон распределения» как вечный и естественный, Г. Кэри утверждал, что в капиталистическом обществе не существует классового антагонизма, поскольку это общество базируется на абсолютной гармонии интересов всех сословий. Поэтому Г. Кэри обрушился с резкой критикой на классическую школу политэкономии, указывая на социальную опасность теоретической системы Д. Рикардо, в которой он видел систему всеобщей вражды, ведущей к возбуждению войны как между сословиями, так и между нациями. Г. Кэри критиковал также и представителей неклассической политэкономии Ж.Б. Сэя, Т. Мальтуса, Д. Мак-Куллоха, Дж. С. Милля и др., которые, по его мнению, якобы доказывали неизбежный и постоянно растущий антагонизм между различными классами как порождение экономических основ их существования, раскалывая тем самым общество на отдельные части и подготавливая гражданскую войну.
В противоположность подобным воззрениям Г. Кэри считал, что в капиталистическом обществе воцарилась совершенная гармония, ибо только она придает людям уверенность в их существовании и позволяет им оценить выгоду совместной деятельности против антагонизма, побуждая тем самым «всех честных и просвещенных людей соединять свои усилия с целью содействовать ближним в их естественном стремлении к ассоциации, так чтобы земледелец и ремесленник жили друг возле друга. Когда необходимость этого и выгоды, отсюда проистекающие, будут яснее осознаны всеми, французом и британцем, турком и христианином, мир и сношение заменят собою жадность торгашей и всеобщую вражду. Гармония между сословиями повлечет за собою гармонию между нациями и любовь мира распространится по всей земле».[234]
Разоблачая апологетическую суть представлений Г. Кэри о капитализме как гармоничной общественной системе, К. Маркс писал: «В качестве проповедника гармонии интересов он (Г. Кэри – Н. С.) прежде всего доказывал, что не существует никакого антагонизма между капиталистом и наемным рабочим. Вторым шагом была попытка доказать существование гармонии между земельным собственником и капиталистом; для обоснования этого земельная собственность рассматривалась как нормальное явление там, где она еще не развилась».[235]
Будучи яростным защитником капиталистических производственных отношений и отношений рабства, Г. Кэри стремился рассматривать эти отношения абстрактно, независимо от присущих им антагонистических противоречий, в виде естественной ассоциации, лишенной всякого классового содержания. В этой связи К. Маркс писал: «Так как все развитые формы капиталистического процесса производства суть формы кооперации, то нет, конечно, ничего легче, как абстрагироваться от свойственного им антагонистического характера и расписать их в виде форм свободной ассоциации… Янки Кэри с таким же успехом проделывает порой этот же фокус… применительно к отношениям рабской системы».[236]
Поскольку Г. Кэри рассматривал капитализм как вечную и естественную систему, то он стремился «показать, что экономические условия – рента (земельная собственность), прибыль (капитал) и заработная плата (наемный труд) – представляют собой условия ассоциации и гармонии, а отнюдь не борьбы и антагонизма. В действительности же он доказывает лишь то, что “незрелые” общественные отношения в Соединенных Штатах расцениваются им как “нормальные отношения”».[237]
Одним из первых с критикой трудовой теории стоимости выступил английский экономист Т. Мальтус. Выражая интересы обуржуазившейся земледельческой аристократии (лендлордов), он изложил свои взгляды в ряде произведений, наиболее известное из которых – «Принципы политической экономии» (1820).
Подобно Ж.Б. Сэю, Т. Мальтус считал себя «последователем» А. Смита. Вместе с тем у него было и весьма важное отличие от Ж.Б. Сэя, состоящее в принципиально ином концептуальном подходе к апологетике капитализма. Если Ж.Б. Сэй трактовал капитализм как общество, покоящееся на гармонии экономических интересов, то Т. Мальтус указывал на глубину противоречий, присущих этому обществу, рассматривая, однако, в качестве их причины не социально-экономические условия, а чисто природные или естественные факторы (прежде всего диспропорциональность между ростом населения и ростом средств существования).
Влияние классической школы на Т. Мальтуса было столь значительным, что ему приходилось выступать со словесными заверениями в приверженности трудовой теории стоимости. Как отмечал К. Маркс, Т. Мальтус в ряде случаев придерживался «… смитовского определения стоимости – определения ее тем количеством капитала (накопленного труда) и труда (непосредственного), которое необходимо для производства того или другого предмета».[238]
Причисляя себя к сторонникам трудовой теории стоимости, Т. Мальтус заявлял, что у него имеются лишь терминологические разногласия с классиками политэкономии в трактовке понятия стоимости. В этой связи Т. Мальтус писал: «Мы в действительности в праве назвать стоимостью товара труд, затраченный на его производство, но, поступая так, мы употребляем слова в ином значении, чем то, в котором они обычно употребляются…».[239] Обращая внимание на подобного рода высказывания Т. Мальтуса, Д. Рикардо отмечал, что «… г-н Мальтус неизменно допускает, что количество труда, затраченное на производство товаров, есть главная причина их стоимости».[240]
Однако за чисто словесными заверениями приверженности трудовой теории стоимости в действительности скрывалась завуалированная, последовательная и настойчивая борьба Т. Мальтуса с основными постулатами этой теории, с необходимостью их применения при исследовании капиталистической экономики. «Вульгаризация Т. Мальтусом трудовой теории стоимости Д. Рикардо по существу была направлена на разрушение центрального пункта методологии классической школы».[241]
При этом Т. Мальтус исходил из обнаруженных, но не объясненных А. Смитом и Д. Рикардо внутренних противоречий трудовой теории стоимости: с одной стороны, между законом стоимости и законом прибавочной стоимости; с другой стороны, между законом стоимости и законом средней нормы прибыли. Тонко подметив эти противоречия, Т. Мальтус опирался на них не для того, чтобы объяснить их природу, а для того, чтобы опровергнуть данную теорию, показать ее несостоятельность с точки зрения «здравого смысла», затушевать действительный источник прибавочной стоимости (прибыли).
Для опровержения трудовой теории стоимости Т. Мальтус использовал ряд вульгарных приемов. Во-первых, сознательное выпячивание на первый план нетрудовой, или доходной, теории стоимости А. Смита. В соответствии с ней Т. Мальтус отождествлял стоимость с издержками производства и утверждал, вслед за А. Смитом, что стоимость как таковая определяется количеством покупаемого труда, или количеством труда, которое можно получить в свое распоряжение в обмен на данный товар. Но такое определение стоимости, по словам К. Маркса, не выходит за рамки простой тавтологии и вращается в порочном кругу.[242]
Во-вторых, противопоставление труда как источника и как внутренней меры стоимости. В этой связи Т. Мальтус писал: «Труд, производящий товар, является основной причиной его стоимости, но он… не есть ее мера».[243] Отсюда видно, что хотя Т. Мальтус рассматривал затраченный труд в качестве источника стоимости, но в то же время он отрицал за ним функцию меры стоимости. Между тем, как установили основоположники трудовой теории стоимости, труд есть субстанция стоимости и ее внутренняя мера, ибо только он создает стоимость. Отрицание же Т. Мальтусом труда как меры стоимости неизбежно ведет к отрицанию труда как субстанции, а следовательно, и как источника стоимости. Такова цель данного противопоставления.
В-третьих, отождествление простого товарного обмена с капиталистическими отношениями, т. е. обменом между капиталом и наемным трудом. Исходя из этой посылки, Т. Мальтус утверждал, что стоимость товара изначально включает в себя прибыль, которая возникает вследствие неэквивалентного обмена, т. е. такого обмена, при котором продажа товара всегда обеспечивает получение большего количества труда. Тем самым Т. Мальтус рассматривал прибыль в качестве избытка над трудом, затраченным на производство товара. По существу прибыль сводилась им лишь к номинальной надбавке к издержкам производства товара. Подобная трактовка свидетельствует о том, что Т. Мальтус не понимал разницы между трудом, заключенным в товаре, и содержащимся в нем оплаченным трудом. Именно эта разница и является источником прибыли. Всячески затушевывая это обстоятельство, Т. Мальтус возвращался к вульгарным представлениям монетарной системы, согласно которым прибыль образуется от отчуждения, т. е. потому, что товар продается дороже, чем покупается. «Таким образом, вместо того чтобы пойти дальше Рикардо, Мальтус в своем изложении пытается отбросить политическую экономию назад не только по сравнению с Рикардо, но даже по сравнению со Смитом и физиократами».[244]
В-четвертых, стремление стереть проведенное Д. Рикардо различие между понятиями «стоимость труда» и «количество труда». Отождествляя эти понятия, Т. Мальтус сводил их сущность к обмену данного количества труда на заработную плату. Однако сами по себе указанные понятия выражают не что иное, как «простую тавтологию, нелепый трюизм. Так как заработная плата или то, “на что оно” (данное количество труда) “обменивается”, составляет стоимость этого количества труда, то тавтологией является утверждение: стоимость определенного количества труда равняется той заработной плате, или той массе денег или товаров, на которую обменивается этот труд. Другими словами, это означает не что иное, как то, что меновая стоимость определенного количества труда равняется меновой стоимости этого количества труда, которую иначе называют заработной платой. Но (не говоря уже о том, что на заработную плату обменивается непосредственно не труд, а рабочая сила, каковое смешение и делает возможной нелепую конструкцию) из указанной тавтологии отнюдь не следует, что определенное количество труда равно тому количеству труда, которое содержится в заработной плате, или в деньгах или товарах, составляющих заработную плату».[245]
Следовательно, Т. Мальтус, как и его предшественники, не проводил различия между стоимостью рабочей силы (стоимостью труда, или заработной платой, по его терминологии) и стоимостью, созданной этой рабочей силой. Но именно уяснение сути этого различия открывает путь к пониманию происхождения прибавочной стоимости (прибыли).
В-пятых, сознательное противопоставление стоимости товара и его цены производства, которые непосредственно не совпадают друг с другом. При этом Т. Мальтус опирался на смешение данных понятий в теории Д. Рикардо, не позволившее ему объяснить механизм образования общей, или средней, нормы прибыли на равновеликие капиталы, вложенные в различные отрасли производства. Спекулируя на трудностях, связанных с решением этой проблемы, Т. Мальтус обращал внимание на видимое противоречие между стоимостью и ценой производства с целью опровержения трудовой теории стоимости. Суть этого опровержения такова. Отрывая цену производства от ее внутренней основы – стоимости, Т. Мальтус утверждал, что стоимость товаров вовсе не пропорциональна труду, который был затрачен на их производство, а равна затраченному капиталу и обычной прибыли.
В целом, теория стоимости Т. Мальтуса покоится на наиболее слабых, уязвимых положениях трудовой теории стоимости классиков политэкономии. Не имея собственной теоретической базы, он использовал эти положения не для дальнейшего развития данной теории, а для ее разрушения. Резюмируя свою оценку взглядов Т. Мальтуса, К. Маркс писал: «Мы видели, как ребячески слаб, тривиален и бессодержателен Мальтус там, где он, опираясь на слабую сторону воззрений А. Смита, пытается построить контртеорию в противовес той теории, которую построил Рикардо, опираясь на сильную сторону воззрений А. Смита. Едва ли можно встретить более комические потуги немощности, чем сочинение Мальтуса о стоимости».[246]
Выступление Т. Мальтуса против трудовой теории стоимости Д. Рикардо положило начало оживленной полемике вокруг этой теории. В своих сочинениях ее сторонники пытались систематизировать воззрения Д. Рикардо, разработать основные положения его теории в деталях, устранить присущие ей противоречия. Однако эти попытки не увенчались успехом. Напротив, они привели к разложению рикардианской школы.
Согласно К. Марксу, разложение этой школы начинается с Дж. Милля, который был первым, кто изложил учение Д. Рикардо в систематической, хотя и довольно абстрактной, форме. Но при этом между Д. Рикардо и Дж. Миллем имеется и существенное различие. Если Д. Рикардо исходил из реальных противоречий капиталистической экономики, то Дж. Милль доказывал, что эти противоречия представляют собой лишь кажущиеся противоречия. Стремясь выйти за пределы теоретической системы Д. Ри-кардо, Дж. Милль вместе с тем «защищает те же исторические интересы, что и Рикардо, – интересы промышленного капитала против земельной собственности»[247] – и в трактовке ряда теоретических и практических вопросов идет значительно дальше Д. Рикардо. Так, опираясь на теорию земельной ренты, Дж. Милль более решительно, чем Д. Рикардо, выступал против частной собственности, требуя ее национализации, т. е. перехода в государственную собственность.
Будучи последовательным сторонником рикардианской теории стоимости, Дж. Милль в то же время выражал сомнение в том, каким способом Д. Рикардо пытался разрешить противоречие между законом стоимости и законом средней нормы прибыли. По мнению Д. Рикардо, действие закона стоимости модифицируется под влиянием не только различий в органическом составе капитала, но и различий в продолжительности обращения капитала. Свою точку зрения Д. Рикардо пояснял на примере с вином. В этой связи в письме к Д. Мак-Куллоху от 8 августа 1823 г. Д. Рикардо писал: «Трудный предмет стоимости занял мои мысли, но я не смог найти удовлетворительный выход из лабиринта… Я не могу преодолеть затруднение с примером вина, которое выдерживается в погребе в течение трех или четырех лет, или дуба, на который первоначально затрачено было труда, быть может, всего на 2 шилл. и который теперь стоит 100 ф. ст.».[248]



