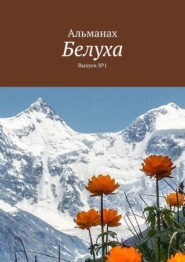
Полная версия:
Белуха. Выпуск №1
– Да загнёмся мы все на этих болотах. Кормёжка хреновая, постоянно по колено, а то и по пояс в воде, и это ещё летом, а осень придёт – чахотка и могила. Бежать надо, и бежать на Уймон, к каменщикам, а то и дальше – в Китай, можно конечно и наоборот, в Расею. Мол, государственный крестьянин, а паспорт потерял.
– Дык попадёшься!
– Ну и что? Дён двадцать всё одно погуляю, потом суд, туда, да сюда, вот промывочный сезон и кончился. По первому разу суд шибко-то строгий не будет. Ты, к прмеру, получишь розог, вот и всё. Мне-то, конечно, в случае чего шпицрутены грозят, да это и лучше, чем могила, отлежусь и к плавильной печи… всё лучше, чем здесь. Так что решайся.
Яков Усов вслушивался в голоса и пытался определить, кто там разговаривает, и о чём. Высокий голос у Меркула Березовского, с хрипотцой у Фёдора Елгина, сиплый у Никиты Горбунова. Громче всех обычно разговаривают, почти кричат Козьма Белов и Иван Терёхин. Ещё в этой избе проживали Трофим Варнаков, Тимофей Гусельников, Антон Печерников и Никифор Захаров.
– Много всех! Попробуй тут разбери. А разговор-то крамола, да и только. Вот что, Еор, пошли к шихмейстеру, надо доложить.
– Да, ну, их к лешему! Не наше это дело. Да, и не докладывал я никогда, а на своего и подавно не собираюсь. Нет, ты как хошь, а меня уволь.
– Пошли, иначе пойду один и скажу, что ты приготовление к побегу покрываешь.
– Чё это…
– А вот тебе и чё! Они, значит, бегать будут, а мы за них чахотку зарабатывать, нет, друг ситный, так дело не пойдёт. Айда, кому говорю!
Яков Усов в бергайерах был недавно, никак о том не думал, и зол был на весь белый свет. Год назад со службы в Барнаульском заводе сбежал его родной брат, угольщик Самойло Усов. И не нашёл ничего лучше, как явиться на родину, в деревню Метели Чарышской волости к родному брату. Ну, вот зачем, скажите на милость, зачем ему надо покрывать беглеца? Вот он и сдал его сельскому старосте. Поначалу вроде всё хорошо складывалось. Главное начальство Алтайских заводов через Чарышское волостное управление провело повальный опрос жителей деревни, все двадцать четыре крестьянина поступок Якова Усова одобрили и правление просило министерство финансов выделить Усову денежную награду. Но министерство финансов ответило, что считает достаточным объявить признательность начальства за его похвальный поступок. А вот в селе Якова с тех пор стали называть Иудой, и как только поступило предписание послать рекрута в заводские работы, общество единодушно выкликнуло Якова Усова. По форме всё было верно, родители его давно померли, сам недавно овдовел, детей не нажил. А то, что ему глянулась девка в Калмацких Мысах, и он уже сговорился засылать к ней сватов, никому дела не было.
Выслушав донос, Абортин немедля объявил о том начальнику прииска шихтмейстеру Харитонову, который приказал выставить к избе караул.
Утром Абортин приказал привести всю команду, а для начала высечь розгами Горбунова. Рассудил, Горбунов из всех самый шумный и дерганый, значит, окажется наименее стойким. По высечении Горбунов заявил, что его подговаривали бежать бергайеры Белов, Терёхин, Березовский и Елгин, а промывальщик Гусельников и бергайеры Печерников, Варнаков и Захаров невинны.
После того, как Абортин приказал связать Белова, Терёхина, Березовского и Елгина, Белов выхватил нож, и стал кричать, что он не даст себя без вины наказывать и зарежет любого, кто к нему подойдёт. Пока пытались отобрать у него нож, Березовский и Елгин забежали в избу, где они квартировали и в которой сидели взаперти ночью и закрылись изнутри. Елгин стал с ножом у открытого окна и закричал: Первого кто войдёт, зарежу! Распустите команду, иначе дверей не отворю!
Абортнев подошёл к окну и спокойно сказал – ну и сидите. Ежели выйдите – прикажу связать и отправлю в суд, а нет – приставлю караул и заморю с голоду. Те, разумеется поартачились и вышли. А вот Терёхин, воспользовавшись суматохой, сбежал.
Следствие по делу о буйстве на прииске
Фёдор Богданович Клюге читал формулярные списки бергайеров, дело о которых ему предстояло рассмотреть в суде. Свидетели были допрошены, всё было совершенно ясно и можно было выносить приговор, если бы…
Березовский Меркул Васильев из крестьян. Взят в рекруты воинской командой при принудительной отправке крестьян Ояшской волости в заводские работы в 1831 году. От роду 24 года. С марта 1831 года рекрут, до мая того же года запасной служитель, с мая бергайер. В том же 1831 году за первый побег со службы наказан 150 ударами палки. Знает грамоту. С паспорта выданного ему, начался ояшинский бунт. Прочитал в нём, что является «казённым крестьянином» и решил, что казённый – это государственный, а если государственный, значит, к работам его привлекать нельзя, хватит того, что платит подати и чинит дороги. Запись сия был произведена ошибочно, но этого хватило, чтобы убедить мужиков, у которых были такие же записи, в правоте своих слов и поднять бунт.
Горбунов Кирилл Петров из крестьян. Рекрутом с 1829 года февраля 16 числа. До 1831 года – запасной служитель. 1831 года декабря 5 числа зачислен бергайером. От роду 28 годов. В 1831 году за первый побег со службы и перемену своего звания прогнан шпицрутен через 500 человек один раз. В том же году за второй побег наказан розгами – пятьдесят ударов. За третий побег в этом же 1831 году и воровство во время побега трёх лошадей стоящих 112 рублей, прогнан шпицрутенами через 500 человек один раз.
Елгин Фёдор Ермилов из крестьян. Рекрутом с ноября 22 числа 1828 года. Запасным служителем с февраля 1829 года. Бергайером с 1830 года февраля 4. В 1829 году за первый побег со службы и перемену своего звания и воровство хлеба из пашенных станков на пропитание прогнан шпицрутенами через 500 человек один раз. В 1831 году во время второго побега был пойман, назвался посельщиком и под именем бродяги Тихонова отдан был по решительному определению Томского губернского суда в военную службу без наказания, был определён в линейный сибирский батальон №8, но при провозе через Барнаул признан был за горного служителя. Приговорён к наказанию шпицрутенами через 500 человек три раза с отбытие двух раз. Употреблён в работу.
Белов Кузьма Семёнов из мастерских детей. Рудоразборщик с 1822 года. Бергайером с 1827 года. От роду 30 годов. В 1830 году за задрание юбки девке Заставиной и срывание с неё двух платков наказан лозами. В 1830 году за воровство 25 мая у стоящих лагерем близ Змеиногорского рудника рудовозов 10 хомутов, стоящих 25 рублей и трату оных, присовокупив к тому пьянство и не выход на работу 2-х дней, прогнан шпицрутенами через 500 человек один раз. За 28-дневный побег со службы и перемену во время того звания прогнан шпицрутенами через пятьсот человек один раз. За второй побег со службы в 1832 году прогнан шпицрутен через пятьсот человек один раз.
И вот этот самый Белов объявляет, что его замучила совесть, и он объявляет об убийстве в 1830 году неизвестного посельщика совместно с братьями Полыгаловыми Евграфом и Дмитрием. Якобы они вместе выпивали в Змеиногорском кабаке и соблазнились деньгами, кои были у посельщика в большом красном кожаном кошеле. Выйдя из кабака, они подкараулили сего посельщика и убили. Денег у него оказалось пятьсот рублей ассигнациями, но Полыгаловы будто бы дали ему только двадцать пять рублей.
Явный самооговор, чтобы потянуть время и пожить в тюрьме на казённых харчах без заводских работ, да наказание отложить на время. Таких самооговоров только в Салаирской комиссии военного суда рассматривалось не меньше десятка в год. По расследованию выяснялось, что тела нет и такового человека, которого самооговорщик признавал убитым, никто не видел. Однажды, правда, один беглец сказал, что убил неизвестного крестьянского отрока двенадцати лет, утопил и тело сбросил. Указал место, описал мальчика. Но мальчик оказался жив здоров и показал, что в том месте и в то время, о котором говорил беглый, он действительно видел мужика, но он ему никакого вреда не сделал.
В самом конце октября был пойман беглец Терёхин Иван Семёнов.
Бергайер Иван Семёнов Терёхин из крестьян, рекрут 1828 ноября 15 дня, запасной служитель 1829 года февраля 9, бергайер 1830 года июня 18. От роду 34 года. В 1831 году за побег и прочие проступки прогнан шпицрутен через 500 человек три раза. В 1832 году за второй побег наказан розгами пятьюдесятью ударами.
И Терёхин тоже сознаётся в убийстве. Якобы в последний день перед самой своей поимкой он убил двух господ у села Казённая заимка. Будто бы они ехали в двуколке и остановились близ дороги, развели костёр и грели на том костре чай и жарили мясо. Он выждал в кустах, когда один из них отошёл по нужде в сторону и зарезал его, а потом напал и на второго. Кроме еды он у них ничего не забрал.
Расследование, проведённое змеиногорским отделением военного суда, как и следовало ожидать, выяснило, что никакого убийства не было. Мало того, что Полыгаловы всё отрицали, никто в Змеиногорске в то время не видел никакого посельщика, мёртвых тел так же не находили и признаков того, что братья разбогатели тоже не было. А ведь четыреста семьдесят пять рублей деньги немалые.
А вот с заявлением Терёхина вышло иначе.
Для проверки его достоверности чиновник по особым поручениям Никодимов на следующий день утром выехал на место совершения убийства, указанное Терёхиным довольно подробно. Ехал на двуколке, которую ему отрядили на заводской конюшне, так как своего выезда ещё не нажил. Земля уже подмёрзла, двуколку слегка потряхивало на выбоинах и ухабах, но в целом поездка проходила благополучно. Сыпал мелкий снег, но он не затруднял продвижение. Никодимову было даже как-то даже радостно, так как слякоть и промозглость порой вносили в душу уныние. И вот сейчас, спокойно двигаясь к месту преступления, Никодимов сидел в двуколке и мурлыкал незатейливую песенку о девице-красавице.
Вот дорога перешла через речку Землянуху, вон справа от дороги огромная ветла с дуплом. Первый снег был ещё неглубокий и Никодимов подъехал к ветле. Под ветлой из-под снега виднелись обгорелые головёшки, всё совпадало с заявлением, но трупов у кострища, не было, а одного из убитых, как утверждал Терехов, он оставил у костра.
– Что и следовало ожидать, – проговорил чиновник и направился к двуколке, но неожиданно остановился. Внутренний голос сказал, что ещё не всё осмотрено. За кустами каркало вороньё и до слуха Никодимова доносилось громкое хлопанье крыльев. Подняв палку, бросил её в кусты. Злобно каркая, с десяток ворон покинули кусты и нехотя, взмыв вверх, уселись на росшее вблизи дерево. Никодимов обошёл кусты и к своему большому удивлению увидел мёртвое тело, поклёванное воронами.
Чиновник по особым поручениям перевернул покойника на спину. Тело успело подмёрзнуть и, к счастью, лежало ничком, что не позволило птицам расклевать лицо трупа.
– На подбородке ясно выделялся шрам дюйма в два длиной. Как раз о таком «как второй рот» говорили на прииске господ Поповых.
Дело принимало интересный поворот. Но кроме трупа Никодимов более ничего не нашёл. Вообще ничего, ни возле кострища, ни возле тела. Может, что и было, но снег всё стёр.
Никодимов погрузил тело в повозку и поехал в Барнаул. Привёз его в госпиталь, но прежде чем им занялись медики, срисовал портрет покойного в акварели. Никодимов был хороший рисовальщик, о его портретах говорили «как живые». Вот и здесь он постарался, чтобы этот… со шрамом, выглядел бы как живой. А потом ещё и копию с портрета сделал. Копию направил в Салаирскую комиссию военного суда, а с портретом пошёл к Ивану Никитичу Мурзину – советнику по третьему военно-судному отделению. Тот внимательно посмотрел портрет и сказал: «Видел я этого человека в Барнауле. И видел недавно. Но ты лучше у приставов спроси».
Пристав команды барнаульских заводов вполне определённо сказал, что на квартире у вдовы Артамоновой ночевали два господина, вот тот, что на портрете, и второй, постарше, с тонким лицом и волнистыми волосами. Лицо загорелое, а подбородок белый – летом бороду носил. Дворянам борода не по чину, но сейчас многие её отращивают, особенно, когда не в городе живут. Господа сказали, что в Барнауле проездом, едут из Семипалатинска в Кузнецк. Показали подорожную, но люди они были солидные, он на бумагу глянул мельком и фамилий не запомнил.
Терехов, узнав, что найден труп, испугался не на шутку. Понял, что теперь и в самом деле может понести наказание за убийство.
Вспоминал.
Сидел у костра, кипятил чай в котелке и жарил гуся, и то и другое украл по дороге. И тут вдруг с дороги свернул возок и два господина подошли к костру и велели ему убираться. Он ушёл, очень на господ обидевшись. Но никого не убивал, да и не мог, у обоих господ за поясом были пистолеты. Ну, а когда его захватили, ложно оговорил себя, чтобы избавиться на время от заводских работ. Господа явно ехали к парому, начнётся следствие, выяснили бы, что такие господа действительно были, а пока бы их нашли, глядишь, он в тюрьме до весны и просидел.
– Кто ж мог подумать, что этого господина, – ткнув пальцем на рисунок, – убьют, – ответил Терехов на вопрос дознавателя. – Но поверьте Христом Богом, не убивал я. А что до второго господина, то он, как лик с иконы. И волос кудрявый, но не шибко, волнами.
Стоял на своём подследственный и после священнического увещевания.
– По сему следует, оговорил себя Терехов. Обозлился на обидевших его господ и хотел хотя бы в мечтах с ними расправиться, раз наяву не мог. Да и убит был сей господин из огнестрельного оружия, коего у беглеца не было, а не ножом, – мысленно проговорил прапорщик, слушая объяснения Терехова.
Как ни соблазнительно было повесить дело об убийстве неизвестного господина на беглеца, Фёдор Богданович Клюге поручил прапорщику Никодимову продолжить следствие, тем более что личность, написанную на портрете, опознали и на прииске Поповых. Изображённый на нём человек был явно связан с убийством Негоденко.
Следствие по буйству на казённом Сухаринском прииске и побегах было закончено, и пора было выносить приговор, оставалось выяснить подробности убийства на частном золотом прииске коммерции советников Поповых.
Приговор.
Бергайера Козьму Белова, содержащегося в Салаирской тюрьме за буйственные поступки против пристава Сухаринского прииска и ложный оговор братьев Полыгаловых в том, что они совместно с ним убили неизвестного посельщика и забрали у него 500 рублей, наказать шпицрутенами через тысячу человек три раза и отослать на работы в Нерчинские заводы.
Бергайера Елгина наказать шпицрутен через тысячу человек два раза и по буйному характеру в закованном виде направить на Нерчинские заводы.
Бергайера Терёхина за побег и ложный самооговор наказать шпицрутен через тысячу человек два раза и употребить в работы.
Бергайера Березовского за буйство наказать шпицрутен через пятьсот человек два раза и употребить в работы.
Но приговор был вынесен и исполнен только весной 1834 года. Как и надеялся Терёхин, всю зиму – время следствия они просидели в тюрьме без употребления в работу. А шпицрутен? Что шпицрутен? Спина заживёт.
Кто такой человек со шрамом?
В Тобольск чиновник по особым поручениям прапорщик Никодимов был отправлен задолго до окончания следствия по делу на Сухаринском прииске. На место он прибыл засветло и поселился у хозяйки, где квартировал на последнем курс училища, в двухэтажном деревянном доме.
Всё было как два года назад, даже клопы, наверное, те же.
Утром Никодимов отправился в «управу благочиния» (так в то время называлась земская полиция).
Тобольск уже перестал быть губернским городом, но управой благочиния командовал ещё полицмейстер, а не городничий. Однако, полицмейстер направил его к частному приставу по уголовным делам. Лет он был неопределённых, может сорок, может уж больше пятидесяти, с седыми бакенбардами и мятым лицом.
Только взглянув на портрет, он сразу сказал:
– Знаю такого. Отставной кавалергардский штабс-капитан Вельяминов. Ссыльный.
– Что за человек?
– Дрянной, прямо вам скажу, человек. Вот нам недавно на поселение прислали бунтовщиков, отбывших каторжный срок по декабрьскому делу 25 года. Ну, государственные преступники, но видно же, что благородные люди, а этот – прощелыга и подлец. В ссылку попал вроде бы за дуэль, но я вам так скажу, сударь, – убийство это было, натуральное убийство. Дрались без секундантов. И что это за дуэль без секундантов? Во вторых, дрались на палашах, а петербургские и московские господа это не прусские студенты, которые шпагами машутся. Серьёзное дело вышло, я вам скажу, сударь мой, это вам не пистолеты. И что вы думаете!? Кабы не поддержка в столице, на каторгу загремел, да и вроде бы сам был ранен на дуэли. Но скажите, на милость, мил сударь, как можно на поединке получить такую рану? Сам он себе её нанёс! Уверяю вас, сам! У палаша обух тупой, широкий. Заколол он своего товарища, когда тот этого не ждал, а потом взял его палаш в обе руки да тюкнул по подбородку. Выглядит страшно, крови много, а опасности от раны никакой.
– И на какие средства он жил?
– На что жил говорите? Имение у него, где то в Саратовской губернии, да здесь был посыльным по торговым делам. Вот на то и жил. Хитёр стервец, ох и хитёр! И норову срамной! У нас купцам, состоящим в гильдии, не просто торговать за пределами губернии, а ведь и городские и крестьяне ведут немалую торговлю, так он, как змей-уж в каждую щёлочку пролезет и всё для себя с выгодой. Ездил с поручениями, то предварительные переговоры от имени купцов проведёт, то образцы товаров предъявит.
– А вот не ведали ли вы, уважаемый, имел ли он дела на прииске Поповых?
– Да, кто его знает. Разве ж обо всех его делах узнаешь, скрытный был, подлец, и хитёр больно. Знаю, что с коммерции советником знаком был, а были ли у него дела на прииске – не ведаю, врать не буду. И не припомню среди его знакомцев дворянина белым лик с волосом кудрявым. Да у него в Тобольске среди дворян приятелей-то вовсе и не было. Как-то попался на шулерстве, так после этого ему в приличные дома ход был заказан. А вот адреса двух-трёх купцов, с коими имел он дела, могу дать.
Обошёл купеческие дома Никодимов, но ничего нового не узнал. Ничего интересного не показал и обыск на квартире Вельяминова, произведённый прапорщиком совместно с приставом.
Побывал Никодимов и в Кузнецке. Кузнецк город небольшой, новый человек там на глазах. Видели там господина, светлого лицом с вьющимися волосами, назвался потомственным дворянином, отставным чиновником 12 класса Евграфовым Степаном Семёновичем из города Екатеринбурга. На запрос в город Екатеринбург пришёл ответ, «указанный господин в городе не числится».
Выходило, что ответ надо искать в Петербурге.
В столицу чиновник по особым поручением прапорщик Никодимов попал только следующим летом. Специальных денег на проезд не дали и он был отправлен с охраной «серебряного каравана».
В полку, где до ссылки служил Вельяминов, было уже не так много офицеров, знавших его. Прошло шесть лет, была кампания в Польше, где полк участвовал в подавлении шляхетского мятежа, память о боевых столкновениях была ещё жива, а вот то, что было ранее, вспоминалось с трудом. Но всё-таки вспомнили историю 1829 года и дуэль подпоручика первого дивизиона Вельяминова с прапорщиком кирасирского лейб-гвардии полка Семёновым.
Семёнов проиграл Вельяминову большую сумму и утверждал, что Вельяминов жульничал, грязно играл в карты. Говорил, что с долгом, конечно, рассчитается, но Вельяминова надо бить, как шулера, подсвечниками, а Вельяминов грозил, что вызовет Семёнова на дуэль. Потому-то произошедшему вскоре после этого событию особо не удивились. Вельяминова давно подозревали в нечестной игре, больно удачлив, но явных доказательств не было, поэтому в полку с ним по-крупному никто не играли, а вот до кирасиров его «слава», видно не дошла. Однако ни кавалергарды, ни кирасиры не могли сказать, кто бы мог отомстить Вельяминову и никого похожего, описанного Терёхиным, не вспомнили.
Вечером третьего дня после приезда Никодимова в столицу офицеры кавалергарды пригласили его на бал, который давал отставной офицер их полка Дмитрий Бутурлин. Хоть он и достиг чина генерал-майора, и в отставку вышел не из полка, а на штатской службе занимал пост высокий, полк не забывал.
Никодимов был слабым танцором, но в училище танцам обучали, и мазурку мог изобразить, а потому, увидев миловидную девушку, робко стоящую у колонны с пожилой женщиной выше среднего роста, решил её пригласить на тур.
– Ты знаешь, кто это, – указав взглядом на приглянувшуюся ему девушку, спросил лейб-гвардии поручика Симонова, который взялся опекать провинциала, знакомить с особенностями столичной жизни.
– А, эта? – равнодушным голосом отмахнувшись от указанных дам, проговорил «опекун», – Екатерина Внукова. Род старинный, некогда были князьями, но захудали, титул утратили, да и приданого за ней нет. Сирота. Отец погиб в восемьсот тринадцатом году. Вскоре и матушка её скончалась. Осталась деревушка с полусотней душ, но она оказалась на пути движения наполеоновских войск. Разорили, разграбили, а что не успели, то свои мужики растащили. И мать вскоре померла. Опекуншей её является тётушка, и здесь она с ней.
– Не представишь?
– Пошли, – нехотя ответил Симонов.
– Пётр Николаевич Никодимов, чиновник по особым поручениям в Барнаульских заводах. Прошу любить и жаловать, – представил Симонов товарища.
Первым танцем традиционно был полонез. Менуэт Пётр Николаевич танцевал с другой дамой, а на мазурку снова пригласил Катю, так представилась ему девушка. Мазурка танец уже как бы неофициальный, можно было и поговорить.
Екатерина, вы, как и я сирота. Мой отец, поручик Томского мушкетёрского полка погиб в 1812, под Смоленском.
– А мой папенька на год позже, под Лейпцигом.
После танца отошли к стенке и продолжили разговор.
Оказалось, у них много общего. Оба сироты, оба были выучены на казённый счёт, но если Никодимов окончил Тобольское военное училище, то Внукова столичный Патриотический институт. И обоим после выпуска приходится зарабатывать на жизнь самим – Петру на государственной службе, а Екатерине – гувернанткой в семье какого-то превосходительства, преподавая французский и хорошие манеры.
– Уж что-что, а французский я знаю. Когда в 1825 году послышалась канонада, собрала нас гранд дама и сказала, что это наказание за наши грехи, за то, что мы подобно кухаркам, говорим по-русски. После этого в институте два месяца говорили только по-французски.
После бала Пётр пошёл проводить Катю с тётушкой, они жили неподалёку. Тётушка пригласила его в гости через два дня, и он с благодарностью принял это приглашение.
На следующий день в офицерском собрании, когда Пётр Николаевич подходил к кавалергардским офицерам, лейб-гвардии корнет Серебряков нарочито громко, чтобы слышал Никодимов, хихикая, проговорил:
– А этот то, барнаульская штафирка, теперь ухлёстывает за гувернанткой. А по мне что гувернантка, что кухарка. Я у себя в имении и тех и других всех поимел.
– Петра не то что бы сильно задели его слова, но спускать это было нельзя, иначе он бы стал изгоем в дворянском обществе, а дурная слава и до Барнаула докатится. Ещё в Тобольске он привык к тому, что богатые, а тем более, богатые и знатные, относятся с презрением к тем, кто служит не потому, что так принято, а потому что так надо зарабатывать на жизнь, и это угнетало его, и он терпел, ибо иначе тогда было нельзя. Ответив такому богатенькому негодяю подобными словами, более того вызовом на дуэль, значит, быть отчисленным из военного училища.
Сейчас всё обстояло иначе, сейчас Никодимов был прапорщиком и чиновником по особым делам, что по чину много выше корнета. Подошёл Пётр Николаевич к Серебрякову и сказал, сам даже удивился, спокойно.
– В Барнауле я бы вам морду набил, а здесь вынужден вызвать на дуэль. Сегодня вечером, на пистолетах, дистанция десять шагов. Место выберут секунданты.
Секундантом Никодимова вызвался быть Симонов, у Серебрякова, конечно, тоже нашёлся секундант.
После того, как все условия дуэли были обговорены и место выбрано, Никодимов пошёл в свой номер. Дрался он первый раз и вроде бы положено написать прощальное письмо, но кому? Матушка года три как померла, с Катей ещё никаких отношений не было, так что и писать некому.
Он пробовал читать, но ни роман, ни стихи Жуковского в голову не шли.
Выпить? Но в таких делах рука должна быть твердой. Кое-как дождался условленного времени начала дуэли. Симонов заехал за ним на экипаже. Серебряков с секундантом были уже на месте.
Дистанция была уже отмерена и обозначена воткнутыми в землю палашами. Секунданты выдали заряженные пистолеты и велели становиться к барьеру. Серебряков выстрелил первым. У левого виска шевельнулись волосы. Он только потом понял, что пуля пробила его оттопыренное ухо.



