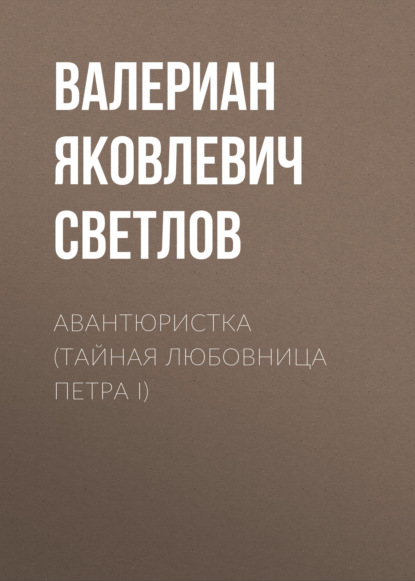 Полная версия
Полная версияАвантюристка (Тайная любовница Петра I)
Все мужчины ухаживали за ней и глядели ей в глаза, и, конечно, императрица не могла не заметить этого, и это-то составляло тайну ее нерасположения к Марье Даниловне.
Конечно, и светлейший князь Меншиков со своим острым и проницательным умом, со своим тонким умением распознавать людей не мог не заметить этого и не объяснить себе именно этим нерасположение царицы.
Марья Даниловна, достигшая всего или почти всего, чего хотела, окруженная блеском двора, вниманием вельмож и поклонением мужчин, будучи не в силах сдержать своего темперамента – причину всех бед и невзгод ее жизни – зазналась очень скоро и очень уж тонко повела свои дела, вооружая против себя сильного еще властью Меншикова и нисколько не заботясь о завоевании расположения императрицы.
И она была бы вполне счастлива в этом положении, на своем видном посту, если бы… не одна черная точка, которая отравляла ее существование.
Казалось бы, все, чего она желала, чем жила, еще обитая в глухой стрешневской усадьбе, задыхаясь от бездеятельности и тоски, – все это теперь было в ее распоряжении.
Она стремилась к свободе, к блеску, к богатству, к высокому положению. Все это когда-то, не так еще давно, казалось ей недостижимой, сказочной, почти волшебной грезой и теперь все это осуществилось, почти без всякого серьезного труда, без малейших усилий с ее стороны.
О своем домариенбургском существовании, о своем прозябании в усадьбе Никиты Тихоновича, о всех ужасах жизни, испытанных ею, она уже перестала думать, почти совершенно забыв обо всем, и если когда картины прошлого еще казались ей теперь далеким и дурным сном, который она гнала от себя со всевозможною силой и о котором она старалась забыть.
И все-таки она была не вовсе довольна своим настоящим положением…
Чего же ей не хватало?
Как все люди, слишком скоро и нерасчетливо совершающие подъем на страшную высоту, испытывают головокружение и сильное сердцебиение, так и у ней закружилась голова.
Оглядываясь на пройденный уже путь и всматриваясь в глубокую бездну, из которой она вышла, Марья Даниловна – теперь уже отдохнувшая и отдышавшаяся – стремилась дальше, на еще большую высоту…
Честолюбие буквально сжигало ее; то, чего она достигла, уже не удовлетворяло ее больше. Она хотела подыматься все выше и выше, и тот план, который в виде молнии промелькнул в ее мозгу во время первого ее свидания с Екатериной, не переставал мучить и тревожить ее.
Ее непомерное честолюбие подмывало ее действовать. Кроме того, в ней было еще оскорблено женское самолюбие признанной всеми красавицы.
Петр, которому она понравилась с первого раза, не обращал теперь на нее никакого внимания, как будто ее совершенно не существовало.
Он был с ней любезен, вежлив, внимателен, но в его больших и жгучих глазах она уже не видела ни прежней восторженности, ни прежнего желания, которые она подметила во время свидания с ним в петергофском парке. Иногда он и вовсе как бы не обращал на нее никакого внимания, и это сильно оскорбляло ее.
Она между тем делала все, чтобы привлечь это царское внимание: не сводила с него глаз, заговаривала с ним; зная, что он любит женскую шутку и игривость, она шутила и заигрывала с ним. Но он отвечал на все это рассеянно и равнодушно.
Она начинала приходить в отчаяние.
Она уже постигла характер царя, а вместе с тем у нее являлась мысль, что, может быть, озлобленный новой придворной дамой Меншиков нашептывал царю в уши разные неблагоприятные ей слухи. И в этом она не ошибалась.
Так, например, при дворе шептались о том, что у императрицы из комнаты стали часто пропадать деньги и различные драгоценные вещи после того, как в комнате оставалась некоторое время ее ближняя прислужница.
У одного иностранца нашли даже ее драгоценное ожерелье, пропажа которого произвела много шума во дворце.
Меншиков произвел следствие и отыскал царицыно ожерелье; иностранца немедленно выслали за границу, отобрав у него драгоценность, так как он не мог или не хотел объяснить, как и через кого она к нему попала. Но Меншиков заподозрил в этом преступном деянии Марью Даниловну и сообщил об этом императрице.
Так как не было достаточно веских и основательных данных, чтобы обвинить ее, то Екатерина упросила его не делать из этого огласки, замять дело и ничего не говорить царю.
Меншиков должен был согласиться с желанием императрицы.
Однако мысль отмстить Марье Даниловне не покидала его…
Как бы то ни было, царь продолжал выказывать к Марье Даниловне полнейшее равнодушие, и это положительно отравляло ее существование.
VIОднажды царь говорил со своим другом Зотовым…
– Стар ты, – сказал ему царь, – стар ты, Ианикита, а до сих пор все еще на красивых женщин заглядываешься.
– На кого метить изволишь, государь? – спросил Зотов.
– На нашу придворную даму Гамонтову… Марью Даниловну.
– И вовсе даже нет, государь, – ответил Зотов. – Не по мысли она мне…
– Ни мне, – согласился с ним Петр.
– И тебе ведомо, – продолжал Зотов, – что по мысли мне вовсе не та Гамонтова, а капитанская вдова Стремоухова, на каковой вдове я и просил уже неоднократно твое царское величество дать мне разрешение жениться.
– Ну ты все свое, старый! Жениться да жениться! Взгляни на себя, на кого ты похож, Ианикита?
– Что ж с того, что стар, государь? Старый мужчина куда лучше молодого. И любит он крепче да привязчивее, да и бродить перестал. Старый муж – что вино старое. А и то молвить, и вдова капитанская не молодая девица, а женщина в почтенных летах. Дозволь, государь.
– Ах, старый шут! – засмеялся царь. – С ним ни о чем говорить не можно. Со всего переведет на свою дурацкую вдову. А женись на ней, коли хочешь черта тешить.
Зотов обрадовался так долго ожидавшемуся разрешению и ликовал, точно юноша.
А Петр, точно забыв уже об этом существенном для Зотова деле, задумчиво вернулся к началу разговора:
– А что касаемое той Гамонтовой, о коей у нас с тобой речь повелась, то она дама зело красивая, и что ни говори ты о своей любви к вдове Стремоуховой, а и ты, старый, на нее глаза пучил.
Об этом разговоре, происходившем при свидетелях, во время одного из царских пиршеств, на котором было много, по принятому обыкновению, пито… передали, конечно, Марье Даниловне – и она тотчас же составила себе план необходимых действий.
На другое же утро, дождавшись, когда императрица окончила свой завтрак, она, в сопровождении Акулины, вышла на утреннюю прогулку в парк в те часы, когда в нем гулял Петр.
Императрица не выходила в парк, так как ей в последнее время нездоровилось, и к тому же стояла уже осень. Таким образом, Марья Даниловна не рисковала натолкнуться на нее.
Царь же ходил во всякое время года и по всякой погоде, а в особенности продолжительно гулял он после ассамблей.
Осенний, холодный и чистый воздух освежал его голову, и он всегда бывал во время таких прогулок в отличном расположении духа.
Марья Даниловна, изучившая все его привычки и все тонкости его характера, прекрасно знала все это и шла по аллеям с верным расчетом.
Действительно, на повороте в большую аллею увидела она Петра, казавшегося настоящим гигантом; он шел с Зотовым и мирно беседовал с ним.
Заметив Петра, Марья Даниловна тихо сказала Акулине:
– Уходи вон тою боковою аллеей и не возвращайся сюда.
Девушка быстро исполнила приказание своей госпожи и очень скоро скрылась из вида.
Марья Даниловна спокойно стала ожидать приближения царя.
Когда они дошли до того места, где она сидела на скамейке, она встала, а царь и Зотов, поклонившись ей, намеревались пройти дальше.
Марья Даниловна вдруг преградила им дорогу и, смело встав прямо перед императором, гордо выпрямившись и глядя ему прямо в глаза, взволнованно проговорила:
– На одно слово, государь…
Царь махнул рукой Зотову, и тот исчез в смежной аллее…
Едва только кусты успели скрыть фигуру Зотова, как Марья Даниловна, ни слова не говоря, приподнялась на цыпочки, обвила шею царя руками и впилась в его губы долгим, страстным и жгучим поцелуем.
Царь был поражен, но поражен приятно. В глазах его загорелся тот огонек, который привел в восхищение Марью Даниловну в первое свидание с ним и вселил в нее некоторую надежду на успех. Губы царя улыбались, и на щеках появился румянец.
Она быстро освободила его шею, отступила от него на несколько шагов и весело сказала:
– Ну, что, государь?..
Петр начал терять свой равнодушный вид. Широкая улыбка осветила его лицо; он погрозил смелой женщине пальцем, вдруг засмеялся и сам шагнул к ней…
– Один пример ничего еще не доказывает, – сказал он. – Что-то скажет второе испытание, красавица моя Марья Даниловна…
– А вы хотите второго примера? – пробормотала она, опять отступая.
– Хочу.
Он еще сделал несколько шагов к ней, но она все отступала.
– Машенька! – вдруг сказал он ей голосом, в котором Марья Даниловна услышала уже оттенок страсти.
– Нет, нет, нет! – весело засмеявшись, сказала она ему.
И она умчалась, как вихрь.
Но царь последовал за нею.
Разгоревшаяся, как пожар, страсть царя обыкновенно не знала и не признавала препятствий. Никакие возражения ни к чему не привели бы. Да Марья Даниловна и не думала о возражениях!
VIIМарья Даниловна рассчитала верно: то, что подействовало бы совсем иначе на человека другого характера, нежели Петр, на него произвело именно то впечатление, которого она добивалась.
– Ты меня, стало, любила? – говорил он Марье Даниловне.
– О, да, государь! Давно! С самого первого дня, как тебя увидела. Дни и ночи думала я о тебе и все видела тебя перед собою. Ты такой красавец! У тебя такой взгляд, перед которым не в силах устоять ни одна женщина.
И Марья Даниловна не лгала, когда произносила эти слова.
В это время Петру было около сорока семи лет, и он был очень красив той величественной красотой, которая ему одному была свойственна. Смуглый, высокого роста, с большими черными глазами, в которых было много блеска и оживления, с выразительным и подвижным лицом – был он действительно редким красавцем.
Он благосклонно выслушал признание Марьи Даниловны. Странная ее выходка в петергофском парке понравилась ему именно своей странностью, своей необыкновенностью, а он, как известно, был большим любителем всего причудливого, всяких «раритетов и даже монстров»!.. Кроме того, выходка Марьи Даниловны, искусно разыгранная ею, очень польстила ему; вот почему Марья Даниловна, взяв Петра таким ловким стратегическим манером, сумела и удержать его около себя.
Между тем и поведение Марьи Даниловны круто изменилось…
Достигши того, чего она так страстно желала, она сделалась надменною и даже дерзкою не только по отношению к придворным, но даже и по отношению к самой Екатерине.
Но Екатерина и в этом делала вид, как будто не замечает происшедшей в Марье Даниловне перемены, не удостаивала ее разговорами и всячески старалась удалиться от нее.
Меншиков все больше и больше ненавидел Марью Даниловну, и теперь ненависть его выросла до такой степени, что он только и искал случая ухватиться за что-либо, за малейший ее промах, чтобы нанести ей удар, от которого бы она не могла оправиться. Он иначе и не умел наносить удары своим врагам, как только смертельные.
Но как отмстить ей?
Бывали дни, что он часами придумывал ей достойную месть.
Он был человеком старого закала, и потому яд казался ему самым верным и надежным средством отделаться от врага. Он даже рискнул сообщить об этом Екатерине, но та с ужасом и негодованием сделала ему строжайший выговор за самую мысль о нем.
– Бог поможет нам, Данилыч, – сказала она. – Бороться с ней мне назначено судьбой, но придет некий человек и освободит меня от этой змеи.
– Уж не Орлов ли? – насмешливо проговорил Ментиков.
– Какой Орлов? – с недоумением спросила императрица.
– А денщик царев…
– Почему же именно Орлов, Данилыч? – не понимая его, проговорила Екатерина.
– Потому что Гамонтова стала зело на него заглядываться, – ответил, улыбаясь, Меншиков.
– Да что ты, Данилыч! На Орлова?..
– На него.
Императрица тоже улыбнулась. Если это действительно так, так чего же лучше? Царь не выносит, когда ему предпочитают кого-либо другого. Несомненно, он должен будет заметить то, что мог заметить ненаблюдательный и, по ее наблюдениям, даже не особенно дальновидный князь… Ну, а ежели царь и не заметит этого сам, то можно будет направить его очи туда, куда следует.
Луч надежды проник в оскорбленную душу Екатерины.
В тот же день, когда происходил этот разговор, Марья Даниловна совершала свою обычную прогулку по Летнему саду.
Она шла медленно, раздумывая о своем новом положении при дворе и о том, как удержать его, если не навсегда, то по крайней мере на возможно долгое время.
Она думала и об Орлове, который в последнее время действительно начинал ей сильно нравиться. Сердце ее было непостоянно, изменчиво и требовало частых перемен и разнообразия.
Петра она в сущности не любила. Его резковатый разговор и манеры действовали на нее неприятным образом. И потом – однообразие отношений, определенный строй жизни, придворный режим начинали сильно надоедать ей, а порой и тяготили ее.
Когда-то, в Стрешневке, она мечтала об этой жизни, стремилась к ней, как к чему-то веселому, радостному, как к какой-то полной, неограниченной свободе, но теперь эта свобода стала уже казаться ей чуть ли не рабством.
Ее мятежный дух и беспокойный нрав, выработавшийся во время ее скитаний по бурному океану жизни, не переносил однообразия и требовал новых впечатлений, новой борьбы, новых скитаний. Ее душа авантюристки постоянно жаждала приключений, опасностей и перемен.
Орлов был красив, скромен, не смел поднять на нее глаз, не смел сказать ей смелого слова. Он терялся в ее присутствии, робел больше, чем в присутствии государя, которого боялся. Но по его быстрым, робким взглядам, которые он бросал на нее, она угадала, что Орлов неравнодушен к ней, и ей показалось забавным затеять с ним любовную игру, а может быть, и серьезно впоследствии увлечься им.
Смелая до дерзости, она никогда и никого не привыкла стесняться. и хотя она отлично чувствовала и сознавала, что при дворе есть ее злейший враг Меншиков, который следит и подстерегает каждый ее шаг, она относилась к князю с каждым днем все более и более небрежно.
Раза два он застал ее в разговоре с Орловым, и по его злобной улыбке она поняла, что светлейший кое о чем догадывается.
Но, сознавая свое сильное влияние на Петра, она совершенно перестала бояться князя Меншикова, а порой вышучивала даже его.
– Помнишь, князь, – сказала она ему однажды в присутствии Орлова, – не так давно ведь это было… Ты добивался моей любви?
– Положим, так, – ответил князь. – Что из того?
– Ничего, так, вспомнилось… А теперь ты ненавидишь меня. Ведь ты ненавидишь меня?
– Положим, что и сие верно.
– А за что? За то, что я тебя, старого, не могла полюбить? Женское сердце изменчиво и своенравно, князь. Вот ежели бы ты был таким, как он, – она кивнула головой на Орлова, который от страха смертельно побледнел, – ну, тогда дело другое…
Меншиков в ответ на это, как будто ничего неприятного не услышал, только добродушно засмеялся.
– А что, – вкрадчиво проговорил он, – разве Орлов тебе по душе?
– Много будешь знать, еще больше стариком станешь, – ответила она и рассмеялась ему в глаза.
Орлов был ни жив, ни мертв…
Меншиков вышел, и Орлов поспешил последовать за ним. Он думал, что светлейший распалится на него гневом, но вышло, к его удивлению, совершенно обратное…
Князь ласково потрепал его по плечу и шутливо проговорил:
– Ишь, проказник ты какой, Орлов…
И тотчас же с радостной вестью он поспешил к императрице.
VIIIМарья Даниловна вспоминала обо всем этом, гуляя по аллеям Летнего сада.
Стояла глухая и ненастная, хмурая петербургская осень.
Редкие солнечные дни были исключением, а то все время шел мелкий и частый дождь, испортивший вконец улицы города. Да и солнце уже не грело, а светило бледным, холодным блеском, свидетельствуя о скором приближении зимы.
В этот день, однако, солнце показалось с утра, и главные аллеи сада были настолько в порядке, что по ним можно было гулять. Но ветер дул с взморья, вода в реке прибывала, молодые еще деревья гнулись и сыпали желтыми и червонными листьями на аллею. Ветер проносился между ветвями и жалобно гудел в них, точно завывая отходную песню.
И это осеннее настроение мало-помалу передавалось Марье Даниловне. Ей вдруг сделалось как-то тоскливо и жутко…
Она почти всегда гуляла в саду одна, без сопровождения Акулины, которая должна была ее ждать снаружи, у решетки, на набережной Невы.
Марья Даниловна решила уже выйти из сада, чтобы направиться домой, как вдруг на одном из поворотов аллеи перед ней будто вырос мужчина, тщательно закутанный в длинный темный плащ. Широкая мягкая шляпа была надвинута на самые глаза, так что лица его почти не было видно, кроме гладко выбритого подбородка.
Она в изумлении остановилась, так как он преградил ей дорогу, очевидно, с намерением не пропустить ее. Несмотря на явно выказываемое ею нетерпение, он не двигался с места, а когда она сделала попытку обойти его, он сделал шаг в ту же сторону, как и она…
Тогда она остановилась, скрестила на груди руки и сказала ему:
– Кто ты и что тебе от меня нужно?
Он приподнял шляпу. Два жгучих черных глаза смотрели теперь на Марью Даниловну.
Она мгновенно узнала их и вздрогнула от неожиданности и неприятного чувства, прошедшего по ее душе.
Она была так далека мыслью о представшем перед нею человеке, так глубоко забыла его, что ей показалось, что будто перед ней стоит выходец с того света, привидение загробного мира.
– Это ты… ты… – беспомощно бормотала она, озирась вокруг и ища помощи.
– Да, это я, – ответил цыган, и злая усмешка искривила его красивые губы. – Только ты напрасно оглядываешься. В саду никого нет в эту погоду и до калитки очень еще далеко. Мы здесь одни, и нас никто не увидит.
Марья Даниловна с изумлением всматривалась в него.
За время своего пребывания в Петербурге он очень изменился, похудел, побледнел, и кожа его лица уже не была такого смуглого, бронзового цвета, как несколько лет тому назад, когда она его видела впервые в саду стрешневской усадьбы.
И одежда его была иная, приличествующая городскому, столичному жителю. Он казался уже не таким дикарем, как прежде, но если он ей когда-нибудь и нравился, то теперь уже не производил на нее никакого впечатления, а напротив, был скорее ей жалок, как бывает жалко оригинальной, колоритной картины, утерявшей весь свой прежний блеск и всю свою оригинальность под кистью неопытного и бездарного реставратора.
– Так что же тебе от меня нужно? – вызывающе заговорила она. – Надеюсь, ты забыл о тех глупых требованиях, с которыми когда-то приставал ко мне? Я вижу, внешность твоя изменилась, – насмешливо продолжала она, презрительно оглядывая его с ног до головы и видя, как он смущается и свирепеет под этим оскорбительным взором. – Но ежели ты изменил одежду, то, конечно, изменил и свою дикую, необузданную душу?
Сказав это, Марья Даниловна отвернулась от цыгана и двинулась вперед, но должна была остановиться…
– Я не пущу тебя! – вдруг сказал он ей, заметя ее движение. – Ты должна выслушать меня. Да, я изменил одежду, но душа цыгана не меняется так легко, как одежда. Да, я все тот же и пришел требовать от тебя старого долга.
– Ах, – ответила она, – ты шутишь! Я вижу, что ты выучился хорошо говорить за это время, но ты не выучился шутить. Скучно повторять одно и то же. Забудь меня.
– Забыть?.. – сильно проговорил он. – Забыть? Забыть тебя, которая вырвала меня из моего родного табора, как негодную полевую траву? Забыть тебя, которая лишила меня свободной кочевой жизни под светлым небом, в степях зеленого цвета у синих вод моря или широких рек? Забыть тебя, которая лишила меня солнца и воздуха и заставила столько времени скитаться в этом городе, где нет летом ночей, а зимой ночь тянется вдвое? Никогда не забыть мне тебя, никогда!
Алим от волнения смолк на несколько секунд и затем продолжал:
– Мирно и счастливо жил я у очага вместе с моею матерью, которая умерла теперь там, далеко, от огорчения, потому что я был свет очей ее, опорой ее старости! Разве ты думаешь, что у нас в таборе не было красивых девушек, которых я бы мог любить? Разве ты думаешь, что они не полюбили бы меня? Но я бросил табор, бросил мать, бросил степи и солнце и небо, к которым привык, под которыми родился. И все для тебя! Для тебя одной! Да, для тебя я отдал все это. И я не жаловался бы, ежели бы ты сдержала свое слово. Я бы радостно променял и солнце, и небо, и очаг на твою любовь. Но ты обманула меня!.. Ты насмеялась надо мной! Ты заставила меня убивать людей, поджигать дома, красть деньги…
– Ну, к этому тебе, я думаю, не привыкать стать… – злобно сказала она, прервав его речь.
– Не суди по себе, – остановил он ее.
– Как ты смеешь? – негодующе вскрикнула она.
– Я все знаю, – твердо и внушительно проговорил он.
– Все? Что именно?
– Все. И про ценное ожерелье, и про светлейшего, и про любовь к тебе царя. Я все знаю.
– Тем лучше, – спокойно проговорила она и дерзко поглядела ему в глаза. – Ежели ты знаешь даже только одно – про любовь царя ко мне, то чего же ты хочешь? Мне стоит только донести губернатору о твоих дерзких речах, и ты не только не увидишь своих степей, но даже и здешнего холодного солнца.
– Я не боюсь твоих угроз. Светлейший – враг твой, и ты меня им не испугаешь. Он примет меня и выслушает охотно все, что я расскажу ему про тебя и твою прошлую жизнь.
– Он никогда не примет тебя. Прежде чем ты сделаешь это, тебя здесь не будет. Я попрошу царя, чтобы тебя запрятали в каземат.
– Что запрятать в каземат, надо поймать меня прежде.
– Это не так трудно. Я узнаю, где ты скитаешься по столице.
– Я нигде не скитаюсь, и, чтобы не трудиться тебе, я скажу тебе, что я служу при дворе.
– При дворе!..
– Да, при дворе.
Марья Даниловна расхохоталась.
– Ну, вот… – сказала она. – Эта шутка мне больше нравится. Так бы ты и всегда шутил, оно было бы куда веселее.
– Я не шучу. Я служу кузнецом в царской кузнице, и царь знает меня и одобряет мою работу. И все вельможи знают меня. И полковник Экгоф, который управляет кузницей, знает меня.
Он насмешливо взглянул на нее.
Она вздрогнула.
«Так он знает даже про мои отношения с Экгофом?» – промелькнуло у нее в мыслях, и она почувствовала страх…
– Кончим разговоры, – наружно спокойно произнесла она.
– Кончим! Я сам только этого и дожидаюсь! – согласился цыган.
– Чего ты от меня хочешь?
– Я уже сказал.
– Но, Алим, – вдруг мягко сказала она и хотела взять его за руку, которую тот отдернул, – ты подумай, я служу при дворе, меня любит сам царь. Всю жизнь рвалась я к этому. Все преступления, которые я сделала…
– Моими руками… – вставил он.
– Все невзгоды, которые я перенесла ради достижения этой цели, все… все… Все это я должна забыть, бросить все, чтобы идти за тобою в какие-то степи, в какой-то табор, к чужим, незнакомым мне людям… Для чего? Ты не хочешь этого, ты только нарочно говоришь это, чтобы сделать мне неприятное. Да и зачем тебе это? Ты отстал от той жизни. Ты привык к другому. Разве тебе нехорошо здесь? – ласково спросила Марья Даниловна. Но Алим тотчас же страстно возразил:
– Как бы мне хорошо ни было, мне там лучше. Разве рыба в лоханке лишена воды? Но у нее нет простора, нет свободы. И совесть моя не спокойна. Я до сих пор вижу Стрешнева, которого я задушил, вижу обгорелый труп карлицы, вижу пламя, в котором сгорела усадьба. Все вижу я по ночам, и сон мой неспокоен, как неспокойна моя совесть. Но ежели я уйду туда, с тобою, я буду знать, для чего я все это сделал, и совесть моя успокоится.
– Но разве ты все еще любишь меня?
Он грубо схватил ее за руку.
– Я ненавижу тебя! – почти крикнул он. – Ты горе моей жизни!
– Так уходи в свои степи, я помогу тебе, и оставь здесь свое горе, – улыбнулась она, высвобождая руку, которую он больно стиснул.
– Я не уйдут без тебя…
– Но почему, почему же, ежели ты не любишь меня?
– Я ненавижу тебя, – повторил он с прежней силой. – Да, ненавижу, но порой проходит ненависть моя, и мне кажется, что я опять люблю тебя, как любил свою потерянную совесть…
Она нахмурилась и, не давая ему продолжать, резко проговорила:
– Довольно, цыган. Много наболтал ты тут всякого вздору. Я не хочу тебя более слушать. Когда-то мы стояли на одной дороге, но теперь наши дороги далеко разошлись друг от друга. Тебе не достичь меня по моей, я не пойду по твоей. Ты говоришь, что не страшишься моих угроз, я не боюсь твоих. Разойдемся. Будем, значит, бороться друг с другом, а кто поборет – увидим.

