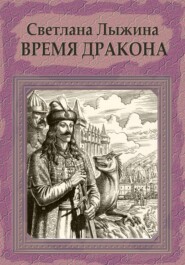скачать книгу бесплатно
– Доброго вечера, господин. – После чего князь, ведя коня за собой, проходил во внутренний двор.
Где-то начинал гавкать цепной пёс, которому тут же вторил соседский, а их безуспешно пытался унять седоусый слуга – муж сгорбленной служанки.
– Хватит уже гавкать! Хватит, – повторял старый челядинец, принимая из государевых рук конский повод, однако Влад не следил, кому и что передавал, а смотрел на крыльцо, где ожидала нарядная красавица.
Нарочно эта красавица наряжалась. Нарочно надевала платье из красного бархата и расшитый жемчугом поясок. Нарочно укладывала причёску, перетягивая локоны не тёмными, под цвет волос, а золотыми шнурками. Глаза подводила чёрным по самому краю. Видать, напускала чары. Губы у неё блестели от чего-то. Поцелуешь – сладко.
Если Влад спрашивал:
– Мёдом, что ли, намазала? – то прямого ответа не получал.
– Может, мёдом, а может, и нет, – говорила красавица, лукаво улыбалась и вела в ярко освещённую комнату, к столу, где был накрыт ужин.
В летнюю пору все окна в том помещении отворялись, поэтому отчётливо слышалось, как в садике стрекотали цикады. Князь только успевал прислушаться к их тихой трескотне, как вдруг соседский пёс снова принимался гавкать и подвывать, никак не желая успокоиться. Вспоминалась поговорка: «Милая, я пришёл бы к тебе ночевать, да перед собаками стыжусь».
Влад не мог сказать, почему, посещая тот дом, вспоминал поговорку, придуманную для деревень, ведь Букурешть несмотря на свои малые размеры, являлся городом. В городах нравы всегда были свободнее. К тому же дело касалось государя, и молва не посмела бы судить строго. Иногда только шептал кто-нибудь приятелю, пряча ухмылку в кулак:
– Вон в том доме живёт наша государыня.
«Государыня… Выдумали-таки слово! – усмехнулся Влад, вспоминая вечерние свидания, однако тут же пришлось вспомнить о цели нынешней утренней поездки, о монастыре. – Направляясь в святую обитель, положено давать ход только мыслям о спасении души, а остальные пресекать. Вдобавок пост ещё не окончился. Подумал о блуде в пост – согрешил вдвойне».
Князь даже досадовал на себя из-за таких мыслей – не успел начать паломничество, а уже сбился с праведного пути – но дракон, бегущий слева, возле коня, был весьма доволен и улыбался во всю пасть, как умеют улыбаться собаки.
«Почему тварь радуется? – размышлял Влад. – Не оттого ли, что это настоящий дьявол, который всегда рад, когда человек оступается?» – однако догадки оставались догадками. Конечно, правитель не раз спрашивал свою ручную зверушку:
– Кто ты? – Но зверушка отвечала по-разному, и в этом не было ничего странного, ведь если тварь выдумана, то её ответы переменчивы и зависят от хозяйского настроения.
«А вдруг эта тварь не вымышлена? – порой спрашивал себя Влад, но, предположив такое, всегда одёргивал себя: – Брось! Пусть тебе с детства твердили, что на свете есть бесы и что сомневаться в их существовании грешно, но для человека всерьёз думать, что с ним говорит бес, это верный путь к безумию. О разговорах с нечистым можно думать только как о вымысле – вымысле, созданном для забавы».
* * *
Ранним утром на улицах попадалось мало прохожих, но все встречные почтительно кланялись и сразу вжимались в дверные ниши, давая конникам дорогу. Правитель только успевал замечать, что справа и слева мелькают затылки, чёсаные и нечёсаные, а ещё – белые женские платки.
«Когда ты облечён большой властью, то волей-неволей смотришь на людей сверху вниз», – думал Влад. А ведь было время, когда он смотрел на мир иначе – снизу вверх, и запоминались не головы, а ноги и подолы. К примеру, подол чёрной рясы, немного обтрепанный, но чистый. Эту рясу носил священник, которому Влад исповедовался в детские годы, когда ещё не имел ручного дракона и жил лёгко и беззаботно.
Когда князь начинал вспоминать о тех временах, мысль уносила его в далёкие венгерские земли, в город, расположенный не на равнине, как Букурешть, а на холме среди гор, сплошь заросших лесом. Правитель знал, что в самом центре города, на перекрёстке и сейчас есть трёхэтажный дом длиной в четыре окна. Князю помнилась даже черепичная крыша, нахлобученная, словно крестьянская войлочная шапка, ведь именно с этим скромным жилищем, а не с княжескими хоромами он связывал самые лучшие годы раннего детства.
Когда-то в доме жили отец, мать, старший брат, сам Влад и немногочисленная челядь. Там жил и священник-монах, отец Антим, с которым все обращались как с близким родственником.
Служитель церкви всегда нужен, если семья и челядинцы – православные христиане, которые живут среди католиков, а до ближайшего православного прихода не смогут добраться даже за целый день. Поэтому отец Антим и жил в доме.
Влад помнил просторную чёрную рясу и рыжие кожаные башмаки. Эти башмаки – тупоносые, доходящие до середины икры и крепко зашнурованные кожаными ремешками – мелькали под полами рясы, когда её обладатель куда-нибудь торопился. Князю вспоминался тёмный плащ-мантия. Вспоминались руки священника – сухие ладони и длинные пальцы. Пальцы правой руки то и дело приходили в движение, перебирая затёртые до блеска деревянные чётки.
В детстве Влад знал – если подойдёшь, дёрнешь за рукав и произнесёшь «отче», к тебе обязательно склонится раздвоенная борода серо-бурого цвета, а затем послышится кроткий голос:
– Что такое случилось, чадо?
Произнеся это, священник склонялся ещё ниже, и малолетнему Владу становилось видно ещё нестарое румяное лицо с ясными глазами и мягкая шапочка с острым верхом, которая прикрывала лоб монаха от самых бровей.
Шапочку и мантию отец Антим снимал только во время служб. Он был словно путешественник, одетый так, чтобы сию же минуту пуститься в странствие, и это вызывало у маленького Влада замешательство:
– Отче, а ты от нас не уйдёшь?
– Нет. Зачем мне уходить? – отвечал священник.
Достопамятный город в долине среди гор назывался Шегешвар. Так произносили венгры и немцы, причём немцев в городе было большинство. Их предки обосновались на этом самом месте очень давно – так давно, что успели стать похожими на венгров. На улицах говорили в основном по-венгерски, а по-немецки, конечно, тоже говорили, но чаще меж собой или в домах. Владу почти не доводилось слышать немецкую речь. Он знал только, что на немецком языке этот город зовётся Шезбург.
Румын здесь жило мало. Они именовали город как Сигишоара[4 - В трансильванском городе Сигишоара Влад Дракул-младший (Цепеш) провёл ранее детство. В Средние века эти территории входили в состав Венгерского королевства. Вероятнее всего, Влад родился не в Сигишоаре, а был привезён туда в возрасте 2-х лет в 1431 году. Старшему брату Влада в 1431 году было около 4-х лет.], но семья Влада чаще всего употребляла это название не в разговорах с незнакомцами, а в своём кругу.
– Живём, будто на острове, – вздыхала мать.
– И выйти некуда, и поговорить не с кем, – вторили её служанки.
В доме говорили по-румынски, молились на славянском языке, а за воротами начинался совсем другой мир: весь город трещал на чужих языках, в храмах звучала латынь. Чтобы почувствовать, что ты «на острове», можно было даже и не выходить никуда, а выглянуть в окно и увидеть на другой стороне улицы серую каменную стену доминиканского монастыря.
Как семья оказалась в таком положении, малолетний Влад знал, и всё же просил священника, дёргая за рукав:
– Отче, расскажи историю.
– Что рассказать?
– Как мой отец, мама и ты приехали к католикам.
– Я же рассказывал. – Отец Антим, наклонившийся было к мальчику, снова распрямлялся.
– Ты рассказывал, но коротко. А теперь расскажи длинно, – просил Влад.
– Я и длинно рассказывал, – возражал отец Антим.
– Отче, расскажи ещё раз.
– У тебя не хватит терпения слушать, – улыбался монах.
– У меня терпенья хватит, – возражал Влад.
– Ну, хорошо.
Отец Антим усаживался на скамью в одной из комнат или на крыльцо – там, где был пойман, а малолетний Влад устраивался рядом и ждал, пока рассказчик, кашлянув пару раз для прочищения горла, начнёт повествование.
– Когда умер твой дед, великий государь Мирча[5 - Князь Мирча Старый. Один из самых известных и почитаемых румынских князей. Правил с 1386 по 1418 год с небольшими перерывами. Умер в начале 1418 года.], было это большое горе для всей Румынской земли. Люди плакали, потому что не знали, даст ли им Бог другого такого правителя – сильного и мудрого, который оградит их от напастей. Твой дед оставил после себя трёх сыновей, и по закону трон занял старший из них…
Влад уже с первой минуты начинал перебивать:
– Отче, ты не всё рассказал про дедушку.
– Что же я забыл?
– Ты забыл сказать, что дедушка правил очень долго. Он умер совсем седым.
– В этот раз к слову не пришлось…
– Нет, отче, расскажи. В прошлый раз ты говорил – если правитель доживает до глубокой старости, значит, он великий.
– Я такое говорил?
– Да. Ты сказал, что на великие дела нужно много времени. Если правитель умрёт рано, он не успеет всё доделать.
– Ну, что ж, – соглашался отец Антим, – будем считать, что я и сейчас всё это сказал… Так вот после смерти твоего деда на престол сел старший брат твоего отца, но правил недолго, потому что был убит.
– Кем?
– Незачем спрашивать, если тебе известен ответ, – говорил монах, но Влад просил всё настойчивее:
– Отче, доскажи сам, как в прошлый раз.
– Был убит злыми людьми.
– Вот! – Малолетний слушатель кивал, довольный. – Вот теперь ты рассказал всё как надо.
– После этого началась в Румынской земле смута, и сел на трон младший брат твоего деда. Конечно, был он уже не молод…
Влад снова перебивал:
– Отче, в прошлый раз ты рассказывал про него смешно, а сейчас – не смешно.
– А что я рассказывал?
– Ты сказал, что дедушкин младший брат накопил годов, зато растерял волосы.
– Да, – вторил отец Антим, – поднакопил годов, зато растерял волосы. Оно бы ладно, но ничем этот правитель народу не запомнился… только своей лысой головой[6 - Князь Михай (Михаил), старший сын Мирчи Старого, правил всего два года. Затем трон достался князю, которого звали Раду. Новый князь получил прозвище Лысый (Праснаглава).].
– А ещё ты говорил, что он сильно не любил моего отца.
– Да, и потому твой отец, когда понял, куда ветер дует, решил, что лучше уехать…
– Пока злые люди не убили! – восклицал Влад.
– Чадо, ты знаешь всю эту историю, – говорил монах, хитро улыбаясь. – Рассказывай тогда вместо меня.
– Нет! Отче… Рассказывай ты!
– Хорошо, расскажу. Только ты уж меня не перебивай…
– А ты ничего не пропускай!
– …И вот начал твой отец готовиться к отъезду. Пришёл в храм, где всегда исповедовался, встал смиренно в сторонке, дождался окончания службы и подходит к своему духовнику, но не за исповедью, а за советом: «Так и так, отче Николае, надо мне отправляться на чужбину, к католикам, и оттого пребывает душа моя в печали. Жить мне на чужбине долго – не один год и не два. Буду я вдали от православных земель, православных приходов и монастырей. Не смогу часто посещать службы, не смогу исповедоваться как должно. А если родятся у меня сыновья, кто научит их разуметь слово Божье? Не знаю, что и делать». Отец Николае призадумался и спрашивает: «Когда же ты должен уехать?» «Каждый день дорог», – отвечает твой отец. «Ой-ой-ой, что ж ты раньше не приходил?» – покачал головой отец Николае, но попросил твоего отца подождать с отъездом хотя бы до понедельника. А до понедельника оставалось всего ничего – половина пятницы, суббота и воскресенье.
И снова малолетний слушатель не мог удержаться от вопросов:
– А если б в эти дни злые люди захотели…
– Отец Николае думал об этом, потому и торопился, – пояснял рассказчик. – В тот же час побежал он к митрополиту, сумел пробиться в палаты. Благо храм, при котором числился отец Николае, был кафедральный, и оттого митрополит знал в лицо и по именам всех священников, что в этом храме служат.
– А если б мой отец сам пошёл к митрополиту?
– Нет, твой отец сам пойти не мог, но человека, которому можно довериться, выбрал правильно. И вот когда отец Николае поведал митрополиту…
– Тогда решили, что к католикам вместе с моим отцом поедешь ты! – радостно подсказывал Влад.
– Это решили не сразу, – возражал отец Антим. – Сначала митрополит меня призвал. Я прихожу и вижу, что отец Николае тоже в комнате у владыки. Сидит в сторонке и странно так поглядывает. Значит, только что разговор вели обо мне. Я перекрестился на образа, поклонился земно, как полагается, и жду. Митрополит спрашивает: «Ты сколько уже в дьяконах подвизаешься?» Я отвечаю: «Восемь лет. Вот отец Николае помнит. Он сам присутствовал, когда рукополагали меня в дьяконы, и под его же началом я в храме подвизаюсь». Митрополит помолчал, подумал и снова спрашивает: «А не пора ли тебе из дьяконов в священники?» Я растерялся…
– …и испугался, – подсказывал Влад.
– И испугался. Где это видано, чтобы сам владыка у простого дьякона спрашивал совет! У меня аж сердце заколотилось, в ушах зашумело, но совладал я с собой, отвечаю: «Если есть во мне нужда как в священнике, значит, время настало. А если нет такой нужды, я могу ещё подождать, пока не освободится для меня где-нибудь место». Вот тут митрополит и сказал: «Хватит тебе жить под крылышком у отца Николае. И в библиотеке моей после вечерних служб прохлаждаться тоже хватит. Добро бы переписывал книги, а то читаешь только. Послезавтра рукоположим тебя в священники, чтобы ты мог крестить, исповедовать и причащать. А ещё через день благословляю тебя отправляться за горы, на север, и нести свет православия страждущим».
Отец Антим говорил очень хорошо, даже менял голоса, подражая то одному герою своего повествования, то другому. Влад хихикал от удовольствия.
– Я, услышав такое, ещё больше испугался, – продолжал рассказчик. – Испугался потому, что не понял ничего. Кому я должен нести свет православия? Уж не католикам ли? Хорошо, что отец Николае после того, как я побывал у митрополита, объяснил мне. Тогда я обрадовался. Получалось, что дали мне приход.
Отец Антим шутил, когда говорил, что дали ему приход. Ведь приход – это не только прихожане, но и храм. Дом в Сигишоаре храмом не был. И отдельную молельню, которую можно посещать во всякий час, в доме не делали. Куда уж молельню, если все жили друг у друга на головах.
«Приход» состоял из четырнадцати человек, которые могли разом уместиться только в одной комнате – в столовой. Там и совершались службы. Первая начиналась очень рано, и дети почти никогда на ней не присутствовали. Вторая – в десятом часу утра, а третья – вечером.
По воскресеньям перед второй службой священник принимал исповедь. Садился за обеденный стол почти на самом углу, накрывал этот угол белым вышитым полотенцем, а затем хлопал ладонью по ткани и бодро произносил:
– Ну, что ж. Подходите поочерёдно. Очистите свои души от греха.
Первым подходил старший брат Влада, Мирча, названный так в честь великого деда. Мирча Малый склонялся к уху священника и принимался что-то шептать, а отец Антим понимающе кивал, но иногда делал удивлённое лицо и спрашивал:
– Как же так? – очевидно, удивляясь разнообразию мальчишеских проказ.
Влад помнил те времена, когда его не приглашали к исповеди, ведь считалось, что детям до семи лет каяться не в чем. Домочадцы выстраивались в очередь, а он отходил в сторону, влезал на лавку возле стола и смотрел, как другие рассказывают священнику про свои грехи.
Определить, кто что рассказывает, было трудно и вместе с тем просто. Трудно потому, что «грешники» не только старались говорить тихо, но и отворачивались, прятали лица – по изгибу спины ведь не поймёшь, о чём сейчас речь. Зато угадать общий смысл каждой исповеди не составляло труда, ведь если люди живут под одной крышей, то всегда известно, кто чем грешен.
«Вот старший брат кается, что обозвал нехорошим словом и побил мальчишку с соседней улицы, – думал проницательный наблюдатель. – Слуга-конюх кается, что вчера выпил много вина. Другой слуга кается, что вчера выпил много вина и ущипнул служанку, которая мыла пол. Третий – что ходил в весёлый дом».
Затем наступала очередь женщин. Мать каялась, что даёт волю гневу. Материны служанки каялись, что брали без спроса её вещи, а когда это обнаружилось, то «лгали госпоже». Кухарки каялись, что ели мясо в постный день. Прачка и та служанка, которая мыла в доме пол, каялись, что одолела их лень. Нянька, которая присматривала за Владом даже во время служб и исповеди, каялась, что, дескать, молится неусердно.
Лишь одна исповедь оставалась загадкой. «В чём кается мой отец?» – спрашивал себя малолетний Влад и не мог ответить. К тому же отец исповедовался реже, чем остальные домашние – много времени проводил в разъездах. Если он был не в отъезде, то подходил к священнику за отпущением грехов сразу после своих детей. Стоял к остальным домочадцам вполоборота – лицо не прятал. Говорил довольно громко, так что были слышны отдельные слова. И всё-таки маленький наблюдатель не мог угадать мысли своего отца, а додумался лишь много лет спустя. «Уж не каялся ли он в том, что беседует с дьяволом? – повторял себе младший Дракул. – Вполне возможно, в этом и каялся. Жаль, что доподлинно узнать это нельзя».
* * *
Город Букурешть с его домами, стоявшими впритык друг к другу, очень быстро сменился пригородом. В пригороде каждое жилище окружал фруктовый сад – такой раскидистый, что меж зелёных крон с трудом проклёвывался рыжий нос крыши. Затем сады уступили место равнинам, а вместе с садами и строениями ушла тенистая темнота, покрывавшая дорогу.
На открытом месте сделалось уже совсем светло, хотя солнце даже не появилось из-за горизонта. Лёгкий туман ещё держался, однако вблизи он почти не был заметен. Лишь глядя вдаль, на равнины, можно было увидеть, что изгороди из жердей и двухколейные дороги справа и слева от главного тракта бледнеют чем дальше, тем больше, а горизонт почти пропал. Даже коровьи стада на полях казались полупрозрачными, но венценосный путешественник, видевший всё это не раз, обращал на них мало внимания. Он торопился и, двигаясь широкой рысью, через четверть часа доехал до развилки.
По большому счёту, между двумя дорогами, на которые разделился тракт, не было заметно разницы, но Влад остановился и задумчиво спросил у боярина, который всё так же находился рядом, по правую руку: