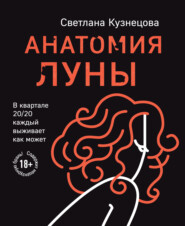
Полная версия:
Анатомия Луны
Учитель ждал объяснений. А я стояла, понурив виновную голову, и не знала, как объяснить, что автор учебника был бы рад столь ярким анатомическим подробностям между строк своего текста… Разве главное не всегда между строк?
Тут Гаврила Гробин вскочил с места. Его щеки полыхали. Спазм в горле. Рыжая русалка позорно сидит в луже.
Он вдруг выпалил:
– Это я нарисовал!
Ванька Озеров и все остальные со змеиной гибкостью вытягивали шеи в попытках подсмотреть, что же такое «он нарисовал». Учитель хранил гробовое молчание. Перед этим неожиданным и неловким порывом пробуждающейся юношеской страсти даже он отступил. Кашлянул и, пообещав, что еще вернется к этому, продолжил вести урок. Но к этому учитель больше не вернулся. Он был не стар, этот учитель биологии, и втайне пронзительно тихими июньскими ночами мечтал когда-нибудь убежать на край Земли – последние всплески романтики корчились в агонии в его организме, где-то между желчным пузырем и печенью. Как известно, романтики верят, что планета плоская, точно блин. Стоит добраться до кромки блина – и можно вечно сидеть, свесив ноги над пропастью, полной звезд. Но, когда у тебя уже развился холецистит, зазорно мечтать о звездной бездне.
После уроков мы с Гаврилой шли домой. Золотые и красные деревья. Холодные лужи на тротуарах. Шли молча. Что-то недосказанное, тяжеловесное, как сом, запутавшийся в рыболовных сетях, билось между нами и не находило выхода.
Уже у дома он вдруг бросил на меня быстрый взгляд, полный незнакомого мне страдания. Хотел улыбнуться, но губы искривила дрожь. И с этой дрожью боли и нежности он шагнул в спасительную темноту подъезда, взбежал по лестнице и, не соразмерив силы, захлопнул дверь квартиры, разбудив среди дня привидение, дремавшее в складках штор. Там, в своей комнате, он упал на кровать лицом вниз и лежал до вечера. Голова кружилась, будто в лодке в сильную качку. Что-то большое дрожало и плескалось внутри – словно весь он стал хрупкой стеклянной колбой, стенки которой вот-вот лопнут от кипятка. Горячий океан заполнял без остатка, наливал соком его корень, вводя в стадию кифоза.
* * *Тоном пьяного мечтателя Борис мычит:
– Вы в Париже. Блестят бокалы. Идеальная белизна скатертей. Вы только что сыграли этюд Шопена на фортепьяно. Вам аплодируют. К вам подходят и спрашивают: «Вы миллионер?» Только миллионеры могут позволить себе играть на фортепьяно перед публикой в парижском ресторане.
– И таперы, – угрюмо замечает Гробин.
Мы сидим в чайхане. На полу лужица чьей-то рвоты. Ее не убирают. Просто обходят. А некоторые, пошатываясь, бесстрашно давят гадину ботинками и разносят на подошвах. Эта горько-желтая дрянь – индикатор степени трезвости собравшейся тут публики. Совсем скоро все перестают ее замечать, на подошвах у всех – одни и те же молекулы чьей-то желудочной кислоты, в душах – одна и та же маета. Наступил декабрь, а зима все не приходит. И за подвальным окном все моросит и моросит какой-то прохладный гной.
Рыхлая девица то плачет, то хорохорится. На ней уныло-зеленое платье в облипку, подчеркивающее складки живота. Ее только что, буквально два часа назад, погнал взашей одномесячный любовник, объявив, что картина закончена и модель ему больше не нужна. Она вытирает сопли о чей-то свитер. Этот свитер принадлежит тому, чьего лица она назавтра и не вспомнит, если ей повезет избежать бурного романа с ним длиною в ночь. У меня будет еще две тонны мужчин! – беззаботно восклицает она и с коротким, похожим на кашель, рыданием залпом опрокидывает в себя стопку водки. Она и не догадывается, как права. Хихикая, вздрагивает, когда ее щупают сквозь платье за мясистые рубенсовские сосцы. У несчастной птичьи мозги, и она никак не может понять, что обречена давать кому попало, каждый раз надеясь на чудо и каждый раз обманываясь, обречена сгнить в этом квартале в одиночестве, может быть, с ребенком на руках.
По чайхане разносятся слухи, что Африканец скоро толкнет новую партию дури. Поговаривают, что латиносы на Морском проспекте поломали двух индусов. И по этому поводу за сдвинутыми столами в углу собирается с десяток бородатых русских ублюдков. Они обмозговывают возмездие – за союзников нельзя не вступиться.
Я впервые – издалека, через всю чайхану и дым коромыслом – вижу Зайку, их главаря. Ему за пятьдесят. И у него нет носа. В самом буквальном смысле. Травма. Лет двадцать назад ножом срубили в драке. Лишь зияющие дыры ноздрей и узенькая, как лезвие, носовая перегородка. Главарь ублюдков сидит в унтах, в штанах с начесом и в куртке полярника с лохматой опушкой. У него красные руки бакенщика, косматая голова с седыми висками и все еще русая борода. В его плоско-безносом лице есть что-то бульдожье. Угрюмыми глазами он смотрит не на тебя, а сквозь, словно за твоей спиной стоит кто-то, кого он ненавидит. И слава богу. Если этот безносый вдруг взглянет на меня, я лишусь дара речи. Почему он Зайка – самая каверзная загадка мироздания. Неожиданный юмор господа.
Борис совсем потерялся. Он глотает абсент стакан за стаканом и оглядывает чайхану. Борис высматривает Ольгу. Но Ольги не видно. Какая-то шальная мысль в его голове проходит извилистыми тропами по альпийским хребтам воображения и выплескивается наружу. Он поднимает взгляд на Сатанова и спрашивает:
– Как стать содомитом?
Сатанов грустно смотрит и пожимает плечами.
– Очень просто.
А потом вдруг оборачивается ко мне:
– Можно мне тебя пощупать, рыжая?
Я не отвечаю ничего, словно этого вопроса и не было.
– Тогда я, последняя скотина, тебя нарисую… – бормочет Сатанов, шарит по щуплой груди, но на груди только свитер с прожженной пеплом дырой. Ни карандаша, ни бумаги при нем нет.
А Борис уже тяжело взбирается на стол. Выход на авансцену жизни пьяного Бориса ужасен. Он ревет:
– Бумагу и карандаш гению!
Кто-то из девиц вдруг приносит и то и другое. Безумные идеи этих мудаков всегда материализуются. Сатанов все-таки щупает меня – за подбородок. У него прохладная и легкая рука, точно лапка воробья. А потом смотрит и рисует. Через десять минут Гробин, морща и без того бугристый лоб, с интересом рассматривает набросок. Борис до посинения в пальцах сжимает стакан и выдыхает перегар. Он мог бы заполнить ложбины Альпийских гор парами абсента – так мощно он дышит. А Сатанов, откинувшись на спинку стула, смотрит в потолок, задрав куцую бороденку. И вдруг они, все трое, пьяными голосами, безбожно не попадая в ноты, начинают петь что-то из Боба Дилана. Песню, похожую на рев бегемотов.
Тогда-то и подошла к нашему столу Ольга. В тот вечер она была одета по-простому. Растянутая кофта до бедер, черная юбка из шерсти, шаль на плечах. Усталое лицо. Бледные, без помады губы. Лишь брови все такие же – разлетающиеся, изогнутые брови яркой суки. Поманила меня пальцем и увела в заднюю комнату чайханы.
Оранжевое пятно света от настольной лампы. Ноутбук и бутылка шотландского виски на столе. Озабоченная Ольга хмурит брови и матерится.
– Опять будет бой с латиносами, – с досадой говорит она. – Эти гребаные ублюдки не успокоятся, пока не превратятся в калек.
Берет со спинки стула пальто и бросает мне.
– Это тебе, подарок. Бери, а то подхватишь пневмонию. – Она прислушивается к шуму за дверью и, захлопнув крышку ноутбука, уходит урезонивать напившихся живописцев.
Пальто из черного драпа. Оно должно облегать женщину, как футляр – виолончель. Но я не женщина. Я рыжеволосая хрупкая банши, и этот футляр мне велик – он бесконечно тянется до самых лодыжек. И рукава придется подвернуть. Я держу пальто в руках. У меня на лице глупая улыбка. Господь притаился совсем близко, в складках тяжелой жаккардовой шторы, заботливо глянул на меня.
* * *Гробин пишет – меня, ворон на дереве, банки со скипидаром. Ежедневное упражнение, тренировка пальцев, чтоб не отвыкли. Потом вытирает кисть и ходит из угла в угол, спотыкаясь о тубы с краской и грунтованные холсты на подрамниках. Гробин не находит себе места. Гробит дергает себя за флибустьерскую бороду.
А я лежу на матрасе и смотрю в потолок. Я ничем, совсем ничем не могу помочь ему. Господь отмахивается с Марса: сами, сукины дети, сами.
– Я не могу ничего, – рычит Гробин, раскачиваясь из стороны в сторону. И вдруг натягивает вязаную черную шапку, сдвигает ее на затылок и убегает вон из квартиры – до вечера бродить по промозглым декабрьским улицам, курить дурь с бомжами в арках подворотен, мимоходом греть руки у костров в мусорных баках, крошить ботинком едва схватившуюся ледяную корку на лужах, мучительно ловить что-то близкое, но неуловимое, как пятна света на подкладке закрытых век. Он вот-вот прорвется. Он уже на пороге. Еще шаг – но в какую сторону? Где оно, твою ж сучью мать? Он, как слепой крот, не видит, но чует, его дразнит и зовет смутная тень образа и цвета.
Гробин, что мы будем есть? Кто меня защитит от всех этих ублюдков, Гробин? Что мне делать, если у меня будет ребенок от тебя? На все эти вопросы нет ответов. Он сам дитя – сутулое бородатое дитя, одержимое щетинистыми кистями, холстами, растворителями и красками.
* * *Мы поскандалили с ним смертельно, до неистовства и ненависти, до кровоподтеков, удушения и выдранных из бороды клочьев. Из-за тарелки риса.
Я всегда накладываю рис в тарелку и хожу из угла в угол. Я всю жизнь ем на ходу. И в этот четверг я, само собой, не изменяю привычке. Все идет своим чередом, жизнь, моя мудацкая жизнь, потихоньку возвращается в русло, я вхожу в транс, меня перестает качать от края до края, я брожу по комнате с тарелкой риса, как с тибетской чашей, и, как тибетский монах, погружаюсь в равнодушное созерцание всемирного дерьма. Но тут вмешивается провидение – я спотыкаюсь о бутыль со скипидаром. Как на грех, Гробин не завинтил ее крышкой. Драгоценная жидкость растекается по полу, впитывается в пыльные щели и ложбинки из-под выдранных дощечек паркета.
– Ло, я тебе столько раз говорил, ешь сидя! – Он отбрасывает кисть в угол.
Мои ноздри раздуваются, у меня напрягаются мускулы души. Это пламя костра рвется, подхваченное зимним ветром. Все, к чертям собачьим. Я не могу так больше. Меня достал этот ветер, эти гнилые бесконечные сумерки, арктический холод промозглый, костры в мусорных баках, все эти гребаные таджики, индусы и латиносы, весь этот квартал, похожий на босховский ад, у меня в печенках сидят эти его драные, провонявшие табаком свитера, его скипидар, уайт-спирит, льняное масло, эти кисти, и щетинистые, и колонковые, и облезшие – он даже такие не выбрасывает, они валяются у него по всей квартире. В задницу все! В задницу всех ублюдков на свете! И я запускаю тарелку с рисом ему в голову. А он роняет меня на пол, и мы боремся, как ахеец с троянкой – не на жизнь, а на смерть. И когда он, придушив меня, уже задирает мою юбку, я тянусь к его чертовой флибустьерской бороде и пытаюсь выдрать из нее пригоршню шерсти. Это не помогает. Мне ничто не помогает. И мне приходится, посылая грязные проклятия в глухой космос, выдержать мощные толчки его ярости. Ярость так безмерна, что не может быть долгой. Она длится несколько секунд и неожиданно иссякает. Он ослабляет хватку. Я спихиваю его с себя. Хватаю пальто и ботинки, выбегаю вон, мчусь по темным лестничным пролетам и уже на улице обуваюсь, накидываю пальто и, размазывая по лицу слезы и сопли, бреду куда-то.
Мразь хлюпает у меня под ботинками. Мразь летит с ночного неба. Желтые пятна фонарей расплываются. Из-за угла выныривает половинка человека. Он уродлив, как Тулуз Лотрек, и даже хуже, у того хоть были ноги, а у этого они оттяпаны по самую мошонку. Нижняя его часть замотана в черный полиэтилен, и этот обрубок человека, опираясь на руки и раскачивая свое туловище, как маятник, скачет по мразотной слякоти, окунаясь в нее своим полиэтиленом. Должно быть, давно отморозил себе все яйца. Он так мал, что можно его взять под мышки, поднять и отнести в подворотню, укрыв от ветра и мрази. Но мне не хочется его поднимать. Только не сейчас. Сейчас мне хочется его пнуть – как кожаный мяч, пусть он улетит с тротуара на проезжую часть, прямо в чертову лужу. Как древним кельтам, мне хочется гонять по этим лужам отрезанные головы своих врагов. А их у меня до кучи. Целый мир.
Какие-то живущие в местных подворотнях суккубы с желтыми сучьими глазами и кошачьими позвоночниками наслали на меня проклятие – иначе и не объяснить, как я оказываюсь в районе пирсов. В моей голове черные смерчи рвут все нейронные связи. Как я здесь, почему, откуда… Что это все такое? Почему такой пронизывающий ветер? И куда теперь? Я иду по открытой всем ветрам набережной. Мои мокрые щеки так замерзли, что вот-вот покроются льдом.
На углу обшарпанного здания с громоздкими колоннами четверо сидят на перевернутых ящиках. Курят. В железной бочке полыхает оранжевый костер, сбиваемый порывами ветра на запад, в сторону залива. Этот негреющий огонь и эти бородатые люди, одетые многослойно – в шваль свитеров под кожаными регланами, – словно вышли из средневековых миров Брейгеля Старшего. Когда я прохожу мимо, они вдруг встают и следуют за мной. Под желтой мутью фонарей и ветром мне мерещится групповое изнасилование и мой труп, выброшенный в темную холодную реку. Я вижу единственный припаркованный в этот час у пирсов грязный пикап. Инстинкт самосохранения включается в моих программных настройках, и я ускоряю шаг. Я почти бегу к этому пикапу. Шаг, второй… пятьдесят третий… И вот я уже хватаю за рукав высокого парня в черном бушлате, что стоит у пикапа.
– Спаси… – этим охрипшим словом я пытаюсь объяснить хоть одной живой душе всю бездонную глубину средневекового кошмара. Он оборачивается, и с его лица мгновенно сходит блуждавшая в уголках рта улыбка. Может, его поражают мои полные нездешнего ужаса глаза, а может, у меня на щеках и впрямь лед… Он смотрит и, похоже, не знает, что мне сказать. Четверо бородатых все ближе. Он машет им рукой. Они ему в ответ. Бородатые проходят мимо. Я расцепляю пальцы и отпускаю рукав бушлата. Боженька-пересмешник, опять ты подшутил надо мной.
– Эй, так тебя спасать или нет? – Теперь уже он хватает меня за рукав и не дает уйти.
Непредсказуемо, как осадки из туч, включается моя веретеновидная извилина, та, что отвечает за распознавание лиц и душ. У него резкий подбородок, большие красивые губы и насмешливые желто-карие глаза, а главное – его соломенные волосы отдают рыжиной. Во всем этом я почему-то не чувствую опасности и потому, сумасшедшая, киваю:
– Да.
– Ну хорошо, – соглашается он и запускает руку в карман бушлата.
Говорят, взмах крыла бабочки может вызвать ураган на другом конце света. В моем случае бабочка взмахнула крылом где-то между Тибетским нагорьем и дельтой Ганга. Именно там какая-то индусская женщина завернула в лист с дерева тендурини пригоршню магии вперемешку с травяной пылью и все это перевязала красной нитью. Получилась тонкая индийская сигарета – биди. Совсем не с табаком. Та самая проклятая биди, с которой все началось.
А может быть, все началось гораздо раньше. Когда сперматозоид бабочки-однодневки соединился с яйцеклеткой моей матери. Слепилась зигота – комок сплошного неуемного любопытства. Старинный марсоход, ныне заметенный песками рыжей планеты, был назван Curiosity – «Любопытство». Ева сорвала яблоко из чистого любопытства. А я из любопытства подошла ближе, чтобы рассмотреть то, что он вытащил из кармана. Нечто, похожее на тонкую коричневую палочку ванили. Биди. Та самая.
В его глазах насмешливый блеск. У ночных пирсов, под этой моросящей гнилью и ветром, что ревет в ушах и рвется к заливу, он вдруг кладет одну руку мне на плечо, а пальцами другой зачем-то проводит по моим вздрогнувшим от страха губам, раздвигает их кончиком индийской сигареты с терпким запахом травы, вкладывает ее в мой рот. Подносит к моему лицу огонек зажигалки… «Не бойся. Это не табак…» Так разве не этого нужно бояться? До меня вдруг доходит – мир все еще вверх тормашками, я все еще в средневековом кошмаре. Да и к черту все. Пусть. Даже в аду можно найти, кому довериться, и плевать на душу. Я втягиваю в легкие травяной дым. Следующая затяжка – его. Мы курим по очереди, и мозг внутри моей черепной коробки покрывается корочкой льда. Район пирсов пустынен, как Океан Бурь на Луне, такой далекой, так странно мелькающей в тучах. Мир наполняется невыносимо легким звоном, и я, кажется, лечу куда-то вниз. Он подхватывает мою тень, не давая ей оказаться в луже. То, что происходит дальше, бессмысленно и неожиданно. Он вдруг притягивает меня к себе и кусает за губу. Меня обдает теплом его твердого тела под расстегнутым бушлатом и уже потом болью… Моя бедная губа… «Какого черта ты творишь, ты психопат?» Он смеется и отвечает: «Я больше не буду». Но не отпускает и вдруг целует уже по-настоящему. Я чувствую привкус травы и собственной крови. Где-то на Южном полюсе покрытая льдами Антарктида раскалывается пополам… «Ублюдок, ты же сказал…» Он опять смеется: «Прости, обманул». Я знаю, нужно валить. Я вспоминаю флибустьерскую бороду Гробина и его пристальные тревожные глаза. Душа покрывается льдистой коркой мгновенной вины. Но я просто не могу. В эту минуту я хочу лишь одного – целую вечность стоять у ночных ветреных пирсов, не хочу, чтобы он отпускал меня. Проклятая виновная мразь. Пусть господь ссыт на нас с неба этой гнилой моросью, раз уж ему так угодно. Он вдруг говорит: «Поехали! Будет весело». Кидает меня, точно смятый бесформенный шарф, на сиденье пикапа и садится за руль. Звук ревущего мотора ужасен. Мы вот-вот вырвемся на орбиту. Тут и наступает невесомость – это пикап несется по шоссе вдоль пирсов. И – о ужас – он оказывается прав: становится весело. До легкого чарующего звона и беспамятства.
Глубокий темный океан в голове. Свет фонарей. Декабрьские костры в мусорных баках. Баррикады из старых автомобильных покрышек – это граница района 20/20. Мы их объезжаем и выносимся за пределы. У бесконечных пирсов темнеет ветреная и грозная в этой промозглой ночи река. Еще не укрытая ледяным панцирем, она как беспокойный монстр, не сумевший впасть в зимнюю спячку. Пирсы обрываются внезапно, с поворотом на широкий проспект. Мелькают огни огромного города и свет встречных фар. Здесь фонари как замысловатые барочные люстры, сияющая реклама, вывески и двери баров, кофеен, ресторанчиков, пабов, рюмочных, булочных, пирожковых, плюшечных, пышечных, дышащих жаром, теплым хлебом, сочностью говяжьей вырезки, пивной пеной морской и до вздрагивания пробирающим ледяным вкусом виски – это город жора и выпивки любого сорта. Господи, ты здесь? Боженька надевает кружевное жабо поверх косухи и потирает ладошки. Ажурные завитушки серебряным светом сверкают на растяжках этим проспектом, елочные лапы мелькают за сиреневым стеклом витрин – этот город загодя готовится к Новому году. Совершенно нормальные аккуратные прохожие, припозднившиеся в барах, бредут, уткнувшись в гаджеты. Им некого бояться. Все ублюдки пытаются согреться у негреющих зимних костров в квартале 20/20. Все, кроме нас.
Машина блюстителей порядка с проблесковым маячком проносится по встречке, и меня охватывает паника, от которой трудно дышать.
– Давай вернемся, – сдавленным голосом прошу я.
– Зачем? Мы не крысы, чтобы их бояться.
– Но мне страшно.
– Ничего, просто села на измену, девочка.
– Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я тебя заклинаю христом-богом-господом, давай вернемся…
Он останавливает пикап у фонаря.
– Дальше, вон там останови, – показываю я вперед на несколько метров, в спасительный сумрак слякотной ночи.
Он смеется и отъезжает подальше от фонаря. Наконец-то темно и безопасно, насколько только может быть безопасно добыче среди охотников. У них гаджеты, связь и спутниковая навигация, им ничего не стоит выследить рыжеволосую банши. И я очень боюсь, что он, единственный человек из моего квартала, из моего привычного ада, бросит меня здесь одну.
– Это просто травка. Не будь такой дурехой. Никто к тебе не прикопается, пока ты кого-нибудь не убьешь. – Он наклоняется ко мне, ладонь психопата вдруг зарывается в мои волосы, от его губ пахнет дымом, кажется, его руки не должны трогать мою кожу… впрочем, я уже ни в чем не уверена. И только когда его пальцы соскальзывают вниз и настойчиво изучают анатомию острых бугорков под тканью моего платья, я, уже у самого края пропасти, останавливаю его. Один бог видит – и хорошо, что только он один, – как мне не хотелось его останавливать.
– Я тебе не шлюха.
– Это хорошо. А то ведь я и не собирался платить.
– Нет, ты не понял. Я не буду с тобой трахаться.
Он обхватывает мою шею теплой ладонью, прижимает мой лоб к своему и улыбается, он в это не верит. Я уже и сама себе не верю. В эту минуту нет ничего важнее, чем ухватиться за соломинку, выползти из мрака – и я взахлеб рассказываю, убеждая саму себя, как чудовищна будет моя виновность, как сильно мне нужен мой несчастный, мой бородатый, мой единственный на всем белом свете Гробин, я вдруг признаюсь только ему, просто не могу остановиться, что священный ужас бьет мне в гортань ацетоном, когда я вижу ублюдков в подворотнях и их костры в мусорных баках, я так боюсь оказаться трупом на дне реки, что у меня болит селезенка, и если бы только у меня был обрез…
Он слушает все это без улыбки. Вдруг перегибается назад, достает из-под своего сиденья обрез и протягивает мне.
– Нет! – Рука, которой я отталкиваю ствол, позорно дрожит.
– Так я и думал. Не говори такого, за что могут спросить. – Он грозно выставляет перед моим лицом указательный палец. Его взгляд жесток. А эти слова как пощечина.
– Я просто боюсь. – Это все, что я могу пролепетать.
– И правильно делаешь. Не бояться можно, только когда с тобой Федька Африканец. – Его взгляд снова становится привычно-насмешливым, и мне от этого легче.
– Прости, я не знала, кто ты…
– Да ну и ладно, пофиг, – хмурится он. – Я тоже не знаю, кто ты. И знать не хочу.
Он выруливает на проезжую часть, и мы несемся обратно, в наш общий ад, в котором – как выяснила я этой ночью – мне и должно быть страшно. Эта новая для меня норма впечатывается в подкорку, как клеймо. А ему самому как живется в этом аду?
* * *Он неделями не появляется в квартире, похожей на пятикомнатный сарай: у него дела за пределами квартала. А появляясь, скидывает черный бушлат в угол прихожей, валится, не сняв ботинки, на диван, лежит какое-то время, уставившись в потолок и пытаясь прийти в себя, а потом тянется к бонгу у ножки дивана.
Четыре комнаты заставлены ящиками с землей, лампами дневного света и пакетами удобрений. В прихожей – коробки с самопальным виски из самогона на дубовых опилках и хлебных корках. Виски гонит старик-химик из доходного дома, разливает в бутылки, клеит брендовые этикетки, а уж Африканец толкает эту дрянь в квартале, в городе и дальше – пока не осточертеет руль и морось на федеральных и местных трассах. Эта коричневая жижа даже не контрафакт, а просто дерьмо, и выращенная собственноручно дурь – его хлеб. Стариковским дерьмом не отравишься, но пить его гадко, а вот дурь хорошая, особого гибридного сорта, ее здесь все называют тибетской. Завтра начнет высаживать новую партию кустов – замоченные семена уж готовы. И дней через девяносто будет новая конопля. Свои кусты он даже поливает не каждую неделю. А они все равно растут – как сорная трава, сами по себе под богом.
Пятая – единственная комната, где есть мебель. Диван, стол, да у ножки стола, чайник, в котором он хранит патроны. Здесь же, в углу, под батареей, валяются несколько пар джинсов, футболки, труханы и носки, частично перекочевавшие на подоконник, – и грязное, и стираное, все вперемешку. И лишь костюм – угольно-серый, отличный, вот только обросший пылью, как мхом, – висит на вешалке. Костюм, в общем-то, на фиг не нужен. По обкурке приходит в голову отдать его старику-химику. Он представляет, как старикан выходит в этом костюме в промозглый переулок, расписанный венозной краской из баллончиков, в здешнюю срань, с карнизами, серыми от голубиного помета. Выходит торжественно, как бомж, ограбивший франта-фраера: рукава висят чуть не до колен, а брюки, слишком длинные, штанинами загребают по лужам и не сходятся в поясе. Старик, как пить дать, подвяжет их какой-нибудь бечевкой – на ней и будут держаться. Он представляет старика таким, и его душат спазмы смеха.



