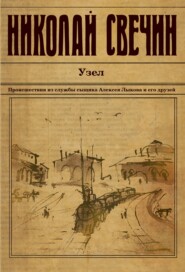
Полная версия:
Узел

Николай Свечин
Узел
© Свечин Н., текст, 2018
© Симонов В., иллюстрации, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Пролог
Вечером 3 сентября 1907 года Лыков и Азвестопуло вышли из пригородного поезда на платформе Чесменская Московско-Курской железной дороги. Дачный сезон заканчивался, пассажиров почти не было. Сыщики направлялись к концу дебаркадера, когда их перехватил унтер-офицер жандармской железнодорожной полиции.
– Здравия желаю, господа. Куда путь держим? Готов подсказать, ежели что надо.
– Ничего не надо, мы сами, – попытался отмахнуться Сергей.
Но жандарм не уходил. Он пристально смотрел на путников, потом спросил:
– Вы чего здесь забыли? Я баловства не допущу.
Лыкову пришлось вынуть полицейский билет. Увидев чин и должность, служивый взял под козырек.
– Мы ищем одного мазурика, – вполголоса объяснил коллежский советник. – Есть сведения, что он может прятаться у смотрителя переезда Затулкина. Что про него скажешь?
– Очень даже запросто, – ответил жандарм. – Дурного поведения человек. Вас проводить?
– А еще поезда сегодня будут?
– Через час последний.
– Тогда останься здесь, кто-то должен нести охрану. Мы правильно идем? Назад около версты?
– Так точно, ваше высокоблагородие. Будка Затулкина у пересечения с Перервинским трактом. Поменее версты; там еще фонарь горит.
Сыщики спустились на путь и зашагали по шпалам обратно к Москве. Было темно, со стороны Сукина болота несло тиной и чем-то еще.
– Дерьмом откуда-то попахивает, – сказал Азвестопуло, принюхавшись.
– Вдоль Перервинского шоссе идет главная труба городской канализации, – пояснил помощнику Лыков.
– Куда идет? – не понял Сергей.
– В поля орошения.
– А-а…
Некоторое время они шли молча, пока их не нагнал поезд. Сыщики отошли в сторону. Поезд медленно тянулся мимо них и вдруг остановился. Лязгнула дверь товарного вагона, высунулся невидимый в темноте человек.
– Принимай, нехристи!
Что-то тяжелое вылетело наружу, чуть не зацепив титулярного советника. Паровоз рыкнул и тронулся с места. Когда последний вагон прополз мимо сыщиков, хвостовой кондуктор с него крикнул:
– У, ворье!
– Что все это значит? – спросил Азвестопуло у шефа, когда огни поезда удалились.
– Пойдем-ка отсюда, пока нас не поймали, – вместо ответа сказал Лыков.
Но уйти они не успели: из темноты появились полдюжины людей. Мужики обступили сыщиков, и главный спросил:
– Вы че тут делаете, дурни еловые?
– Да мимо шли, – ответил Лыков. – Нельзя, что ли?
– Нельзя, – ответил атаман со злостью. – Считай, что пришли уже. Амба.
Наступила зловещая тишина. Бандиты сделали шаг вперед, но тут заговорил Алексей Николаевич:
– Ты кого стращаешь, сосунок? На чертолом хочешь облапиться?[1] Пупок сначала зашей.
Главный, услышав знакомые слова, сделал остальным знак: погоди. Всмотрелся в Лыкова и спросил:
– Ты кто?
Тот небрежно бросил:
– Своя своих не познаши, дубинородные. Сюда смотри!
Он нагнулся, взялся за железнодорожный костыль, покряхтел и рывком выдернул его из шпалы.
– А теперь брысь!
Бандиты мигом расступились, и сыщики продолжили путь.
– Так что это было? – вернулся к своему вопросу титулярный советник, когда они удалились шагов на сто.
– Сбросили кипу хлопка, а эти ребята его сейчас подберут, – пояснил шеф.
– Кипа – это такая шапка у евреев!
– А еще спрессованная хлопковая масса. Я в Ташкенте видел, как его пакуют.
– Едва она меня не задавила, – хмыкнул Сергей. – То-то бы посмеялись.
– Тихо. Видишь свет от фонаря? Это переезд.
Сыщики спустились с насыпи. Вскоре они оказались возле будки смотрителя. В окне горел свет, но занавеска была плотно задернута.
– Постучать и вызвать? – предложил грек.
– И кем назовешься? Почтальоном с телеграммой? – язвительно спросил коллежский советник.
– А дорогу спросить. Иду, мол, в Николо-Угрешский монастырь. Правильно али как?
– Хм. Ну попробуй. А я спрячусь.
Так они и сделали. Лыков вынул браунинг, поставил на боевой взвод и убрался за угол. Азвестопуло же постучал в окно и запричитал гнусаво:
– Дяденька, а дяденька!
Занавеска отдернулась, и в окне показалось хмурое лицо смотрителя.
– Чего еще тут за рыло?
– А нету ли водицы? Пересохло оченно в утробе, а до Угреши еще идтить да идтить…
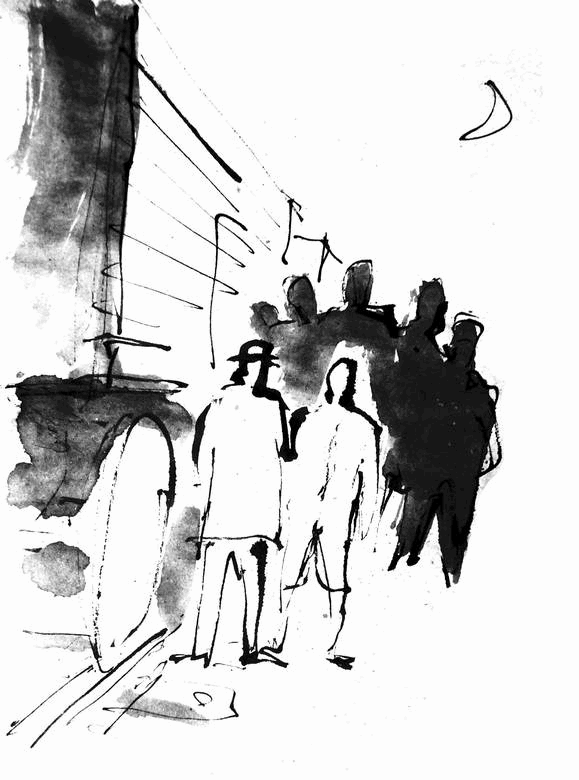
– Из речки попьешь. Пошел прочь!
– Спасибо на добром слове, раб божий.
Помощник перебежал к шефу и сказал:
– Видел на столе два стакана.
– Значит, Комоха там.
Он-то и нужен был сыщикам. Известный налетчик Флегонт Тюхтяев по кличке Комоха подозревался в убийстве станового пристава Дмитровского уезда Винтергальтера. Уездная полиция не сумела найти преступника. Сыскная полиция градоначальства попробовала, но тоже не нашла. Губернатор, флигель-адъютант Джунковский, обратился за помощью в МВД. Столыпин приказал из-под земли достать убийцу…
– Что делать будем? – возбужденным голосом спросил Азвестопуло. – Вы постойте здесь, а я сбегаю за жандармом. Втроем веселее.
– А они как раз пойдут на прорыв? Если один полезет в дверь, а второй в окно, я не услежу. Ты вот что…
Но их спор был неожиданно прерван. Видимо, появление ночного прохожего насторожило Комоху, и он решил осмотреться. Стукнул ставень, кто-то высунулся наружу, увидел сыщиков и без раздумий открыл огонь. Лыков с Азвестопуло едва успели отскочить в темноту и укрыться.
Далее случилось то, чего и боялся коллежский советник. Один из преступников распахнул дверь и начал высматривать чужаков. А второй с противоположной стороны дома попытался выбраться в окно. Питерцы выстрелами тут же загнали их обратно. Бандиты озадачились и стали совещаться, сыщики – тоже.
Лыков крикнул:
– Эй, Затулкин! Ты-то куда полез, дурак? Комохе виселица светит, я его понимаю, неохота. А ты? Вооруженное сопротивление полиции. Тоже в петлю захотел? Сдавайся.
Бандиты переговорили, и сторож подозрительно быстро ответил:
– Сдаюсь! Не стреляйте!
– Кинь пушку в окно и выходи с поднятыми руками.
Затулкин выбросил револьвер.
– Приготовься, это ловушка, – предупредил помощника Лыков. – Комоха всегда ходит с двумя «наганами», он отдаст второй напарнику.
Так и оказалось. Сторож вышел наружу, сделал три шага – и выхватил оружие. Но больше ничего не успел: Лыков продырявил ему плечо. Следом за ним в дверь вылетел Тюхтяев, пальнул раз-другой и упал со стоном на землю – Азвестопуло прострелил ему ногу.
Минуту спустя Алексей Николаевич перетягивал налетчику бедро его же ремнем и ругал помощника:
– Сколько раз говорил, чтоб не в ногу! Теперь с ним хлопот полон рот, иначе помрет от потери крови. Вот смотри, как я: в плечо – и чисто.
– Да уж… После Ростова нам до пенсии всех живьем брать придется… – с досадой отозвался Азвестопуло.
Перевязав арестованных, полицейские зашли в сторожку.
– Ого! – поразился Лыков. – Богато нынче живут смотрители переездов!
Вся будка оказалась заставлена коробками с папиросами. Среди них были и дорогие сорта.
– Это все железная дорога, – вздохнул коллежский советник. – То тебя чуть кипой хлопка не убило, теперь вот табак. Когда только это прекратится? Куда смотрит московская сыскная?
Азвестопуло, курящий по пачке в день, молча набивал себе карманы.
– Эй, слуга закона! Беги на шоссе, тут до городских боен две с половиной версты. С ворованным табаком быстро домчишь. Пусть пришлют доктора или хотя бы фельдшера. А я их покараулю.
За окном требовательно загудел паровоз – проехал очередной состав, из которого опять что-то выбросили.
– Сходи, погляди, что там.
Грек подскочил, наклонился над коробкой.
– Ого. Чур мое! Спрячьте это от обыска, Алексей Николаич. Хоть в кусты, а я утром потихоньку заберу.
– Да что в коробке?
– Папиросы «Грация» фабрики Богданова. Высший сорт!
Глава 1
Московский беглец
Два месяца спустя коллежский советник Лыков явился в приемную к Столыпину. Там уже сидели директор Департамента полиции Трусевич и коллежский асессор Лебедев, чиновник особых поручений. Был восьмой час вечера, посетители разошлись. Остался только секретарь, да в углу примостился фельдъегерь, ждал, когда премьер-министр подпишет исходящие бумаги. В ноябре темнело рано, и питерцы начинали хандрить. Включили электрическое освещение, и сразу стало уютнее. За окном шумел дождь, по Фонтанке тянулись огни – это плыли баржи с дровами.
Звякнул телефон. Секретарь снял отводную трубку, выслушал и почтительно сообщил Трусевичу:
– Стефанов вышел от Макарова и сейчас будет здесь.
Директор Департамента полиции коротко кивнул и нахмурился еще более. Макаров был товарищ министра внутренних дел, занимающийся полицейскими вопросами. А кто такой Стефанов? Алексей Николаевич знал одного, но тот служил в Московской сыскной полиции в чине коллежского секретаря. Ему не по рангу ходить по таким кабинетам…
Тут открылась дверь, и вошел тот самый Стефанов, которого Алексей Николаевич только что отверг. Гость сделал общий поклон, потом отдельно приветствовал директора департамента. И лишь после этого подошел к своим знакомцам. Лебедев до перевода в Петербург пять лет прослужил начальником МСП[2]. Это он в свое время взял способного околоточного надзирателя из наружной полиции в сыскную. А Лыков, знавший наперечет чуть не весь ее личный состав, особенно симпатизировал именно Стефанову. Он и протянул первый руку:
– Добрый вечер, Василий Степанович. Какими судьбами?
Стефанов покосился на директора, словно ожидал от него помощи. Трусевич пояснил:
– Разговор у Столыпина будет посвящен тем безобразиям, которые творятся сейчас в Москве. И о которых подал сигнал господин коллежский секретарь.
Подал сигнал? Лыков перевел взгляд на Лебедева. Его приятель скривился:
– Именно так, Алексей Николаевич. Я, когда уезжал сюда, оставил дела в порядке. А Мойсеенко, судя по всему, их развалил. И не просто развалил! Там черт-те что творится… До меня доходили слухи, которым я, признаться, не верил. Но приехал Василий Степанович и рассказал такое, что я сразу же пошел к Максимилиану Ивановичу. А тот к Столыпину. Надо что-то делать!
Надворный советник Мойсеенко три года назад сменил Лебедева на должности главного московского сыщика. Алексей Николаевич и его знал очень хорошо, оттого и недолюбливал. По его мнению, лучшей заменой был бы тот же Стефанов. Но он не вышел чином, и место отдали другому. Однако что такого натворил Дмитрий Петрович, что подвиги его удостоились внимания самого премьера?
Наконец всех позвали к Столыпину.
Совещание проходило в малом зале дворца Кочубея на Фонтанке, 16. Столыпин помимо должности премьер-министра сохранил за собой еще и пост министра внутренних дел. И на этом основании имел право на министерскую квартиру, размещавшуюся в бывшем графском дворце. В разное время тут жили и Горемыкин, и Дурново, однако Петр Аркадьевич селиться не захотел. Он жил на Елагином острове, но совещания часто проводил здесь, что вполне устраивало Департамент полиции. Ходить недалеко – только из южного департаментского корпуса перебраться в западный министерский.
Столыпин, усталый и чем-то недовольный, молча по старшинству подал руку вошедшим. Кивнул, все сели, и премьер сразу обратился к москвичу:
– Это правда, что вы сообщили Макарову?
– Так точно, ваше превосходительство.
– Тогда расскажите все еще раз, чтобы мы послушали. И как можно подробнее.
– Слушаюсь.
Стефанов откашлялся; было видно, что он сильно волнуется.
– Значит, придется сначала рассказать мне о себе, ваше превосходительство. Кто я и что, а также как попал в это колесо.
– Начинайте и не волнуйтесь, – доброжелательно подбодрил москвича Столыпин. – Если вы говорите правду, коронная власть защитит вас в любом случае.
– Благодарю. Значит, вот как теперь в Москве обстоят дела…
Стефанов вдохнул, будто собирался прыгнуть в полынью, и начал:
– Я поступил в московскую наружную полицию в тысяча восемьсот девяностом году. Начал с письмоводителя по вольному найму, а через четыре года вырос в околоточные надзиратели. Имею за свою службу сорок благодарностей и шесть наград, включая двое часов с цепочкой, а также подарок от президента Северо-Американских Соединенных Штатов. В девятьсот третьем году господин Лебедев меня выделил и взял на службу к себе, в сыскную полицию. Сразу чиновником для поручений. А фактически я исполнял обязанности его помощника.
– Почему фактически? – обратился Столыпин к коллежскому асессору.
Лебедев пояснил:
– Должности помощника тогда в штате МСП не существовало, она появилась лишь в прошлом году, после моего ухода. Но я подтверждаю, что Василий Степанович был моей правой рукой.
Москвич продолжил:
– С переводом в сыскную жизнь моя сильно усложнилась. Дела были самые разные, в том числе и опасные. Господин Лебедев застал лишь часть дознаний, наиболее громкие начались после его отъезда. Но многому свидетелем оказался господин Лыков…
– Что скажете, Алексей Николаевич? – оживился Столыпин.
– Так и есть, Петр Аркадьевич, – ответил коллежский советник. – Мы со Стефановым вместе ловили банду головорезов во главе с Федюниным – они грабили церкви и убивали при этом сторожей. Потом шайку Галеева, убившую лавочника Лаврентьева и его дворника. При аресте банды Рыжова оба попали под огонь, рядом ранило агента. А Василий Степанович и ухом не повел, храбро пошел на пули.
В повадке Столыпина что-то изменилось. Лебедева он видел второй раз в жизни и к его словам отнесся равнодушно. А Лыкова премьер знал и уважал. Свидетельство Алексея Николаевича значило для него много.
– Продолжайте, Василий Степанович, – сказал он, давая понять таким обращением, что теперь более доверяет словам докладчика.
– Слушаюсь. Так вот. После отъезда Василия Ивановича его место занял Войлошников.
– Тот, которого боевики расстреляли на глазах у семьи? – вспомнил сановник. – В декабре пятого года.
– Он самый. Тогда в Москве творилось невообразимое. Шло вооруженное восстание, правительство сохранило власть лишь внутри Садового кольца. Кровь лилась рекой. Войлошников не успел вывезти семью из Пресни, и к нему на квартиру пришли… Александра Ивановича сгубили фотокарточки разыскиваемых преступников, которые он хранил дома. Преступники-то были уголовные, но дружинники не разобрались, решили, что Войлошников – начальник охранного отделения, а не сыскной полиции. Вывели во двор и кончили… Вот. Старшими в отделении остались мы с Мойсеенко. Все разбежались, попрятались. Лишь я один ходил на службу и пытался что-то делать. В итоге явились и ко мне. – Стефанов запнулся, потом продолжил: – Хорошо, родственники в последний момент увезли моих. За четверть часа до налета. А у меня жена больная и пятеро детей! Слава богу, они спаслись. Но квартиру разграбили и подожгли. Все имущество сгорело, ничего не осталось. Гол как сокол. Ну да ладно, это только вещи; главное, что сами уцелели.
– А Мойсеенко? – впервые вступил в разговор директор Департамента полиции.
– Мойсеенко переехал в Малый Гнездниковский, – ответил Василий Степанович. – Там охрана, жандармы с казаками, он и переждал.
– А служба?
– Службу Дмитрий Петрович забросил. И другим приказал сидеть тихо, чтобы не привлекать внимания боевиков.
– Почему же начальником сыскной полиции вместо погибшего не назначили Стефанова? – раздраженно спросил Трусевич у Лебедева. – Один рискует головой ради долга, а второй сидит в кустах. И в результате получает должность!
– Мойсеенко тогда уже был надворным советником, – начал оправдываться Лебедев. – И университет закончил. А Стефанов из сельских учителей и в чине коллежского секретаря.
Столыпина же заинтересовало другое:
– Ваша служба в трудное время была как-то отмечена правительством?
– Так точно, ваше превосходительство, – ответил москвич. – На Пасху получил орден Святого Станислава третьей степени.
– А денежную награду? Хотя бы на возмещение погибшего имущества.
– Никак нет.
Трусевич обратился к премьер-министру:
– Еще не поздно разобраться с поведением надворного советника Мойсеенко во время декабрьских событий. Бездеятельность можно доказать.
Лыков не выдержал и перебил начальника:
– Максимилиан Иванович, так можно далеко зайти. В девятьсот пятом все мы выглядели не авантажно. Чего теперь после драки кулаками махать?
– Ну вы-то не из тех, кто сидел в кустах, – возразил действительный статский советник. – Вы-то известный храбрец.
– Храбрец? – нахмурился сыщик. – Уж не тогда ли я им был, когда у меня на глазах абреки застрелили поручика Абазадзе? На дороге из Тифлиса в Гомбары. Даже револьвер не вынул, стоял и дрожал, смотрел, как убивают смелого и достойного человека. Пальцем не пошевелил![3]
В кабинете повисло тягостное молчание. Все вспомнили недавние кровавые годы, и похоже, каждый знал за собой слабину. Столыпин покосился на Трусевича, тот состроил гримасу: мол, потом расскажу…
Премьер-министр велел коллежскому секретарю продолжать.
– Кто как себя вел в страшном пятом годе, действительно лучше не вспоминать, – согласился докладчик. – И в шестом тоже. Сейчас ноябрь тысяча девятьсот седьмого, вроде бы стало полегче. А нашего брата полицейского все равно каждый день убивают. Той России, которая была до бунта, больше нет. И не знаю, вернется ли она когда-нибудь. Раньше, если в Москве городового пальцем тронут, уж вся полиция на подмогу бежит. Хороший служивый мог разогнать драку одним внушением. А теперь… – Стефанов вздохнул и, как бы очнувшись, продолжил: – История, которую я хочу рассказать, началась именно тогда. Если помните, осенью накануне московского восстания была объявлена железнодорожная забастовка. И случился там паралич. Чугунные дороги у государства – будто вены у человека: как закупорка, так хоть ложись и помирай. Это и произошло. Чугунка встала, деловая жизнь прекратилась. А на московском узле скопилось огромное количество товара. Многие пути идут через наш город, вот и попали грузохозяева в оборот. Все пребывали в оцепенении, охраны никакой; приходи и бери что хочешь. Они и стали брать.
– Кто «они»? – уточнил Трусевич.
– Воры, ваше превосходительство. Рука об руку с железнодорожными служащими, конечно.
– Хм. А полиция?
– Об том и речь, ваше превосходительство. Общая полиция кражами не занимается, а сыскная устранилась.
– Это почему же? – насупился премьер.
– А Мойсеенко не велел. И до сих пор запрещает. Говорит: дороги за раскрытие краж не платят, вот и нечего стараться.
Столыпин покраснел и оглядел собравшихся с видом крайнего возмущения:
– Не может быть. Такого просто не может быть!
– Увы, может, – возразил Трусевич. – Я получал сигналы и направил в МСП два отношения. Обращал в них внимание начальника сыскной полиции, что хищения на московском узле достигли гигантских размеров.
– А что Мойсеенко?
– Пальцем о палец не ударил.
– Как же вы такое стерпели, Максимилиан Иваныч? Почему не дали ход? Сообщили бы градоначальнику.
– А что толку? Рейнбот полностью его покрывает.
Генерал-майор Рейнбот был московским градоначальником и непосредственным шефом Мойсеенко. В столице о его управлении Москвой давно уже ходили нелицеприятные слухи.
Стефанов дал сановникам высказаться, а затем продолжил:
– Наконец тревогу подняла судебная власть. Изволите ли знать, за первую половину девятьсот шестого года следователи завели три сотни дел о кражах на чугунке. Я говорил с прокурором Окружного суда Арнольдом. Тот вызвал меня как хорошо известного ему по предыдущим делам специалиста и сказал… Признаться, я сначала ушам своим не поверил. Арнольд сказал, что ни в одном из этих трехсот дел нет и следа деятельности сыскной полиции!
Столыпин молча стиснул и разжал кулаки.
– Сам-то он, ваш Арнольд, что-нибудь пробовал сделать? – желчно осведомился Трусевич. – Эти судейские всегда норовят сесть на шею полиции и проехаться. А он не такой?
Коллежский секретарь пожал плечами:
– Когда мне понадобилась защита от собственного начальства, только Владимир Федорович мне и помог. Я же теперь в отставке… будто бы по домашним обстоятельствам. На самом деле Рейнбот меня выкинул со службы в двадцать четыре часа.
– Почему? – грозно свел брови Столыпин.
– Слишком старался исполнять свой долг, – с достоинством ответил москвич.
– Я с самого начала просил подробностей.
– Извольте, ваше превосходительство, сейчас будут. В мае этого года начальник сыскной полиции не смог-таки отвертеться от Арнольда. И вынужден был через силу открыть первое дознание по железнодорожным хищениям. Поручил его мне, и я сразу рьяно взялся за дело. Скажу без похвальбы, я сыщик опытный, и преступный мир Москвы меня боится не зря. За несколько месяцев я открыл весь механизм хищений и произвел первые аресты. В частности, попался и некий торговец Зыбин. Он держит лавку москательного товара в Котяшкиной деревне. На самом деле Зыбин – крупный барыга, он организует покражи с товарных станций и далее продает ворованное посредникам. И вот взял я этого негодяя и начал допрос. При этом присутствовал младший помощник делопроизводителя МСП коллежский регистратор Соллогуб…
– Степан Николаевич? – перебил докладчика Лыков.
– Он самый.
– Опытный человек, давно в полиции.
– Опытный, – не без сарказма подтвердил Стефанов. – Вы слушайте, что дальше было. Начал барыга поддаваться, потому как улики я подобрал, взял с поличным и склоняю к признанию. Зыбин говорит вроде нехотя, но все интереснее и интереснее. Фамилии и адреса уже начал сообщать. Сам при этом косится на Соллогуба, а у того глаза бегают, как будто он не в своей тарелке. Что такое? В ум не возьму. Тут вдруг Зыбин мне и заявляет: чего-де вы меня об воровстве спрашиваете, вы спросите у Степана Николаевича, он все тонкости лучше меня знает! Поскольку соучастник.
– Так прямо и бухнул? – не поверил Столыпин. – Про сыскного чиновника, и в его присутствии?
– Слово в слово, ваше превосходительство. Да вы хоть у самого Зыбина спросите.
– Дела… – Премьер мрачнел на глазах.
– Что дальше было? – влез Трусевич. – Как Соллогуб отнесся?
– А он молча встал и вышел вон. Как потом выяснилось, Степа явился прямо к Мойсеенко и все тому рассказал. Какая у нас с барыгой беседа ладится. А Дмитрий Петрович, не медля, значит, ни минуты, пошел прямиком к Рейнботу. И только я закончил допрос и отправил Зыбина в камеру, меня вызывают срочно к градоначальнику. Сразу же я почуял неладное. Никогда до этого в одиночку к генералу не ходил, бывал много раз на совещаниях, но всегда с участием Мойсеенко. А тут одного, да на самый верх. С чего бы это? Хорошего ничего не ждал. И не ошибся. – Стефанов перевел дух и продолжил: – Господин градоначальник, как я вошел к нему в кабинет, тут же принялся орать. Ежели дикий рев его перевести на человеческий язык, сказал он следующее. Пиши, говорит, прошение об отставке. А иначе выгоню сам по третьему пункту[4] и вышлю прочь из Москвы. И чтобы бумагу сочинил прямо сейчас, у меня на глазах. Вот… Я осмелился поинтересоваться, чем так не угодил его превосходительству. В форме… – Отставник смутился. Было видно, что вспоминать о разговоре с градоначальником ему крайне неприятно. – В форме, прямо скажу, хамской, генерал мне заявил: ты все по службе сообщаешь прокурорским, выносишь сор из избы, что нетерпимо. Я пробовал оправдаться – куда там. Видать, Дмитрий Петрович здорово его обработал. Рейнбот меня слушать не стал, а рычал только одно: пиши бумагу и убирайся, чтобы ноги твоей больше не было в московской полиции. А иначе вообще под суд пойдешь, мы с Мойсеенко повод придумаем. Что мне оставалось? Сочинил прошение и вышел, как оплеванный. Обидно мне очень было. Семнадцать лет беспорочной службы, сорок благодарностей от начальства, даже от североамериканского президента есть, а вот теперь стал неугоден. Эх…
– Что дальше произошло? – сочувственно спросил премьер-министр.
– Дальше я пошел к прокурору, уже упомянутому мною Арнольду. Лицо горит, мысли путаются… Что делать, куда жаловаться? Чинишко мелкий, а тут генерал-майор и московский градоначальник в пух и прах изодрал. Где я и где он? Рассказал все Арнольду, как меня за слишком рьяную службу на улицу выкинули. Владимир Федорович сказал: здесь я тебе помочь не смогу, меня самого из-за столкновений с Рейнботом переводят в Варшаву. Езжай в столицу, ищи правды там. А я всегда подтвержу, что ты служил честно. И приехал я сюда. По старой памяти пришел к Василию Ивановичу Лебедеву, а он отвел меня к его превосходительству господину директору Департамента полиции… Прошу у высшей власти защиты. – Последнюю фразу Стефанов сказал через силу и замолчал.

