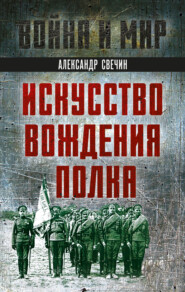
Полная версия:
Искусство вождения полка
Год относительно спокойной, регулярной работы в Ставке давал мне в отношении нервов огромное преимущество по сравнению с людьми, у которых ночью, при грохоте проехавшей телеги, рождалось сновидение с участием пулеметного огня. Я знал, что встречу больных людей. Я описываю порой совершенно негодные войска и начальников; но для оценки старой русской армии надо помнить, что на войне день на день не приходится; если дать тем же войскам спокойно отдохнуть три-четыре ночи, окунуть их в атмосферу известного распорядка и справедливости, боеспособность их изменяется радикально.
Я тогда был еще молод – мне шел 37-й год. Молодость – крупный плюс, но при непременном условии успеха. Старому начальнику солдат и командир всегда охотнее простит ошибки и упущения; у крестьянских парней седина всегда легко заслужит снисхождение.[13] Молодой начальник нравится, но горе ему, если он не окажется на уровне более строгих требований, предъявляемых ему.
Наконец командование полком отнюдь не являлось для меня отбыванием определенного ценза, ступенью к дальнейшей карьере. Я готов был закончить свою жизнь на посту командира полка. 7 раз я отказывался от предлагаемых мне генеральских должностей, и пробыл командиром полка полтора года. Во главе 6-го полка я чувствовал себя сильнее, чем во главе другой дивизии. Это отсутствие какого-либо стремления к дальнейшему повышению и наградам придавало мне большую независимость. Начальство часто было мной недовольно: штаб дивизии устраивал мне неприятности, но меня побаивался; я получил десяток выговоров, но сохранил доброе имя.
Перехожу к повествованию. Постараюсь, чтобы оно было в возможно меньшей степени похоже на ту далекую от боевой действительности, сухую, геометрическую, лживую историю мировой войны, к которой мы все привыкли.[14]
Глава вторая. Крестьяне и помещики[15]
Уже мое первое впечатление при приеме полка заставляло задуматься над некоторыми широкими вопросами. Когда 18 августа 1915 г. моя бричка подкатила к небогатому крестьянскому хутору в 6 км к юго-востоку от Вилькомира, где был расположен штаб полка, на крыльцо вышел временно командующий полком подполковник Древинг и офицеры штаба полка. Они начали мне представляться, но внимание мое было отвлечено криками, долетавшими из сада. Не могло быть сомнения – там происходила экзекуция. Пороли солдата. На моем лице отразилось совершенное недоумение. Древинг поспешил меня уверить, что он также держится отрицательного мнения на такие способы воздействия, но что здесь случай совершенно особенный: у крестьянина, хозяина дома, пропала чуть ли не единственная его чайная серебряная ложка; обида, нанесенная хозяину, возмутила писарей и телефонистов штаба полка; они постановили произвести повальный обыск у всех солдат, ночевавших при штабе полка, и после тщательных розысков нашли серебряную ложку в сумке одного телефониста. Ложку возвратили хозяину, а виновный был присужден товарищами к жестокой порке, которая и приводится сейчас ими в исполнение. Древинг обратил мое внимание на то, что солдаты относятся чрезвычайно чувствительно к каждой обиде, наносимой крестьянам; со своей стороны он предпочел предоставить им свободу и не вмешиваться в организованную ими борьбу за свою репутацию.
Чувствительность солдат к кражам произвела на меня в общем ободряющее впечатление. В солдатской массе, так резко реагировавшей на покражу, несомненно таились какие-то значительные моральные силы; надо было только умело взяться за них и направить их в нужное русло.
Мы укреплялись; на четвертый день моего командования стали надвигаться немцы. Я приказал сжечь несколько крестьянских хат, расположенных на расстоянии прямого выстрела от окопов и стеснявших обстрел. Бывают приказы, которые мгновенно переходят в жизнь, и бывают приказы, которые явно идут против течения и встречают при своем исполнении тысячи препятствий. Мне пришлось трижды повторить свое распоряжение; прапорщики уныло повторяли «слушаюсь», а хаты все не горели. Я стоял у окопа роты, когда вернулся дозор с унтер-офицером, посланный сжечь хату; унтер-офицер со слезами на глазах докладывал, что в хате – три женщины и пятеро детей; уступая их просьбам, он вернулся доложить об этом ротному командиру. Я постарался объяснить солдатам те выгоды, которые немцы смогут извлечь в бою из наличия этих хат. И прапорщик, и командир роты и солдаты хором меня заверяли, что за ними остается преимущество хорошо устроенного окопа, что они мне все ручаются, что своего окопа они немцам не отдадут, лишь бы я помиловал хаты или хотя бы отсрочил их сожжение.
Я уступил; половину более дальних хат я разрешил не жечь вовсе, а половину более близких оставил стоять до последней минуты; я был убежден, что роты их умышленно не сожгут в последний момент; что же, придется израсходовать несколько лишних артиллерийских снарядов – граната, по крайней мере, не знает тех угрызений совести, которые одолевают крестьянина, переодетого в солдатскую шинель и подносящего спичку к соломенной крыше…
Я хорошо сделал, так как драться в этих окопах не пришлось, вследствие отхода на Мейшагольскую позицию. Сожженные хаты сильно подорвали бы мой авторитет среди солдат; я оказался бы барином, совершенно чуждым, даже враждебным крестьянским интересам.
В момент приближения немцев к Вилькомирской позиции я перенес свой штаб в усадьбу Леонполь, – пункт, тактически очень выгодно расположенный для управления участком моего полка. Усадьба, расположенная на берегу Свенты, отнюдь не блистала особой роскошью; в имении было всего, кажется, 700 га. Но хозяйка ее носила громкую фамилию Радзивилл; некрасивая тридцатилетняя княжна эксплуатировала свое имение с удивительной энергией; она сразу же предъявила полку точный счет за все произведенные потравы, за скошенный клевер и овес, взятые материалы. Подполковник Борисенко, временно заведывавший тогда хозяйством, очень не хотел платить что-либо энергичной княжне: ведь через несколько времени здесь будут немцы, и все достанется им; вместо того чтобы платить, хорошо было уничтожить, вытоптать весь урожай, стоявший на полях, и сжечь княжеские скирды. Но диалектика Борисенко была еще мало доступна мне, прибывшему из Ставки и не впитавшему еще в себя армейские настроения. Я приказал заплатить по умеренной цене за все, что полк взял, отбросив претензии за потравы. Это распоряжение в общем было не понято не только солдатами, но и офицерами. На меня начали коситься, в особенности когда княжна предоставила мне комнату с лучшей мебелью, в которую раньше не пускала других офицеров, и начала по своим делам обращаться непосредственно ко мне. Я почувствовал, что стою на ложном пути; на мой вопрос Радзивилл, почему она не эвакуируется и не боится оказаться в районе занятом немцами, она объяснила мне, что у нее есть не только кузены, служащие в русской гвардии, но и кузены, служащие в прусской гвардии и австрийской армии; что за год до войны к ней из Германии приезжали ее родственники офицеры, с несколькими приятелями, тоже знатными офицерами, и с большим удовольствием гоняли борзых по полям в окрестностях Вилькомира, и она уверена, что германские офицеры отнесутся к ней по-рыцарски… Фамилия Радзивилл действительно на редкость являлась интернациональной.
Я решил, что когда мы отступим на другой берег Вилии, моим первым приказом командиру моей батареи явится распоряжение капитально разрушить приютившую меня усадьбу Леонполь, которое должно будет засвидетельствовать в глазах полка мою полную объективность. К сожалению, мы получили приказ сняться скрытно и сразу откатиться на два перехода. Уходя, глубокой ночью, я доставил себе все же удовольствие сказать княжне, что получил приказание занять позицию на южном берегу Свенты и, к сожалению, завтра буду вынужден открыть огонь по ее дому, в который, впрочем, рассчитываю скоро возвратиться. «Пожалуйста, только чтобы кадриль между вами и немцами в районе моей усадьбы не затянулась на слишком долгое время. Я уже давно обдумала положение своей усадьбы и нахожу, что она хорошо укрыта от огня с немецкой стороны. Но она прямо подставлена под расстрел русских батарей с южного берега Свенты – это мой кошмар…»
После этого случая я раз навсегда отдал своим квартирьерам распоряжение – никогда не отводить под штаб 6-го Финляндского полка помещичий дом. За полтора года войны мне пришлось ночевать лишь два раза в Галиции в обитаемых помещичьих домах, причем я демонстративно не входил ни в малейшее соприкосновение с помещиками, и с самого начала занимал явно враждебное к ним положение. Нормально, штаб полка располагался в поповском доме, на площади села, около церкви, и офицеры и солдаты в незнакомом селе всегда легко могли находить штаб полка.
Ряд мелких инцидентов напоминал мне о правильности избранной линии. Крестьяне жаловались, при отступлении от Вилькомира, что на большом привале несколько солдат нарвали у них в саду яблок. «Мы можем сами с удовольствием угостить солдат яблоками», говорили крестьяне и в доказательство принесли огромную корзину яблок: «но нам обидно, что рвут яблоки без спроса». Я повел жалобщиков к находившейся близ их сада роте. Приказ выдать яблочных грабителей был исполнен мгновенно. Было ясно, что рота одобрит самую жестокую расправу. Тогда сами жалобщики крестьяне со слезами на глазах начали просить за своих грабителей, что предоставило мне удобный случай простить их и отдать под надзор их товарищей, которые торжественно обещали отбить у них всякую охоту тянуться к крестьянским яблокам. В середине октября 1915 г., после отхода на те позиции впереди Молодечно, на которых фронт замер на два года, начались перебои с довольствием мясом. Войска при отступлении довольствовались местными средствами, а тут они, после остановки, быстро иссякли, а подвоз скота еще не был налажен. 16 октября полк направлялся из резерва в боевую линию, атаковавшую, или скорее делавшую вид, что атакует немецкие позиции, а мяса для варки пищи вовсе не было. Между тем в деревушке, где остановился полк, очевидно имелись коровы. Атака без мясной порции – плохая атака, и я приказал реквизировать у жителей и зарезать три коровы, оплатив их по полной стоимости. Исполнение моего приказа задерживалось. Прапорщик обратился ко мне с просьбой войти лично в рассмотрение дела. Я вышел из избы. Перед ней были выстроены 6 или 7 коров, остававшихся в деревне и приведенных производившими реквизицию солдатами. Около каждой коровы стояло по нескольку женщин и чуть ли не по десятку детей. Ни у кого из жителей не имелось двух коров. Реквизиция последней коровы – почти смертный приговор для крестьянских детишек. Ни у прапорщиков, ни у солдат не поднималась рука сделать выбор – и я был приглашен арбитром. Сплошной плач и ужас. Когда я заявил, что на сегодня ограничусь распределением в котлы по одной четверти фунта на бойца и обрекаю на заклание только одну корову, отобранную у семьи с наименьшим количеством ребят, с тем, что она делается совладелицей другой коровы, тоже сравнительно малосемейного хозяина, и что деньги за реквизированную корову обе семьи должны поделить между собой, то последовало общее облегчение, и мой Соломонов суд высоко поднял мой авторитет.
Крестьянские настроения в армии[16] были настолько сильны, что на путь подчеркнутого уважения к крестьянству невольно становился не только я, но и все лучшие, боевые офицеры полка.[17] По моим наблюдениям такая же крестьянская линия поведения, своеобразная смычка, хотя бы чисто внешняя, наблюдалась и во многих других полках, отчетливо стремившихся к повышению своей боеспособности. И я не думаю, что та или другая линия поведения командного состава в очерченных мелочах имела бы второстепенное значение. Солдату было много легче простить своим командирам многие недостатки, порой даже отсутствие их личной доблести, чем идти на смерть под знаменами, где подчеркивалось высокомерное игнорирование крестьянских интересов.[18]
Самое жалкое впечатление оставляли начальники, державшиеся противоположной ориентации. Самым ярким воплощением их являлся Николай Петрович Половцев, начальник штаба V Кавказского корпуса, в рядах которого мне пришлось провести первые полгода моего командования. Человек с большими средствами и ничтожного ума, кавалергард по началу службы, этот представитель русской аристократии получил отметку «неудовлетворительно» за время своего цензового четырехмесячного командования пехотным батальоном перед войной, что представляло почти неслыханное явление в прохождении службы русского генерального штаба. Но как ни хотело Главное управление генерального штаба убрать этого полукретина из генерального штаба, оно не оказалось в силах преодолеть связей последнего. На войне, в особенности когда наш корпус располагался в Галиции, Половцев хронически путался с польскими помещицами, искавшими у него облегчения от тяжестей войны.
В зиму 1915/16 г. все польские помещицы, мужья которых воевали против нас, оставались в своих имениях, и в пределах района корпуса обеспечили себя записками от Половцева, что все их запасы продовольствия, фуража, скот, даже лес взяты на учет штабом корпуса и никаким реквизициям со стороны частей корпуса подвергаться не могут. Полки ставили перед штабом корпуса вопрос, как им быть с постройкой блиндажей, если нельзя рубить помещичьего леса – а в Галиции все леса являлись помещичьими; и Половцев цинично отвечал предложением рубить лес в 50 км в тылу и возить его по раскисшему чернозему на позиции. Конечно я приказывал рубить бревна и дрова в ближайших же рощах, в 15–20 км за фронтом; и в тех случаях, когда интендантство вовремя не подвозило снабжения, захватывал на месте нужный скот и фураж – ценой поднятия весьма неприятной переписки с начальством по поводу моего самоуправства. Я довел до сведения академического штаба 11-й армии (Щербачев, Головин, Незнамов, Кельчевский) о странной сердечной слабости Половцева. Я получил ответ, что это «уездный случай», над которым в штабе армии много смеялись – и только. Слабость государственных устремлений и здесь ярко чувствовалась. Штаб 11-й армии малоуспешно стремился сплавить Половцева, рекомендуя его на высшие посты; наконец ему удалось пристроить Половцева начальником штаба к Зайончковскому, отправлявшемуся командовать отдельным корпусом в Добруджу.
Зайончковский приглашал и меня в свой штаб на роль обер-квартирмейстера, но я не испытывал конечно ни малейшей охоты принять участие в добруджинской катастрофе, развитию которой Половцев оказал несомненно всевозможное содействие.
Русская армия позади своего фронта не имела вовсе благоустроенных лагерей, в которых потрепанные на фронте войска могли бы приводиться в порядок. Может быть первым образцовым лагерем являлся лагерь, устроенный мной в лесу между Бродами и Радзивилловым в октябре – ноябре 1916 г. Нормально войска, отходившие на отдых, располагались по селениям, и крестьянские настроения в эти периоды давали о себе знать наиболее сильно.
Первый крупный отдых полк получил в глубоком тылу, в районе Херсона, с 4 ноября по 12 декабря 1915 г. Полк должен был расположиться в огромном селе Арнаутовке, в 7 км от Херсона. Это село представляло сумасшедший дом на 5 000 человек. Сумасшедшие являлись местным промыслом. Каждый хозяин брал на полный пансион человек 4–5 сумасшедших, получал от земства по 12 рублей в месяц с человека, и еще эксплуатировал вверенных ему сумасшедших для легких работ. Сумасшедшие стекались сюда не только из Херсонской губернии, но со всего Юга, так как содержание их здесь обходилось много дешевле, чем в особых учреждениях, а статистика показывала, что состояние физического здоровья сумасшедших в крестьянском пансионе весьма недурно.
Когда меня осведомили о том, что полк после года горячих боев на фронте должен расположиться в сумасшедшем селе, меня охватил припадок ярости, и я написал херсонскому губернатору изрядно дерзкое письмо за отвод нам квартир. К моему удивлению стрелкам эта Арнаутовка понравилась до крайности: после голодных деревушек Белоруссии и Литвы, разоренных военными действиями, Херсонщина производила действительно впечатление «страны, где все обильем дышит», где медовые реки текут в кисельных берегах. Стрелков угощали белым хлебом, арбузами, помидорами, сушеной рыбой, за ними ухаживали, их обшивали и им чистили котелки. Через две недели, по моему протесту, губернатор перевел полк в самый город Херсон, что едва ли особенно обрадовало стрелков. Стрелки на Херсонщине хорошо отдохнули и запаслись силами для тяжелых зимних месяцев.
Другой отдых полка приходится на весну 1915 г. (13 марта–27 мая). Непосредственно перед Луцким прорывом полк простоял 21/2 месяца в резерве в с. Маначин, в полупереходе от Волочиска. Полк положительно пустил в Маначине корни и почти официально занял чисто крестьянскую позицию.[19] Штаб стоял в поповском доме, а на помещичьем фольварке расположился околоток полка. Но фольварк принадлежал польскому магнату, владельцу всего района Волочиска; у этого же магната, в его лучшем замке, квартировал штаб 7-й армии (командующий армией – Сахаров, начальник штаба – Шишкевич), довольно тусклый по своему составу. Польский магнат был очень гостеприимен по отношению к высокому начальству, и этим обеспечил себе его содействие. Весной 1916 г. все войска и учреждения, расположенные в окрестностях Волочиска, получили приказание очистить все помещичьи постройки, так как присутствие войск препятствует производству полевых работ и обсеменению полей помещичьих хозяйств. Мой околоток ушел из фольварка, но военные действия начались сейчас. В Маначине имелось прекрасное рыбное озеро, находившееся в аренде; арендатор уже три года судился с магнатом, суд наложил на рыбу запрещение; рыба подросла и размножилась. Весной рыба шла метать икру, большие рыбины подплывали непосредственно к самому берегу и терлись о него. Берега озера покрылись моими стрелками, послышался редкий ружейный огонь – стрелки выбирали рыбу покрупнее и подстреливали ее. Разумеется, сейчас же последовала на нас жалоба в штаб армии.
Испокон века скот помещика прогонялся на помещичий луг через крестьянскую землю. Но мои стрелки подбили крестьян загородить прогон; управляющий был поражен такой дерзостью, но ему пришлось сдаться и купить у крестьян право прогона на одно лето за 500 рублей.
В Маначине имелась полуразвалившаяся водяная мельница, принадлежавшая помещику. Очень может быть, что мои стрелки взяли себе на дрова несколько гнилушек с этой руины. Но полк получил через штаб армии от помещика счет на весь недостающий на мельнице лес – что-то около 400 рублей. Тут на помощь пришли крестьяне, выдвинувшие десятки свидетелей, что недостающий лес уже четырежды оплачен четырьмя полками, квартировавшими до нас в Маначине. Опираясь на эти показания, я перешел в наступление, требуя следствия над ложными счетами, травлей и придирками помещика к русскому полку. Штаб армии постарался замять эту неприятную ему историю.
Стрелки же блаженствовали. Позанимавшись в строю часа 4, они пахали, чинили, строили заборы, являлись, одним словом, полными заместителями отсутствующих хозяев. Нередко приходилось мне замечать пашущими или боронящими казенных полковых лошадей. Приходилось убеждаться в отсутствии состава преступления: и лошади, и стрелки работали даром, помогая беднейшим хозяйствам.
Некий стрелок, любезничая на сеновале с хозяйкой, обронил окурок, и весь крестьянский двор сгорел. Имущество и скот успели спасти, остановили распространение пожара, но одного двора не стало. Все стрелки чувствовали свою коллективную ответственность за происшедшее и ходили унылыми; прапорщики мои также были очень огорчены. Я собрал комиссию, оценил сгоревшие постройки, определил размер страховой премии, которую следовало бы получить хозяйке, если бы постройка была застрахована; получилось около 250 руб., которые и были выплачены из полковых сумм. Я думаю, едва ли когда старая Россия израсходовала более производительно 250 руб. Стрелки были в восторге, довольны сами собой и мной, и полностью расплатились с казной за эти мелкие поблажки своей кровью на полях Луцкого прорыва.
А когда полк ночью уходил из Маначина, во всех окнах светилось по огоньку, прощались и навзрыд плакали.
Избранная линия поведения позволила мне в сильной степени перекрыть пропасть, всегда готовую раскрыться между командиром полка – полномочным представителем правительства и массой, одержимой крестьянскими настроениями. Опираясь на достигнутый успех, я мог потребовать в полку такой муштры, какой не существовало ни в одном даже гвардейском полку. Читатель жестоко ошибется, если на основании предшествующего изложения предположит во мне мягкотелость, стремление плыть по течению. Репутация справедливости нужна была мне, чтобы проводить в нужном случае расстрелы, репутация разумности – чтобы требовать жестокой муштровки, примирить солдата с очень тяжелым и суровым режимом полка. Без этих проблесков служба стрелка в 6-м полку являлась бы настоящей каторгой; в малейших деталях требовались чеканка и отчетливость, никакой распущенности не допускалось. И стрелки гордились тем, что они в 6-м полку, бежали в полк, если после ранения получали другое назначение.
Вечерами, во время империалистической войны, при расположении в резерве всегда раздавались песни. Усталые, лишенные свободного времени стрелки не всегда охотно становились после вечерней зари в круг петь песни – фельдфебеля подгоняли. Я спросил старого, опытного офицера: – «зачем это насильно заставляют петь, пока у всех уже глаза не начнут смыкаться» – и получил ответ: – «Чтобы не оставлять стрелкам времени для разговоров и размышлений». Эти песни являлись моментом оригинальной политработы в старой армии. Подумав, я сохранил и у себя в полку песенный режим; при расположении по деревням я его мог значительно ослаблять, а в зиму 1916–1917 г., при расположении на отдыхе в образцовом лагере, я уже чувствовал себя много хуже, классовая подпорка исчезала, и пели в полку свирепо.
Как только полк уходил в резерв, устраивалось стрельбище; стреляли иногда на 500–600 шагов, иногда место позволяло стрелять только на 200 шагов, по головкам и глазным мишеням. Я практиковал стрельбу с движением с расстояния 100 шагов, чтобы обеспечить обстрел штурмуемого окопа в момент преодоления проволочных заграждений. При слабом противнике, каким являлась австрийская пехота 1916 г., этот прием давал прекрасные результаты. Я любил выйти на стрельбище, потребовать из полковой лавочки несколько ящиков папирос (за счет полковых сумм) и мечтать; каждый стрелок, попавший 4 пули, получал десяток папирос, попавший 5 – двадцать пять штук. По воскресеньям я развлекался устройством конкурсов: каждая землянка выбирала лучшего стрелка, и в случае его удачи коллективно награждалась папиросами и стеариновой свечкой – предметом огромной роскоши.
Когда я вступил в командование полком, у солдат, в особенности у только-что прибывших в полк, было представление о командире полка, как о каком-то страшилище. Я подзываю к себе идущего мимо стрелка, а он, увидев меня, обращается в дикое бегство. Я вхожу в дом в сотне шагов за окопами – там, с разрешения фельдфебеля, двое стрелков стирали свое белье. Когда я вошел в дом, они выпрыгнули в окно и пустились на утек. Я приходил от этого бегства в бешенство, стрелял из браунинга по бегущим, скакал верхом за ними и нагонял людей, смотревших на меня так, как индус смотрит на тигра, собирающегося его растерзать. Так было на первых шагах.[20]
В полк подарков не присылали, так как по месту стоянки мирного времени он был связан только с Финляндией. Но в деньгах у нас не было недостатка, и на отдыхе мы закупали иногда на тысячу рублей гармоний, перочинных ножей, маленьких зеркал, гребешков, кошельков и лакомств и устраивали состязательные игры – перетягивание каната, борьба на вертящемся бревне, борьба между стрелками, оседлавшими других стрелков, бег с яйцом в ложке и т. д. Большим организатором был командир батальона Васильев. Удавалось добиться общего непринужденного веселья. Я помню такие игры весной 1916 г. в Маначине, под ярким солнцем. Я гулял среди играющих. Вдруг меня кто-то сильно потянул за рукав. Я обернулся. Тянул меня молодой стрелок, желавший обратить мое внимание на то, что в одном состязании между ротами противная сторона применяет недозволенные приемы, передергивает. В том жесте, с которым стрелок в минуту борьбы ухватился за меня, заключался максимум доверия. Якорь спасения, последний верховный арбитр. Будучи деревенским мальчишкой, он вероятно в критическую минуту хватался также за полы кафтана своего тятьки. 8 месяцев моего командования полком не пропали даром – я мог гордиться им. Обласкав опешившего вдруг стрелка, я со спокойствием думал о том, что через несколько дней полк будет брошен на прорыв австрийских позиций: полк пришел в норму, достиг высшей степени боеспособности, на которую может подняться русский боец в условиях царской армии.
Глава третья. Командный состав
Начальником 2-й Финляндской стрелковой дивизии был генерал-майор Кублицкий-Пиотух, седенький старичок, уже сильно одряхлевший. По существу, он был не плохой человек, но конечно по своей природе он отнюдь вождем не был. При первом же моем представлении он стал извиняться перед мной за то, что командует дивизией, не будучи к этому вовсе подготовлен; он много лет заведывал хозяйством гвардейского пехотного полка и рассчитывал в лучшем случае дослужиться до командира армейской бригады и уйти в отставку. Но как-то на войне он оказался за старшего, а австрийцы как на зло пришли и сдались большой гурьбой. Кто-то постарался ему поворожить, и, совершенно для него неожиданно, он оказался в роли начальника дивизии. В течение последующих полутора лет он считал своим долгом каждый раз извиняться, когда посылал мой полк в атаку – «ничего конечно из предпринимаемой атаки не выйдет, но ничего не поделаешь – высшее начальство требует; не хорошо, а атаковать надо». Начальства он боялся панически и считал слоим долгом подписывать то, что ему давал начальник штаба дивизии или что предлагали вертевшиеся около него люди. Не мало выговоров надоумили они его написать по моему адресу. Я отводил порой душу, ругаясь по телефону; у начальника дивизии выработалась постепенно привычка – звонить сначала к полковому адъютанту, спрашивать у него, в каком я настроении, и лишь затем вызывать меня к телефону.

