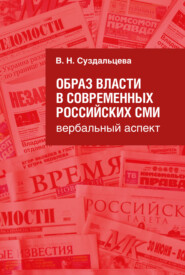 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Образ власти в современных российских СМИ. Вербальный аспект
Словосочетание «оборотни в погонах», за счет его резкой негативности и неожиданности проведения акции в самом МВД, сразу широко распространилось в массмедийном дискурсе и обрело статус прецедентного феномена. См. случаи недавнего употребления: «Оборотни в погонах» – название документального телевизионного фильма в цикле «Советские мафии» (ТВЦ, 26.12.14) – о криминальных мафиях, действовавших под прикрытием МВД и тогдашнего министра этого ведомства Н.А. Щелокова. В авторском тексте несколько раз употребляется словосочетание «оборотни в погонах». И последняя фраза фильма: «Пройдет всего три года, и оборотень в погонах… покончит с собой». Метафора стала употребляться и по отношению к людям иных профессий: оборотни в кабинетах, оборотни в белых халатах, оборотни без погон. См. также: «Новый глава Центробанка Эльвира Набиуллина продолжает работу по очищению системы от «оборотней» в конторах» – об отзыве лицензии из Мастербанка (ТВ – Вести FM, 21.11.13); «экологические оборотни» (АиФ, 06.11.13); «офицеры-оборотни» (Дни.ру. Интернет-газета, 07.09.09); ««Оборотней с микроскопами»» в РАН обнаружить не удалось» (загол., Культура, 20.11.14) и т. п.
17) метафоры болезни: бацилла, вирус, аритмия, паралич, опухоль, метастазы, эпидемия, инфекция, инъекция, лечение, хирургия и т. п. Например: «Вирус тоталитаризма – Что это такое?» (загол. Свободная газета, 16.01.15); «Аритимия власти» (загол.): «Её, как и сердечную аритмию, надо быстро купировать, иначе это приведет к образованию политического тромба и инфаркту государственности» (Нов. газ., 26.02.14). Несмотря на устойчивость в смысловом пространстве СМИ, метафоры этой группы, на наш взгляд, давно утратили яркость и употребляются как полемические штампы (подробнее о метафорах этой модели см. ниже, в разделе ««ВЫСОКОЕ/НИЗКОЕ»: Пространственные метафоры и пространственные отношения в текстах о власти» сс. 182-184).
18) метафоры «красивости». Это совершенно новый для внутрироссийских текстов о власти послесталинского периода тип переноса. Невозможно представить себе, чтобы метафоры бриллиант, садовник и другие из приведенных ниже были употреблены по отношению к кому-нибудь из окружения Л.И. Брежнева или к нему самому. К метафорам этой группы мы отнесли заимствования из тех денотативных областей, которые в российской ментальности связаны с представлением об изяществе, изысканности, красоте: как природной, так и созданной человеком. Ими, на наш взгляд, являются слова, относящиеся к «высокому» искусству, прежде всего музыке и поэзии, к искусствоведению, названия артефактов, которые представляют собой произведения «высокого» искусства, а также названия того, что красиво в природе. Это, такие денотаты, как: цветы, цветущий сад, камни, звездное небо и т. п. Утонченность того, что обозначают эти слова, абсолютно не соответствует манере руководства и внешнему облику нынешней власти, доминирующий стиль которой – деловитость, сдержанность, строгость. Такое несоответствие создает иронический эффект
(О.П. Ермакова тонко подметила, что раскрепощенность языка современных СМИ привела к возможности «сравнивать всё со всем» [Ермакова 2000:56]). См. приведенные выше (с.151) ехидные характеристики, данные журналисткой «Новой газеты» двум деятелям современной политики – заместителю Председателя Государственной думы РФ С. Железняку и пресс-секретарю президента В. Путина Д. Пескову. См. также: «Впрочем, если посмотреть в газетах списки ведущих политиков, то никакого нового дуновения не предвидится. Если уж совсем новейшая «Партия Роста» приглашает к себе в депутаты вечную розу нашей политики – Ирину Хакамаду, а «Справедливая Россия» зовет на помощь Эдиту Пьеху, то какое тут обновление. Будем петь «Как у нас в садочке…»» (АиФ, 2016, № 28).
иногда метафоры «красивости» используются как позитивнооценочные. Такие метафоры можно найти в материалах А. Проханова. Например, кристалл, кристалл еще хрупкий и робкий, нераспустившийся бутон, садовник, расцвести, сад в:
«…кристалл новой российской государственности. Кристалл еще хрупкий и робкий, подверженный напастям…» (Завтра, декабрь 2012,№ 52); «Прообразом такого сообщества является российско-белорусское Союзное государство. Зачаточное, в виде эмбриона, нераспустившегося бутона, оно несет в себе все формы будущего равноправного и творческого объединения. Близок час, когда этот бутон, взлелеянный Лукашенко, этим искусным садовником, расцветет в своей красоте в саду евразийства» (Завтра, август-сентябрь 2012, № 35).
Положительная оценочность метафор этой модели – черта индивидуального стиля А. Проханова, свойственных ему эмоциональности, «высокости». В целом для современных массмедиа выражение положительной оценки за счет слов этой семантической группы нехарактерно.
2.7.3. «По умолчанию». Бинарные оппозиции в метафорических моделях смыслового пространства «власть»
Известно, что умолчание – «сокрытие существенной информации» [Вирен 2013: 27] или сообщение неполной информации относят к приемам «информационной войны в практике современных СМИ» [Вирен: 27-29]. Вместе с тем умолчание, как отмечают исследователи, часто становится способом создания имиджа/образа: в политике, в пропаганде, в пиаре и рекламе [Вирен: 114,119]. Умолчание способствует акцентированию – фокусированию внимания адресата на той части информации, которая не опущена, а преподнесена массовой аудитории. Акцентирование, т. е. тенденциозная подача либо позитивной, либо негативной информации, также входит в арсенал приемов, с помощью которых представление об объекте изображения может конструироваться как заранее заданное и вовсе не обязательно соответствующее реальности. К наиболее результативным и чаще всего используемым вербальным средствам реализации приемов умолчания/акцентирования относятся компоненты бинарных оппозиций. Система бинарных оппозиций, будучи средством концептуализации мира в человеческом сознании и в языке, является, как было указано выше (сс. 18-19), структурообразующей основой смыслового пространства «власть». Метафорические модели, представленные в смысловом пространстве «власть», наиболее четко демонстрируют соотнесенность с бинарными оппозициями. Она проявляется в следующем:
1. Вербальное обозначение каждой из сфер-источников и соотносящееся с ним понятие имеет в общенациональной ментальности и в языке соответствующее противопоставленное понятие, то есть входит в бинарную оппозицию как один из ее компонентов. Например:
– метафоры обособленности: всеобщность (единение)/обособленность;
– метафоры деструктурирования. разрушения: созидание/разрушение;
– метафоры нивелировки: незаурядность/усредненность, посредственность;
– метафоры подделки, имитации, фальши: настоящее/ненастоящее;
– возрастные метафоры: молодой/старый;
– деперсонифицируюшие метафоры: человек/механизм;
– размерно-количественные метафоры: большой/маленький;
– метафоры-конфессионализмы: святость/бесовщина;
– метафоры болезни: здоровье/болезнь и т. д.
2. Как уже отмечалось, семантика каждой из бинарных оппозиций многоуровневая. Т.В. Цивьян пишет о «многослойности» семиотических оппозиций: «высокие – не только гора, дерево и т. п. но и социальное положение человека; белый, желтый, красный, черный, когда они классифицируют расы, лишь приблизительно соответствуют действительным цветам…» [Цивьян 2006:13]. То же отличает многие из выведенных выше метафорических моделей.
Так, размерно-количественные метафоры великан/лилипут (см. приведенное выше, сс. 158-159) «Раса великанов, отключенная от этих священных энергий, стала мельчать, уменьшаться и, к закату советской эры, превратилась в расу лилипутов»), указывающие на духовную и социальную ценность человека, проецируются на еще один уровень, на котором противопоставлены представления: развитие, совершенствование/деградация. Метафорическое словосочетание дистиллированный псевдоним (о переименовании Сталинграда в Волгоград, см. выше, с. 155) семантически и ассоциативно связано спонятием 'утративший индивидуальность', 'никакой'. Метафоры обособленности каста, клан содержат в своем значении семы: 1) отъединенность; 2) замкнутость. См. в словаре: Каста – «2.
Замкнутая общественная (сословная или профессиональная) группировка, отстаивающая свою обособленность и связанные с ней привилегии» [Большой толковый словарь русского языка 2001:421]; Клан – «Замкнутая группировка людей, объединенных хозяйственными и общественными узами» [там же: 430]. Здесь 'отъединенность', 'замкнутость' предполагают противопоставленность всем остальным, то есть народу, отстаивание собственных интересов и привилегий – и, следовательно, враждебность по отношению ко всем остальным. Обе метафоры проецируются на понятия 'власть' и 'народ' и – далее на одну из основных оппозиций политического дискурса свой/чужой. В этих метафорах свои для власти – это те, кто во власти, а народ – не свои, то есть чужие. Ю.М. Лотман писал об установлении границ индивидуального пространства: «Всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее («свое») пространство и внешнее («их»)» [Лотман 2004: 257]. И далее: свое – это «культурное», «безопасное», «гармонически организованное». Ему противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», «хаотическое» [там же: 257]. Получается, что власть, первейшая обязанность которой – заботиться о народе, живет и действует прямо противоположно: ограждается от народа и зачастую защищается от него.
3. Каждый из признаков, образующих оппозиции, входит в одну из двух основных понятийно-аксиологических зон: зону позитива и зону негатива. Т.В. Цивьян пишет: «Набор признаков проецируется на аксиологическую ось (оппозиция добро/зло, хороший/плохой)» [Цивьян Т.В. Модель мира и ее роль в создании (аван)текста: www.rathenia/ra/folklore/tcivian2.htm]. Зона позитива и зона негатива являются наиболее общими в иерархии оппозиций и включают в себя абсолютно все признаки, образующие бинарное противопоставление. При этом важнейшей чертой бинарных оппозиций является их взаимообусловленность, так как каждый компонент в них может быть выделен только при наличии другого [Кошарная 2014: 156]. 'Красивое' мы осознаем в сопоставлении с 'уродливым', 'добро' – при наличии представления о 'зле', 'снаружи' – то, что не 'внутри', 'чужое' – это то, что 'не свое', и т. д.
В таком случае очевидно, что отображенный с помощью вербальных средств мир или какой-либо объект этого мира может быть представлен как целостный только при выраженности обоих компонентов бинарной оппозиции. Однако выявленные нами метафорические модели складываются в иную картину: в них в подавляющем большинстве случаев последовательно представляется только один из компонентов – тот, который в соответствующей модели маркирован отрицательно, т. е. входит в зону негатива, и акцентируется таким образом информация (фактологическая, оценочная) негативного характера.
Исключения – отдельные примеры использования конфессиональных метафор. Конфессиональная тема – та денотативная область, которая традиционно являлась в российской словесности способом возвышения названного и была приметой «высокости» стиля. Некоторые современные журналисты продолжают использовать это свойство конфессионализмов, когда речь идет о каких-то чрезвычайно важных, с точки зрения журналиста, явлениях и персонах. Таковы материалы А. Проханова, который употребляет метафоры этой модели, чтобы подчеркнуть особое уважение к тому, о ком и о чем он пишет. Например: чудо – «Чудо СССР» (загол., А. Проханов, Завтра, 2013, январь, № 1); святомученик – «Святомученик Иосиф» – о Сталине (Завтра, 2013, январь, № 4); святой, священный – «Все слышнее голоса народа, требующие вернуть городу на Волге его священное имя – Сталинград…» (А. Проханов, Завтра, 2012, декабрь, № 52) и т. п. (об этом см. также ниже, в разделе «Лексика элятивной семантики», с. 188). Однако в подавляющем большинстве случаев метафоризированный конфессионализм используется в СМИ как средство выражения иронии или насмешки, перестает входить в оппозицию святость/бесовщина. Он либо перемещается в одну смысловую группу со словами, которые объединяет понятие 'непомерная амбициозность, претенциозность', например демиург, мессия: «И вдруг сухо, по-аппаратному, как простого бюрократа, демиурга Системы… выводят из большой игры, в которой он играл роль ферзя» – об отставке Вл. Суркова (Нов. газ., 13.05.13); «Беда в том, что при явлении каждого нового русского мессии вера и, соответственно, благодарность за якобы дарованное счастье становились все жиже и жиже» (АиФ, 2012, № 6). В других случаях конфессионализм используется как ироническая экспрессема: «Отлучение от ОДКБ» (загол., Незав. газ., 16.10.12); «Второе пришествие Путина» (загол., Незав. газ., 29.12.12).
Очевидно, что целостность или асимметрия (в ту или иную сторону) созданной с помощью средств языка, в том числе и с помощью метафор, картины мира в значительной степени обусловлены употребленными метафорами, их отнесенностью к зоне позитива или негатива. В российских СМИ первых 15 лет XXI столетия постоянно раздавались «звонкие метафорические оплеухи» [Бессарабова 2015: 77], акцентировалась негативная информация о власти при умолчании – несообщении информации позитивного характера или неполном сообщении такой информации. Результат – образ искаженный, иногда вообще не соответствующий реальности.
2.7.4. «Высокое/низкое»: пространственные метафоры и пространственные отношения в текстах о власти
Особое место среди метафорических моделей смыслового пространства «власть» занимают метафоры, связанные с пространственными представлениями «верх/низ», «высокое/низкое».
В научной литературе не раз указывалось, что оппозиция «верх/низ» издавна служила основой для обозначения явлений религиозных, социальных, нравственных и некоторых других [Пономарева: ras-land.isu.ru/about/group/ponomareva/state4/; Булыгина 2000: 277 и далее]. Это отразилось в символических представлениях мифологии, в образной системе многих произведений, в дифференцировании фактов языка, и в первую очередь – в особенностях метафоризации. Дж. Лакофф и М. Джонсон относят метафоры «верха/низа» к группе «ориентационных метафор» [Дж. Лакофф, М. Джонсон 1990: 396] и показывают, как ориентационные метафоры используются для обозначения физических, психических и эмоциональных состояний человека, а также его социального статуса [Дж. Лакофф, М. Джонсон: 396-397]. Важно отметить также, что в языковой картине мира в подавляющем большинстве случаев (отдельные исключения: высокомерие, высокопарно) представления «верх/низ», «высокое/низкое» традиционно соотносятся на аксиологической шкале с представлениями «хорошее/плохое», «важное/несущественное», «влиятельное/незначительное», «доброе/злое». И можно утверждать, что в целом оценочный компонент наиболее отчетливо выражен именно в тех фактах языка, которые связаны в общероссийском тезаурусе семантически или ассоциативно с понятиями «верх, высокое/низ, низкое».
Власть и то, что составляет сферу ее действий, в российской вербализованной модели мира традиционно обозначалась единицами, входящими в семантическое поле «верх, высокое»; это проявлялось во всех принятых наименованиях и характеристиках, в том числе – в образовании и использовании метафор. Так, в знаменитой «Оде на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М.В. Ломоносова читаем: «О, коль достойно возвеличен Сей день и тот блаженный час, Когда от радостной премены Петровы возвышали стены До звезд плескание и клик!» – о Елизавете; «Сквозь все препятства он вознес Главу, победами венчанну, Россию, грубостью попранну С собой возвысил до небес» – о Петре Первом [Ломоносов: www.stihi-ras.ru/1/Lomonosov.htm]. К высоким темам, по Ломоносову, относились прежде всего темы, связанные с властью: восшествие на престол нового императора или императрицы, рождение наследника престола. Взаимосвязь между служебной иерархией и пространственными представлениями отразилась в некоторых принятых формах обращения, соответствующих Петровской «Табели о рангах»: ваше высокоблагородие (к офицерам и чиновникам от восьмого до шестого класса, а также их женам); ваше высокородие (к гражданским чиновникам пятого класса – статским советникам и их женам); ваше превосходительство (к военным, имеющим чин генерал-майора, генерал-лейтенанта и их женам [Большой толковый словарь русского языка: 183; 956]. Прописная буква, принятая в письменных текстах для обозначения царствующих персон в дореволюционной России, – графическое признание «высокости», превосходства над всеми тех, кто назван. Но борьба за пребывание на этой высшей ступени, т. е. борьба за власть, зачастую является основным содержанием и целью политического дискурса. В этой борьбе «победить противника» – обозначается словами и словосочетаниями: «понизить статус», «принизить», «утопить» и таким образом «одержать верх». Уже сама по себе лексика и фразеология, обозначающая способы и результат борьбы, метафорична и связана с понятиями «верх/ низ». Победитель – тот, кто оказался выше, кто смотрит теперь свысока. И взгляд свысока – это опять-таки один из способов принижения противника. Очевидно, именно поэтому в первые шестнадцать лет нынешнего, XXI века, существенно изменился характер тех метафор и метафорических моделей, в которых отражаются представления «верх/низ», «вверху/внизу», «высокое/низкое».
Метафоры, отражающие пространственные отношения «верх/низ».
Выделяются две группы таких метафор.
1. В первую группу входят слова, которые в прямом значении называют все то, что в пространстве расположено внизу: котлован (аллюзия, отсылка к ставшему прецедентным феноменом названию повести А. Платонова), яма, штольня, провал, пропасть, подвал и т. п.: «Котлованы счастья: «Бесовщина» в русской судьбе» (загол., АиФ, 2012 № 45) и дальше: «На протяжении всего XX века (а по сути дела и до сих пор) мы роем котлованы для будущего счастья» (там же); «Растет понимание того, что цивилизационный провал, в который Россия попала в результате почти восьмидесятилетнего коммунистического эксперимента, с Путиным или без Путина, одним броском не преодолеть» (АиФ, 2012 № 42); «…в какую яму тянет страну оставшаяся у власти команда…» (Правда, 20-21.03.12); «На наших глазах власть, либералы и государственники, сплетясь, танцуют вальс монстров на краю пропасти» (Моск. нов., 29.03.11). Импликационал метафор этой группы создает негативную оценочность: позволяет характеризовать обстоятельства, в которых существует, по мнению журналиста, современное российское общество, и эмоциональное состояние россиян: отсутствие позитива, мрачность, пессимизм (провал, котлован, яма); опасность, чреватая катастрофой (яма, пропасть).
2. Вторая группа. Представление о распределении на вертикальной шкале «верх/низ» создается таким импликационалом, в котором один из компонентов содержит коннотацию иронической пренебрежительности. Она характеризует объект, названный словом, как такой, на который можно смотреть свысока. В публичной речи взгляд на объект говорения «свысока» и коннотации иронической пренебрежительности свидетельствуют о том, что говорящий занимает на социальной лестнице куда более высокую ступеньку по сравнению с тем, о ком идет речь (вертикальные социальные роли, по И.А. Стернину [Стернин: 7]), а по характеру взаимодействия выступает в роли «распорядительной» (противоположное – «исполнительная» роль) [Стернин: 7]. Журналистика, как уже отмечалось выше, являясь социально и ситуативно детерминированным видом деятельности, также представляет собой общение социально-ролевое, то есть такое, в котором и содержание речи, и использование языковых средств в значительной степени заданы заранее и регламентированы. Каждая социальная роль диктует определенный образ поведения, в том числе поведения речевого. В процессе создания журналистского текста автор может варьировать это поведение и надевать на себя разные речевые маски. Этими масками могут быть, например: доброжелательный рассказчик, или строгий всезнайка, или подчеркивающий свою дистанцированность наблюдатель. Но в любом случае выбор языковых средств должен соответствовать социально-ролевой ситуации: 1-е лицо акта речевой ситуации – журналист/ 3-е лицо, объект изображения, – власть.
В плане психоэмоциональном социально-ролевое общение может быть: 1) общением «на равных» (вне журналистики таково, например, общение одноклассников на вечере встречи спустя тридцать лет после выпуска); 2) общением «свысока» (вне журналистики как: кредитор – должник); 3) общением «снизу вверх» (аналогично: проситель – директор благотворительного фонда). В журналистских текстах о власти постперестроечного периода стал весьма распространен тип изложения, при котором автор смотрит на власть и рассказывает о ней «свысока». Он реализуется в следующих метафорических моделях:
1. «Школьные метафоры»: прогуливать, прогульщик, двоечники, отличники, отстающие, шпаргалка и нек. др. Среди них особенно любимы журналистами: прогуливать, прогульщик, прогулы. «Законом о депутатах-прогульщиках» назвали СМИ утвержденные президентом В. Путиным в конце апреля 2016 года поправки к Закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в нем говорилось о возможности досрочного прекращения депутатских полномочий в случае, если в течение 30 дней депутат не исполнял свои депутатские обязанности, том числе отсутствовал на заседаниях). См., например: «Путин подписал закон о лишении мандатов злостных прогульщиков в Думе» [MKRU.04.05/2016]; «Путин подписал закон о депутатах-прогульщиках» [MK.RU ДАГЕСТАН. 04.05.2016 mkala.mk.ra/articles/2016/05/04]; «Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно будет лишать депутатов Госдумы мандатов за 30 дней прогулов…» [citigzt.ru/a/2144813]; «Депутатов ГД будут лишать мадатов за прогулы» [newstop7.ru/entry/2215597 04/05/2016].
Школьные метафоры содержит, например, информация массмедиа о данных «Рейтинга политической выживаемости губернаторов» (составлен фондом «Петербургская политика» и коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг»), где «оценки» губернаторам выставляются по 5-балльной шкале. См.: «Путин официально отправил в отставку еще одного губернатора-«двоечника» [URA.RU 02.03/2016ша. ra/news/105224238]; «Среди уральских губернаторов «отличниками» вновь признаны…» [URA.RU 26.ll/2015ura.ra/ articles/1036266411]; «В число «хорошистов вошли…» [там же] и т. д. См. также: «…депутаты или прогульщики?» (загол., АиФ, 2013 № 3); «Депутаты от ЛДПР пели гимн по шпаргалке» (Нов. Изв., 07.09.06); ««Передовики» и «отстающие» кабинета министров. Работу министров оценивали по 5-балльной шкале» (загол. и подзагол., АиФ, 2013 № 43) и т. п.
Социальные роли здесь: УЧИТЕЛЬ (журналист) / УЧЕНИК (власть). Учитель всегда выше ученика, потому что ставит ему оценки, имеет право указывать на его недостатки. Потому учитель смотрит на ученика, осознавая собственное превосходство, особенно если ученик нерадив. Журналист в речевом акте не дистанцируется, чтобы объективно оценить деятельность власти как плохую или хорошую («двоечники " – «отличники»), но apriori возвышает себя над теми, о ком пишет, и таким образом принижает их.
2. Возрастные метафоры. Социальные роли в этом случае: СТАРШИЙ / МЛАДШИЙ (в классификации, указанной И.А. Стерниным: ВЗРОСЛЫЙ / РЕБЕНОК [Стернин: 6]). Модель имеет два вида:
а) метафоры инфантилизма, Это обозначения разных проявлений младенчества, детства, подросткового возраста, употребленные по отношению к взрослым людям – представителям власти. Вместе с школьными метафорами они представляют собой своего рода семантические деминутивы. Такие метафоры массово вошли в русский язык в первой половине – середине 90-х годов, когда в правительстве, в Еосударственной думе и на политической арене начали появляться молодые люди – альтернатива правлению советских времен: Е.Т. Еайдар (в правительстве с 35 дет), А.Б. Чубайс (в правительстве с 37 лет) Б.Е. Немцов (в руководстве с 31 года), СВ. Кириенко (в правительстве с 35 лет), Н. Белых (начало политической деятельности – 29 лет). Множество метафор этой группы находим в книге очерков Е. Козиной «Вкус скандала. Комплексы любимых политиков» [Козина 2007]. Очерки объединены еще одним – ироническим – названием, включающим метафору инфантилизма, – «Песочница всероссийского масштаба». В текстах находим:



