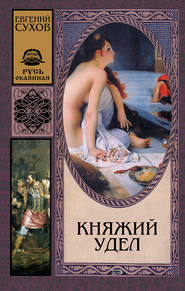
Полная версия:
Княжий удел
Собрав большую силу, Юрий Дмитриевич повел рать на Москву.
Полки галицкого князя стали лагерем у горы Святого Николы. Вот уже пятый десяток лет пошел, как облюбовал старик эту неприметную и заросшую лесом вершину для своего жилища. Так и прозвали ее с тех пор – гора Святого Николы. Редко кому удавалось увидеть старика, ибо выходил он из своей землянки ночью, а разговаривал с гостями через узенькую щель в двери.
Не было дня, чтобы не наведывался к затворнику кто-нибудь из мирян, поговорит со старцем и краюху хлеба под порог положит. Тем он и жил.
Знающие люди говорили, что зимой и летом носил святой старец одну и ту же рясу, во многих местах прохудившуюся, но менять ее не желал и теплой одежды ни у кого не принимал.
– В этой рясе я иночество принял, – говорил старик, – в ней и помирать буду!
Ходил старец всегда без шапки, волос никогда не стриг, и они длинными седыми космами свисали по плечам.
Юрий Дмитриевич спешился у подножия горы и в сопровождении сыновей – Васьки Косого и Дмитрия Шемяки – пошел к землянке. Шапку князь с себя стянул и предстал перед святым с непокрытой головой.
– Отец Никола, – окликнул негромко старика князь. – Жив ли ты? Отзовись!
Некоторое время в землянке было тихо, а потом послышалось легкое покашливание.
– Кто ты, добрый человек? С чем пожаловал? – тихо спросил старик.
– Я великий князь Галицкий, Юрий Дмитриевич, – не сумел унять гордыню князь. И сразу понял свою ошибку. Не было для святого разницы, кто перед ним: князь великий или бродячий монах. Все рабы Божьи, и все проистекает от Его повеления.
– Слушаю тебя, князь.
И почувствовал Юрий Дмитриевич, что, быть может, величие не в княжеском звании да родовитости, а вот в этой святости, неприхотливости, простоте существования. А сам старик так возвысился над ним, ушел далеко, что никогда не догнать его ни в земной, ни в загробной жизни.
– Правду ли говорит про тебя народ, что ты княжеского рода и имя свое мирское скрываешь?
– Правда, – был ответ, – только ведь кровь и плоть у всех единая. Суета все! Один Бог вечен.
– Слышал ли ты, старец, о племяннике моем, московском князе Василии Васильевиче?
– Прости, князь, не слышал.
Подивился ответу Юрий, но спрашивал далее:
– А об отце моем Дмитрии Донском слышал? О брате Василии Дмитриевиче?
– О брате тоже не слыхал. А у Дмитрия, князя Московского, прозванного за подвиг свой Донским, я в дружине воеводой был. Кровь на поле брани чужую проливал, вот до сих пор и замаливаю этот грех.
– Знаешь ли ты, зачем я пришел к тебе, старец?
– Ведаю, – уверенно отвечал старик. – Одна болезнь у всех князей. Братьев наказать хочешь. Только ведь не в распрях сильна Русь, а в единстве!
Если старец замаливает пролитую татарскую кровь, то как он смотрит на него, который идет проливать братову кровушку. Нет, не видать благословения.
Ушел Юрий Дмитриевич, и еще долго слышался ему теплый голос старца: «Только ведь не в распрях сильна Русь, а в единстве!»
– Государь Юрий Дмитриевич, – услышал князь голос воеводы. – К горе полки Василия Московского и Ивана Можайского подходят.
Пожаловали, стало быть, племянники.
– Трубить сбор! Не хочу святого старца сечей тревожить. Встретим рать московского князя в поле. Пусть звон железа не мешает ему молиться.
Отошла от горы рать Юрия Дмитриевича. И вправду: на горизонте пыль поднялась, скоро Васька здесь будет.
Для битвы галицкий князь выбрал поле огромное, где луговая трава высокая и сытная. Луговые ромашки, голубые колокольчики склонили свои головки, словно и они признавали господином Юрия Дмитриевича.
И часа не пройдет, как будет помята трава сражающимися, телами убитых и раненых, а ромашки скорбно поникнут, политые не дождевой водой, как бывало раньше, а кровью русича.
Рать Юрия терпеливо поджидала дружины Василия Московского и Ивана Можайского. Ратники прилаживали кольчуги и панцири, читали негромко молитвы. Сам Юрий Дмитриевич надел поверх красной рубахи байдану бесерманскую и крепко стянул ее широким поясом.
Полуденное солнце сильно припекало. Пот обильными ручьями заливал глаза, рубаха под кольчугой промокла и пристала к спине, долгого ожидания не выносили и кони, они без устали махали хвостами, отгоняя оводов, нетерпеливо рыли копытами землю.
И когда первые ряды дружины Василия Московского поднялись на косогор, князь Юрий повелел стоящему рядом трубачу:
– Ну давай, с Богом, труби к бою!
Услышав трубный голос, рать Юрия Дмитриевича всколыхнулась, словно на ветру, и, изготовив наперевес копья, двинулась на Василия Московского.
Стонали раненые, падали убитые, в панике носились по полю осиротелые кони, гремела без устали труба. И всюду звон, крики, ржание лошадей…
Третий час рубились ратники. Полки князя Юрия теснили рать Василия Васильевича. Обескровела дружина московского князя, повернули бы спины к врагу и во весь опор помчались бы к дому, но разве бывает смерть более позорная, чем в бегстве? Убегающего и колоть легче.
Полки князя Василия Васильевича отходили шаг за шагом. Видно, решил он сохранить силы для главного боя. На поле брани остались лежать первые ряды ратников, кто пал во спасение остальных. Другие, зная о своей участи, дрались отчаянно, сдерживая могучий натиск дружины князя Галицкого.
Позорно отходил Василий к Новгороду, только небольшая рать сопровождала московского князя.
Таков уж был Великий Новгород, что принимал под защиту своих крепких стен опальных князей, тем самым всегда наживая могущественных врагов. И закреплял за собой бунтарскую славу. Однако иного он себе не желал, только в вольнице сила великого города. И не было над Господином Великим Новгородом большей власти, чем народное вече.
Сейчас московский князь шел на поклон к бунтарскому вечу просить у него помощи. Славился Новгород не только богатыми купцами, вольнодумством, но еще и тем, что всегда был готов пригреть обиженного, не откажет в помощи слабому.
Не ждал Василий Васильевич от города многошумного и добродушного колокольного звона в свою честь, не ждал каравая душистого хлеба, поданного на рушнике. Вот если бы город дружину дал добрую, а там и с Богом. Авось в долгу не остался бы! С этой мыслью ехал Василий в славный Новгород.
Не умел Новгород служить ни московским князьям, ни закованным в тяжелую броню ливонцам, ни татарам на лихих конях: у тех и у других отвоевывал свое право на независимость. Город представлял силу, не считаться с которой было невозможно. Где самые богатые купцы на Руси? В Новгороде Великом! Где самые искусные пушкари? В Новгороде! Чьи колокола звонче всех к заутрене зовут? Новгородские! А чьи мастеровые могут белокаменные церкви ставить? И здесь Господин Великий Новгород первый! Только новгородские каменщики стены мгновенно залатать способны, только новгородские купцы могут золото дать. А ежели и Новгород не поможет, тогда не найдется другой силы во всей Руси, чтобы пособить. Не единожды Москва просила помощи у Новгорода. Сами московские князья, въезжая за его крепкие стены, шапку смахивали.
Ехал Василий Васильевич за ратной силушкой. С версту осталось до мурованых новгородских стен.
Сошел с коня Василий Васильевич – решил в город идти пешком, тем самым показав свое смирение. Конь послушно ступал за хозяином, следом шли немногие из бояр.
День был базарный, и Василий направился на Торговую сторону. Мост, под которым река Волхов несла свои воды в холодную Ладогу, поскрипывал. У моста, прижавшись крутыми бортами к берегу, стояли иноземные парусники. На палубе в тюках лежало сукно, в мешках – соль; по мосткам на берег черные люди выкатывали бочки с пивом. На Опоках высился храм Иоанна Предтечи, перед входом иконка Божией Матери. Вокруг церкви «Иванское сто», в толстые стены которой упирались длинные торговые ряды, толпился народ. Важно, в длинных черных мантиях, шествовали по базару заморские купцы, холеными пальцами щупали блестящие шкурки бобров. Прошка Пришелец, глянув на кудлатую голову князя, предостерег:
– Черного люда полно, князь. Шапку бы надел.
Натянул государь Василий Васильевич соболью шапку на самые уши и пошел дальше.
Не знал Новгород голода. Жил он всегда сытно, славился хлебосольством. На торговых рядах в изобилии выставлен хлеб, который свозили в Великий Новгород со всей Северной Руси. Поморы к столу новгородцев доставляли жирную сельдь и рыбу.
Размашисто, вдоль всей реки, проходил рынок. Под навесами устроился суконный ряд, мясной, рыбный. И, созерцая это изобилие, Василий Васильевич подумал, что торг в Москве будет поскромнее.
Всем взяли новгородцы: не было у них того трепета перед богатым платьем, который отличает крестьян и черный люд Московии. Дерзко вскинет иной малолеток бесовские глазищи и окликнет проходившего мимо заморского гостя:
– Господин! Сало отведай. На вкус такое, что язык проглотишь!
Трудно было не поддаться на уговор и не отпробовать угощения, а уж если отведал, так бери целый шматок!
А иной малец, не считаясь с чином, тянет родовитого гостя за рукав и зовет к своему лотку, где его батянька черпает темное пиво и разливает его в деревянные чаши просителей.
Подошел князь к бочке, бросил на лоток деньгу и тотчас получил чашу с пивом. Ожило нутро от горького напитка, в голове зашумело, и сделалось веселее.
– Куда идем, князь? – поинтересовался Прохор.
– К посаднику, – махнул рукой повеселевший князь. – Авось не откажет в помощи.
И, поглядывая на богатый торг, Василий в который раз позавидовал тому, что купцы московские были победнее.
Василий и Прошка прошли Плотницкую сторону, где мастеровые чинили прохудившиеся ладьи, собирали срубы. Здесь же, у самой реки, стоял крепкий дом. Тут проживал новгородский посадский дьяк Кондрат.
На стук глухо забрехал за воротами пес, и тотчас раздался во дворе строгий голос:
– Чего орешь, ушастая бестия! А ну пошел в конуру! Гости это!
Заскрипели ворота, отворяясь, и Василий Васильевич увидел дворового мужика.
– Батюшки-святы! – выдохнул мужик. – Никак ли сам московский князь к нам пожаловал? Проходите, дорогие гости, проходите! Надо было бы вам вперед себя гонца послать, мы бы сумели вас встретить! Кондрат Кириллович, радость-то какая, – орал слуга, – московский князь у нас на подворье!
В белой вышитой сорочке и синих широких портках на высоком крыльце появился сам хозяин дома. Если бы перед ним появился сам Иисус Христос, возможно, он удивился бы куда меньше, чем приходу великого московского князя.
Московские князья приезжали в Великий Новгород всегда с большой дружиной, загодя посылали гонцов, чтобы город успел приготовиться к встрече и величал бы их хлебом-солью да звонкими колоколами, низкими поклонами черных людей. Чтобы митрополит Новгородский шел впереди встречающих и несли бы чудотворную икону; и сам князь въезжал бы не по голой земле, а чтобы копыта жеребцов топтали дорогие иноземные ковры. Только к таким почестям привыкли московские князья. И всегда сосед – древний Новгород старался ублажить честолюбивого сильного соседа.
Сейчас великий московский князь был один, если не считать немногих бояр, которые жались за его спиной. Пропала былая горделивость и высокомерие во взгляде, которыми отличались московские Рюриковичи, и посадник Кондрат Кириллович понял, что произошло нечто важное. Видно, это «что-то» заставило смирить прежнюю великокняжескую гордыню, вот оттого и явился Василий в Великий Новгород не хозяином, а изгнанником.
Не сломался в поклоне Кондрат Кириллович, что случалось в прежние времена. Был он сам теперь хозяином положения. Ведь новгородцы величали его по имени и отчеству, называли «батюшка наш». Заложил за пояс Кондрат ладони и смотрел с вызовом на великого князя.
Нахмурился московский князь, не по душе ему пришлась вольница Новгорода.
– Здравствуй, Кондрат. Что же ты князя Московского не хочешь приветить? Или не господин я?
– А для меня есть один господин – вече народное! Князь Московский меня не выбирал. У него своя земля есть. Новгород, он всем городам старший брат.
Василию Васильевичу захотелось возразить строптивому посаднику, сказать, что, дескать, прошли те времена, когда Великий Новгород величали старшим братом, и что только один город на Руси может быть первопрестольным, но сдержался. Если бы явился он в город с великой дружиной, нашелся бы, что ответить дерзкому посаднику. А сейчас Кондрат на обидные слова и прогневаться может. Бывало в истории Великого Новгорода, когда изгоняли они за ворота неугодных князей, а про гостей непонравившихся и говорить нечего. Взашей выпрут!
Посадник, желая загладить неловкость, проговорил мягче:
– Ну, чего же ты у порога застыл, князь? Проходи в хоромы, ведь не иноземец какой, а свой, русский. За столом и расскажешь про дела. И что за беда тебя в Новгород привела. – И лихо прикрикнул на дворовых людей, которые сбежались посмотреть на московского князя: – Чего рты пораззявили?! А ну бегом стол готовить! Не видите, что ли? Проголодался Василий Васильевич! Пойдем, государь, пойдем, – чуток приобнял посадник Василия за плечи.
Разговор начался после того, как великий князь с боярами отведали шесть кушаний кряду. Молодые девки, зыркая на юного князя, убирали со стола пустые блюда. Утер ладонью жирный рот Василий и, оборотясь к посаднику, сказал:
– Опять Юрий Дмитриевич ссору затеял. На московский стол зарится, супостат.
– Знаю, – махнул рукой посадник. – Чай, не в пустыне живем. Народ уже сказывал об этом. Говорят, побил он тебя на реке Куси и под Ростовом.
– Побил, – согласился Василий. – Теперь мой черед сдачи давать. Может, ты мне поможешь новгородскую дружину собрать? Что скажешь, Кондрат Кириллович?
Кондрат был из поморов. И дед, и отец его жили тем, что ходили в заморские страны, торговали мехами, ловили белорыбицу и привозили с собой удивительные истории про житие-бытие заморское, рассказывали, что происходит вне родных стен. Чужая жизнь казалась удивительной: дома всюду строили из кирпича, церкви были высоченные, со множеством колоколов, даже обычные дороги выложены брусчатником, и оттого даже в самую непогоду грязи на них не увидать. Быть может, и Кондрат навсегда связал бы свою жизнь с морем, умножая славу своего удивительного края, да только судьба распорядилась иначе. Приглянулся смышленый мальчишка новгородскому тысяцкому: и грамоту разумеет, и на язык остер. Года не прошло, как пятнадцатилетний отрок сделался при тысяцком подьячим. А как вошел в мужицкую силу, женой обзавелся, стал тысяцкий именовать его дьяком. Может, суждено ему было остаться дьяком при сильном новгородском тысяцком, если бы не случилась беда: в лютую годину, когда Витовт, презрев крестное целование, двинул литовское воинство на Новгород, попал тысяцкий в полон. Вот тогда возглавил дьяк новгородское ополчение. Вместе с дружиной Василия Дмитриевича отбросили литовцев от Пскова и Новгорода, освободили тысяцкого.
И, поглядывая сейчас на Василия Васильевича, Кондрат вдруг обнаружил, как похож тот на своего отца. Даже кольчугу его надел! Та же пряжка золотая у самой шеи, а на ней выбито: «Сохрани меня Господь!» Василий Дмитриевич уберегся, своей смертью помирал великий князь, какова судьба сыну его достанется?
Хоть и непохожими были Москва и Новгород, но объединяла их всегда одна беда: как Новгород просил у московского князя помочь защитить пригороды от ливонцев и шведов, так и московский князь посылал за помощью в Великий Новгород, чтобы поднимались они супротив ордынцев. И не было в этой поддержке ничего зазорного.
Кондрат поерзал на скамье, нужно было отвечать московскому князю. Однако не мог подобрать слов умный посадский.
Не успела оправиться Новгородская земля от недавней войны с ливонцами, а тут, не далее как полгода назад, прошел по ее большим просторам мор, который унес тысячи жизней. Хотелось сказать Кондрату, что обезлюдела Новгородская земля: многие деревни пусты, некому землю пахать по весне. И собрать воинство будет непросто.
– Ты же знаешь, Василий Васильевич, все решает вече! Это у вас на Москве все просто. Пожелал князь – оторвал мужиков от сохи и собрал посошную рать. Набрал черный люд и пустил на ворога. А новгородцы народ вольный! Холопов у нас отродясь не бывало. Как вече решит, так тому и случиться. А я противиться не стану.
– Вече, говоришь? Пускай будет вече. Только поначалу я сам бы хотел на этом вече высказаться.
– На вече может говорить каждый. Вот завтра и устроим. Эй, Манька! Фекла! Девки! Где вы там?! Дайте князю горло наливой ополоснуть! И еще медовуху несите. Да покрепче! Ту, что в чулане под навесом стоит. Липовую.
Вече проходило на Ярославском подворище, на Торговой стороне, и с трудом вместило всех новгородцев. Однако тесно здесь никогда не бывало. Плечом к плечу стояли ремесленники и купцы, поморы и заморские гости. В центре дворища – степень, помост, сколоченный из грубых досок; тут же било, которое зазвучало в то утро по-особому звонко, заставляя стекаться к площади народ.
Монах, высоченный и сутулый детина, колотил молотом по тяжелому железу, и бухающий звук с каждым новым ударом расходился далеко во все стороны, будоража и торговую площадь, и новгородский посад.
Новгородцы подходили к дворищу степенно, сдвинув на самые затылки мохнатые шапки, и скоро двор наполнился гулом.
На степень взошел Кондрат и одним взглядом охватил площадь. Он был виден отовсюду – с ближних и дальних уголков Ярославского дворища.
– Братья новгородцы, – сказал Кондрат, сняв перед великим вольным собранием шапку. – К нам в Великий Новгород приехал московский князь Василий Васильевич просить нашей помощи супротив дяди своего, галицкого князя Юрия Дмитриевича. Что вы скажете на это, новгородцы?
– Пусть князь Московский говорит! – раздалось из толпы.
– Пусть князь свое слово скажет!
– Василия желаем выслушать!
Василий Васильевич стоял близ помоста в окружении бояр. Если кто и повелевал им когда-то, так это митрополит Фотий, который укорял князя в прелюбодеянии, в несоблюдении постов, в жестокости к мирянам. Еще по малолетству ругал его отец, Василий Дмитриевич. Здесь же были новгородцы, чужие ему люди, которые хотели видеть князя и слышать, что он им скажет, как поведет себя.
Им нужен был не пряник и не кнут, а слово, которое способно пробить до глубины души.
Василий хорошо знал и уважал Новгород – город с крепкими стенами, чугунными воротами, величественными соборами. Сейчас на него смотрели те, кто сотворил это чудо, те, чьей славой живет вольный Новгород. Сейчас Василий находился в самом сердце прекрасного города, на главном его дворище, где собирается вече, и, глядя в открытые лица новгородцев, он понял, что убедить их будет нелегко. Не гордецом, жестоким и властолюбивым, не побежденным и униженным должен предстать князь перед людьми, а сохранить спокойствие и достоинство.
– Вольный город Новгород! Пришел я к тебе не с дружиной и войной, а с миром и низким поклоном. Я пришел к тебе за помощью и советом… – И тут Василий Васильевич вспомнил, что не обнажил голову перед новгородцами, как того требовал обычай, шлем его показался ему неимоверно тяжелым. Но он князь! Он Рюрикович! Разве подобает князю, избранному самим Богом, обнажать голову перед смердами? Пусть это даже новгородцы. – Помоги мне, Новгород, отобрать стол московский у давнего моего недруга Юрия Дмитриевича, снаряди для меня дружину! Ну, а внакладе я не останусь, отблагодарю тебя сторицей! – Вече молчало. – Разве Новгород не помнит того добра, какое делал ему отец мой, Василий Дмитриевич, отстаивая от шведов и ливонцев! Разве мало московитов полегло под стенами Новгорода?! Я не хочу быть вам старшим братом. Я буду относиться к вам так, как это делал мой батюшка Василий Дмитриевич! А если и была когда-то между нами какая-то беда, прошу покорнейше прощения. На то только Бог вам и судья! – Князь спустился со степени, смешался с толпой, только княжеские бармы и отличали его от стоявших бояр.
На степень взобрался вихрастый детина, расшитая рубаха выдавала в нем мастерового.
– За помощью к нам пришел великий князь, а гордыню норовит впереди себя выставить. Шапку перед вольными людьми постеснялся снять. А может, он сраму боится? Только мы ведь не холопы, каждый сам себе хозяин! Бывало, мы указывали на порог князю и приглашали другого… – Порыв ветра взъерошил кудри детины, и он стал похож на воинственного петуха. – А для нас один господин – Великий Новгород!
Новгородцы тревожно загудели:
– Чего нам Москва?! Мы сами по себе! У Москвы свои заботы!
Детина откинул кудри, глубоко за пояс заткнул шапку и продолжал:
– Ты нас, князь, не неволь! Не привыкли мы к этому. И нужды в том особой нет, чтобы рать новгородскую собирать. Это твое домашнее дело, вот с дядей один и разбирайся! Если бы помощь от татар просил или от латинян, тогда отказа бы не получил. Первым бы я в ополчение пошел! А здесь расходятся наши пути-дорожки!
Детина давно уже спрыгнул на брусчатник, а новгородцы продолжали тревожно гудеть:
– Верно говорит! Не пойдем к Москве. Чего зазря животы класть! Юрий Дмитриевич никогда зла Новгороду не желал!
– Юрий Дмитриевич с Новгородом в мире был!
Ясно стало Василию, что помощи от Великого Новгорода не видать. Ох уж этот Господин Великий Новгород! Только одна досада от него. Орут каждый свое, не считаясь с чином. Такое в Москве невозможно.
Покинул великий князь вече, а слова новгородцев еще долго звучали в ушах, беспокоя.
Вечером к Василию пришел Кондрат и, словно винясь, завел разговор:
– Не моя это воля, слышь, князь. Я всего лишь посадник новгородский. Захотело вече – избрало меня, а пожелает, так и взашей за ворота выкинет. Вече всему господин! Думаешь, князь, просто нам кровь русича пролить? Ой как трудно! Так что не обессудь, государь, и помощи от нас не жди. В Новгороде можешь жить сколько захочешь. В обиду тебя не дадим. – Кондрат надел шапку, постоял и добавил: – Может, тебе в Нижний идти, авось не откажут там.
Василий остался один, через грязно-мутное стекло тускло пробивался дневной свет. В комнату вошел Прошка:
– Государь Василий Васильевич, письмо тебе от Ивана Можайского.
Свое послание Ивану Можайскому великий князь отправил сразу, как только прибыл в Великий Новгород. Все это время он с нетерпением дожидался ответа, от которого, быть может, зависела не только личная его судьба, но и участь великого московского княжения. Сейчас, получив весть от двоюродного брата, он боялся услышать правду.
– Читай! – протянул великий князь послание верному слуге.
– «Государь мой и старший брат князь Василий Васильевич Московский, живи в здравии. Спасибо тебе за послание, не забываешь ты меня своей заботой…»
– Читай дальше, суть хочу слышать!
– «Матушка шлет тебе поклон, справляется о твоем здоровии…»
– Главное читай! – сжал кулаки князь.
Прошка отыскал глазами то, чего ожидал услышать великий князь.
– «Государь мой, князь великий Василий Васильевич, где бы я ни был, всюду слуга твой верный. Но сейчас, прости, не могу пойти за тобой. Силой мне грозит Юрий Дмитриевич! Отписал мне третьего дня, что, если я за тебя вступлюсь, пойдет на меня войной. Но теперь нельзя терять мне свою отчину. Не хочу, чтобы матушка скиталась по чужим дворам неприкаянной. Прости меня, государь, на том кланяюсь тебе низко».
Растерял величие московский государь, будто его и не бывало. А бояре? А что с них взять! Служат тому, кто посильнее, вот только Прошка один и остался, да и то потому, что безродный и без племени.
– Что делать будем, великий князь?
Василий Васильевич посмотрел на двор, где молодка сыпала зерно набежавшим курам, и отвечал честно:
– Не знаю.
Неделю стольный град выдерживал натиск дружины Юрия Дмитриевича. Среди осаждавших был здесь и полк Ивана Можайского.
Воевода московский, Роман Иванович Хромой, плевал со стен на головы гонцам галицкого князя Юрия Дмитриевича и отворять ворота не велел. А потом, когда воевода, сраженный, упал, московские бояре распахнули ворота и вышли навстречу сыну Дмитрия Донского, держа в руках хлеб-соль.
Смилостивился Юрий Дмитриевич: простил всех бояр, а отважного воеводу повелел отпаивать травами.
Великих княгинь Юрий Дмитриевич видеть не пожелал. Приказал их вести по улицам через весь город. Горожане отворачивались, смотрели себе под ноги, не желали видеть позор Марии Ярославовны и Софьи Витовтовны. Не пряча лиц, они пешком прошли до самых ворот, где их уже дожидалась колымага, чтобы отвезти великих княгинь в заточение в монастырь в город Звенигород.
У самых ворот Марья Ярославовна посмела потревожить свекровь вопросом:
– Матушка, может, Василий забыл про нас?
Софья Витовтовна строго посмотрела на сноху и зло оборвала:
– Ты чего такое говоришь! Как это московский князь может о матушке и жене своей забыть? Не время ему сейчас! Вот соберется с силами, тогда… тогда и вернется в Москву. Подмогу он ищет, чтобы совладать с Юрием. Не старые времена, бояре новому князю служить не станут. А еще я брату отпишу. Не будет он к себе Юрия принимать. Вот попомнишь мое слово, один Юрий останется!



