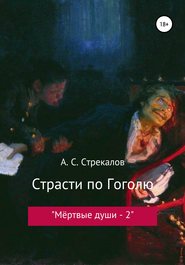
Полная версия:
Страсти по Гоголю, или «Мёртвые души – 2»
– Так вот и образовалась у нас в институте “мафия пионер-лагерная”, тлетворно-разлагающее влияние которой я, пришедший на предприятие в 1985 году, мог наблюдать воочию – уже по тому хотя бы, что некоторых своих молоденьких и симпатичных сотрудниц я, появившийся в отдел в середине августа, увидел лишь ближе к Новому году. Представляешь себе, работнички-итээровцы!… Они, пионервожатые-совместители, тогда только-только, помнится, из положенных им отгулов вышли – с мыслями летом опять в лагеря побыстрей умотать, от института, от науки подальше. Эта “мафия” крепко подмяла под своё крыло большинство молоденьких девушек-специалистов, среди которых были и техники, и инженера. И заставить девчонок-пионервожатых после этого работать ещё и в отделах, то есть заниматься своим прямым инженерным делом, прямыми обязанностями, было очень и очень сложно. Поверь. Невозможно даже…
После этого Валерка на “торгово-закупочную мафию” перешёл, которая у них, по его рассказу, образовалась так – передаю слово в слово, как слышал. Два предприимчивых парня из профкома однажды внесли на рассмотрение руководству НИИ следующее предложение: организовать доставку продуктов питания для сотрудников института прямо на предприятие – чтобы экономить их время и силы, освободить всех желающих от утомительного вечернего стояния в очередях в переполненных столичных торговых центрах.
«Посмотрите, что сейчас в наших магазинах-то делается! – не протолкнёшься нигде, к прилавку близко не подойдёшь в любом гастрономе, – резонно убеждали они одного из директорских замов, что за общие вопросы у них отвечал и транспорт. – Приезжие из областей всё как метлой метут, с утра там очереди за колбасой занимают, за мясом свежим, кофе и сыром. А нашим женщинам бедным, что весь день на работе сидят и пыхтят, космос вперёд двигают, ничего уже вечером не остаётся – одна ерунда и отходы, кости и требуха… Вот и давайте мы им поможем, мол, договоримся с магазинами, с директорами их, которых мы чуточку знаем. И будем потом за небольшие проценты продукты самые ходовые прямо в институт доставлять и тут распределять всё спокойно по отделам и по желающим. Представляете, какую услугу великую мы женщинам нашим окажем, как они будут дружно нас за это благодарить. Наценка самая что ни наесть пустяшная, а польза – во-о-о какая! – широко размахивали они руками перед носом растерянного руководителя, зомбируя и убаюкивая того. – Позвольте хотя бы начать, а там-де посмотрим…»
Заместитель директор подумал-подумал – и согласился. По словам Валерки, он, как и Кузнецов Виктор Иванович, тогда уже старым был, больным; и соглашался со всем, что ему подчинённые предлагали, лишь бы самому никуда не вмешиваться, в своём кабинете тихо сидеть и Бога молить, чтобы подольше с насиженного места не выгнали…
Ну и начались у них в институте дела: профкомовские деятели взялись за работу круто. Для начала договорились, чтобы им выделили машину, институтский РАФик с шофёром, да ещё и двух крепких мальчиков в помощь придали, приятелей-инженеров. После этого, собравшись у проходной, они вчетвером поехали утром по магазинам, с директорами которых предварительно установили связь. И те им под завязку забили машину продуктами за какой-то процент: колбасой сырокопчёной, сыром, консервами рыбными и мясными, сгущёнкой, чаем индийским и кофе, деликатесом короче, – которые в институте пошли на “ура”: выстроившихся в очередь сотрудников не смущали даже наценки.
Эксперимент удался на славу, и бригада, по рассказу напарника, стала мотаться по магазинам раз в неделю сначала, потом – когда два, когда и три. Закупала продуктов всё больше и больше, которые тут же и раскупались на предприятии, едва машина пересекала ворота их проходной… Довольные начинанием организаторы потребовали себе ещё людей из молодых сотрудников – в помощь. И люди пошли к ним охотно. Да и как не пойти-то, когда в рабочее время официальным порядком мотаешься по магазинам и всё себе там закупаешь, что только душе угодно, а уж потом остальным. Про магазины можно было забыть, которые становились для работавших коренных москвичей всю вторую половину 80-х годов проблемой.
Человек восемь, в итоге, как наседка цыпляток собрала под себя “торгово-закупочная мафия”; и не каких-нибудь старых “трухлявых пеньков”, слабоумных и бесперспективных, а здоровых молодых парней, инженеров-конструкторов по диплому и образованию, которым, опять-таки, уже не до работы стало, не до чертежей и программ. Торговля и левые деньги их как гнилое болото засасывали, как мясорубка, из которой выскочить и вернуться к профессии было уже тяжело. Все эти парни в начале 90-х в бизнес скопом рванули, в коммерцию; плюнули соответственно на космос, на институт, на обороноспособность страны, её благополучие, престиж и крепость, и не жалели об этом…
По похожей же схеме, по Валеркиному рассказу опять-таки, возникла и глубоко и надолго пустила корни у них и так называемая “книжная мафия”, отцом-вдохновителем которой, как Валерка, сам тому удивляясь, мне передавал, стал аж начальник сектора из отдела конструкторов, некто Александр Семёнович Слуцкий. Не последний человек в институте, если из должности исходить, не пустозвон, которому, как говорится, сам Бог повелел безвылазно сидеть за столом и руководить работой сотрудников… Но вот, однако ж, и он, прирождённый делец-махинатор, всегда напряжённо державший нос по ветру и почувствовавший уже во второй половине 80-х годов грядущие спекулятивно-торговые перемены, – и он также сумел убедить слабохарактерного заместителя директора, что неплохо было бы сотрудников института регулярно и художественными книгами снабжать, за которыми, мол, им ещё надо было бы по магазинам помотаться-побегать, ножки свои помять, в очередях попотеть-потоптаться. А он-де, добрая душа и за здоровье коллег-сотрудников неутомимый печальник, обязуется облегчить их труд и утомительную беготню отменить, – обязуется организовать, если коротко, бесперебойную доставку редких и дефицитных книг прямиком из магазинов на предприятие.
«Вы даже представить себе не можете, – лукаво и страстно убеждал он одного из руководителей НИИ, – как изголодались наши служащие по редким хорошим книгам, которых днём с огнём не достать и которые они все готовы по ночам от руки переписывать. Они ведь у нас не простые рабочие с заводов ЗИЛ или АЗЛК, а научные сотрудники и инженера, до знаний, до большой литературы охочие. Журналы, вон, газеты и брошюры разные прямо из рук друг у друга рвут, я же вижу, каждый новый номер до дыр зачитывают, до проплешин. Сколько им можно, в конце-то концов, скажите, ответьте по совести, как на духу, по публичным библиотекам бегать да в очередь там записываться за томиком Шолохова и Булгакова, за Есениным тем же – Поэтом милостью Божией, книжки которого там посетители изодрали и замусолили так, что и читать невозможно? А я им всё это достану, облегчу труд: у меня в книжных магазинах связи имеются. И ничего плохого здесь нет: куда сейчас денешься, без связей-то?! Согласитесь!… Да люди нам с Вами только спасибо скажут за это, поверьте, любые деньги заплатят за Шолохова и Есенина – уверяю Вас! Это такие кудесники и мастера великие и бессмертные, за творенья которых людям ничего не жалко будет отдать, ничего… Я, товарищ замдиректора, – итожил он, – настроения наших работников хорошо знаю: сколько лет уже с ними бок о бок тружусь…»
И он тоже, в итоге, разрешение получил и организовал бригаду, и тоже из молодых и шустрых, с которыми принялся регулярно – на институтской машине и в рабочее время! – по книжным магазинам мотаться, книги там закупать. Ему даже под это дело склад на первом этаже выделили, который довольно быстро заполнился почти до краёв, на котором несколько пудовых замков висело… За редкие книги, за классику ту же он тройную цену как правило брал, за собрание сочинений – и того больше. За произведения современных авторов брал две цены, и люди ему платили. Все они в институте получали приличные деньги по тем временам, а книги стоили дёшево, можно сказать – копейки. Вот люди и кормили этого упырька, Александра Семёновича, кривились про меж себя, но кормили. А потом запоем читали купленные тома прямо за рабочим столом: делать-то становилось нечего…
-…Впрочем, – итожил вводную часть нашей с ним первой ночной беседы Валерка, стараясь в рассказе, как я заметил, предельно объективным и справедливым всегда оставаться, выдерживать ту “золотую серединку”, вне которой искренний рассказ его быстро превратился бы в злобные поношения и сведение счётов, – впрочем, если уж быть до конца откровенным – должное этому нашему деятелю надо отдать – Слуцкому Александру Семёновичу. Книги он привозил действительно редкие, за которыми ещё надо было бы побегать и поискать. И ещё не факт, что найдёшь и купишь… Я, например, десятитомник Леонида Леонова за три цены у него, помнится, приобрёл, автора «Русского леса», как и собрания сочинений Гоголя, Лермонтова и Шукшина; и остался доволен этими приобретениями. И я в институте своём был не единственным покупателем… Поэтому-то помощников и просителей разных много крутилось возле него, которые привезённые книги на склад и со склада таскали. За это он им товар по магазинной цене продавал, и были они все счастливы…
8
После этого наступила затяжная пауза в разговоре: Валерка устал. Я предложил ему восстановить силы – допить оставшуюся бутылку «Смирновской», на что он с радостью согласился, с удовольствием опрокинул предложенный ему стакан, кусок колбасы в рот засунул. Прожевав и проглотив её, он опять за сигареты принялся, которые не выпускал изо рта как грудничок соску. Я заметил, что он очень много курит: в течение рассказа штук десять, наверное, уже выкурил, опустошив свою пачку «Явы», которая с вечера полной ещё была.
Я, видя это, что ему курить нечего, достал и предложил свои: «Приму» дешёвую, которую всегда смолил, и в Москве и на родине, экономя деньги. Он отказываться не стал, не побрезговал и не покривился; и, видимо, в благодарность за угощение, принялся дальше лекцию мне про свой оборонный НИИ читать. Благо, что до пяти утра времени ещё было достаточно.
–…Помимо перечисленных стихийных образований были у нас на предприятии, Витёк, ещё и партком, и профком, и комитет комсомола, – устало стал рассказывать он, весь прежний задор ближе к утру растратив, – которые также притягивали к себе молодых людей, сбивали их с панталыку… Среди коммунистов, правда, молодёжи не наблюдалось; и проводили они все свои ритуальные шабаши-сборища во внерабочее время, как правило, дисциплину не нарушали – чего не было, того не было, не станем на них, канувших в Лету, напраслину возводить. Но уж зато на самой работе эти партийные деятели образца 70-х-80-х годов не напрягались, не упорствовали как некоторые, для которых работа была всё, единственным предназначением и смыслом жизненным… У товарищей-коммунистов же смысл был другой – “светлое советское будущее”. Его они исключительно своим слово-блудливым языком “приближали”, цитатами надоедливыми из партийных и съездовских постановлений-программ, назойливой пропагандой и пустозвонством, граничившим с самообманом и помешательством. Ходили по институту важные и надутые как индюки, смотрели на всех сверху вниз, любимыми Марксом, Энгельсом и Лениным словно стальной бронёй свою душевную пустоту прикрывая, непрофессионализм, ничтожество и убожество. И начальство наше работой особенно не загружало их – потому что не имело возможности, если что, с них эту работу жёстко потребовать. Тем более, наказать. Никто тогда, перед крахом СССР, с могучей партийно-государственной машиной не хотел связываться: себе бы дороже вышло. Вот члены КПСС, и рядовые, и высокопоставленные, и бесчинствовали…
– А вот комсомольцев, смену коммунистическую, на работе было сложно найти: у этих сборища и собрания ни края, ни конца не имели, ни ограничений по времени. Чтобы в будущем настоящими коммунистами стать, верными марксистами-ленинцами, им надо было крутиться-вертеться юлой, учиться проходить сквозь игольное ушко что называется. Штудировать день и ночь классиков и «Манифест…», партийные наказы и директивы читать и держать в уме постоянно, материалы тех же съездов: быть в курсе всего, короче, что касается партии… К инженерии, правда, их основной специальности, к тематике НИИ это отношение не имело, – ну так они инженерами и не собирались быть: вот в чём вся штука-то! Они все как один, бывшие упёртые ортодоксы-комсомольцы наши, грезили о большой партийной карьере, о лаврах членов Политбюро и ЦК, если уж про их идеалы упоминать, которые, лавры, пуще вина и водки кружили их молодые головы…
– В профкоме также жизнь кипела вовсю, и там от обилия молодых парней и девчат было не протолкнуться, которые туда как в Церковь на праздники хаживали – за милостынями к попу… И это было абсолютно естественно и понятно: там царили, правили бал их величество Дефицит, Халява и Дармовщина. Понимай: ставили в очередь на квартиры, распределяли путёвки в дома отдыха и санатории, на Новогоднюю ёлку билеты, выписывали материальную помощь нуждающимся, земельные участки под дачи особо-ценным кадрам “из-под полы” выделяли, да много ещё чего. Профком есть профком – настоящий Клондайк при советской власти, волшебная шкатулка с подарками, с “ништяками”. Чего мне тебе объяснять-то, трудящемуся человеку! Попасть работать туда, если помнишь, или же просто заходить раз от разу и плакаться было делом крайне полезным и выгодным. Всем. Вот и слетались туда все институтские нытики, плаксы, халявщики и прохиндеи – как мухи слетаются на дерьмо. Как ни зайдёшь туда – всё они там кучкуются и шушукаются, проворачивают Дела; или же “полезно общаются” – по-ихнему, по-деловому… А наш профком в этом плане, плане левых доходов и дел, плане наживы, был вообще заведением удивительным, если не сказать уникальным; был этаким предприятием в предприятии или закрытым элитным клубом, со своими негласными правилами и нормами поведения, со своим же достаточно жёстким уставом, который там соблюдался неукоснительно всеми членами, счастливыми обладателями профбилета, чуть ли не по наследству передавался как знамя полка. Как и должность самого председателя, к слову. Представляешь себе!…
– Как это? – напрягшись, сначала даже и не понял я мысли напарника, не врубился, как следует, не догнал. – Что ты имеешь в виду, Валер, поясни?… Я ведь на заводе 17 лет отработал. И у нас там, правильно ты говоришь, тоже профком имелся, куда я за путёвками в пионерские лагеря регулярно бегал, за материальной помощью. И всё всегда получал… Или, почти всегда, скажем точнее. И ничего такого особенного не замечал, чтобы там какой-то особый порядок существовал, жёсткие, как ты говоришь, уставы, правила и законы.
– Ну-у-у, не знаю, Вить, что в вашем профкоме делалось, спорить не стану. Тебе, как говорится, видней. Но что творилось у нас – я хорошо уяснил: в течение десяти лет мог воочию наблюдать тамошние порядки… Я, помнится, когда только пришёл на работу в августе 85-го, – так вот у нас тогда председателем профкома Озимова работала Татьяна Исааковна, красивая породистая еврейка, холеная, дородная, гладкая – бой-баба, как про таких говорят, и одновременно зефир в шоколаде. Она мне уже тем запомнилась и запала в душу сразу же, что на меня как на вошь смотрела при встречах, именно так; да ещё и ехидно ухмылялась при этом, и как-то уж очень зло. Непонятно почему даже: ведь мы никогда не пересекались с ней, не были знакомы прежде; и я к ней ни за чем не ходил, не скандалил и не нарывался… Ну да ладно, сейчас не об этом речь, а о том, что на неё уже и тогда, осенью 1985 года, завели уголовное дело следователи прокуратуры за какие-то там дела-аферы, которые она на нашем предприятии прокручивала: квартирами торговала вроде бы в новом кооперативном доме… Но посадить её не смогли, естественно: она быстренько собрала вещички и умотала с мужем в Израиль, откуда её было уже не достать. Оттуда вообще никого достать невозможно, как известно: для того евреи его и задумывали и создавали после Второй Мировой войны, этот свой разлюбезный Израиль, “землю обетованную”, чтобы прятаться там ото всех, отлёживаться в тепле, жирок наедать, быть неподконтрольными и неподсудными для мировой Фемиды. Повторять тот Вселенский позор, связанный с делом Дрейфуса сначала, а потом и Бейлиса, им уже не охота, понятное дело, терпеть от вонючих гоев препятствия и неудобства…
– Вот и она туда умотала в 1985-м году с наворованными миллионами, эта наша Татьяна Исааковна. И вместо неё председателем профкома у нас стал другой наш еврей, Серёжка Соболевский, тихий и скрытный, культурный, аккуратный такой мужичок 33-летнего возраста, полная противоположность бешенной и нахрапистой Озимовой. Он с людьми держался попроще и поскромней, здоровался со многими за руку, и со мной тоже, милость мне этим как бы оказывал, снисхождение. Но и он, тихоня и угодник, левыми делишками баловался-промышлял, как говорили, – куда же евреям без них? Правда ведь? Без леваков и афер они уже как бы и не евреи станут, а так, обыкновенные русские лопухи, которых повсюду много и которых все клюют, унижают и обирают… За это их, к слову, я евреев имею ввиду, можно похвалить и простить – что породу свою не портят, и к голосу сердца прислушиваются, к голосу крови…
– Короче, пять лет этот Серёжка у нас после этого проработал профоргом, или чуть больше – не помню уже. Помню только, что ушёл он от нас в «Газпром», который тогда создавался и набирал обороты, и куда его родная сестра сманила на деньжищи немереные и несчётные, дурные… И после его ухода, подумай, Вить, и подивись, председателем профкома нашего стал Лёвка Ковалёв, опять-таки чистокровный еврей, который у нас всего два года до этого только и проработал и был “зелёнкой” по сути, или же “помазком”, как в армии про таких говорят; был человеком совершенно случайным, чужим, которого большинство сотрудников нашего института ещё и в лицо-то не знало, не успело как следует познакомиться и разглядеть… Но вот председателем профкома, однако ж, он, тем не менее, стал. Представляешь себе, какие у нас на предприятии чудеса-дивиса творились: должность председателя профкома была у наших местных евреев наследственная.
– А что, у вас в профкоме одни евреи только и были что ли? – удивился я.
– Да нет, конечно же, в том-то и дело что нет. Были и русские, и татары, и мордва. Но в председатели попадали исключительно одни евреи только по какому-то негласному указанию. Кто за этим строго следил? – Бог весть! Но то, что следили – точно… Я про Лёвку Ковалёва этого тоже ничего плохого сказать не могу: нормальный обходительный был паренёк, вежливый и приветливый. Не было в нём ни агрессии, ни хамства врождённого, патологического, которыми Татьяна Исааковна славилась, за что её у нас многие на дух не переносили. Мне лично он, Лёвка, где-то даже и нравился. Я с ним с удовольствием всегда останавливался в коридоре или на улице, помнится, разговаривал, совета спрашивал иногда по разным житейским вопросам, в которых они, евреи, непревзойдённые знатоки, лучше них в которых никто и не разбирается-то, наверное: я это давно заметил. И он мне, не чинясь, рассказывал, помогал. Что было, то было: чего тут темнить и кривляться-то… Но только всё равно было видно и невооружённым глазом, что живём-то мы с ним будто бы в разных мирах, и между нами – стена или пропасть; что разговоры эти наши с ним – поверхностные и ничего не значащие. Так, для галочки, для проформы больше, для вида. Что, всё равно, другом его я никогда не стану, хоть весь наизнанку перед ним вывернусь, всю душу ему задаром отдам. И в свою еврейскую мафию или клан он меня никогда не впустит, нечего даже и говорить и мечтать об том; что вход туда для меня, Ванька сиволапого и простоватого, надёжно и плотно закрыт, навеки, можно сказать, заказан…. И эта-то невидимая стена, Витёк, которой они от нас ото всех сознательно и очень настойчиво отгораживаются, сильно меня всегда раздражала и против многих евреев настраивала. Хотя, повторюсь, отношения у меня с Лёвкой, если со стороны судить, были самые что ни наесть приятельские…
– Лёвка этот, к слову сказать, тоже недолго у нас проработал: в начале 90-х годов в «Газпром» на службу ушёл, под крыло к закадычному своему дружку Соболевскому, к огромным получкам тамошним. И вместо него, прикинь, наш осиротевший профком еврей вновь возглавил, Венька Исаев, который в нашем институтском архиве лет десять уже до того болтался, папки там с документами подшивал и паутину со стеллажей смахивал. Вот его-то, бездельника и невежду, и назначили на освободившееся место. Прямо как по заказу! И это происходило, заметь, в начале 90-х годов, когда наш институт прямо-таки на глазах разваливался и разлагался вместе со страной, когда снабжение и зарплата на порядок уменьшились, людишки когда от нас побежали гурьбой как крысы с гиблого места, и тащить и приватизировать на предприятии уже вроде как стало нечего… Но даже и после этого должность председателя профкома оборотистые и дальновидные евреи сознательно за собой берегли – на всякий пожарный, как говорится. Мало ли, мол, куда дальше жизнь повернёт: чего такими хлебными должностями разбрасываться! Они в этом отношении молодцы: на десять шагов вперёд события видят и просчитывают – и подстраховываются. Потому-то исподволь и правят миром со времён Адама и Евы, заставляют всех на себя пахать. А сами только сливки снимают с чужих кропотливых трудов. Молодцы, да и только!…
На этом наш первый откровенный разговор тогда и закончился сам собой: Валерка очень устал ночь целую сидеть и языком чесать, который у него к утру уже еле ворочался. Я его понял и не обиделся – потому что и сам уже слушать его устал, новую информацию поглощать и переваривать.
А, между тем, за окном уже стало светать, и мы из будки нашей накуренной вышли на улицу – проветриться и освежиться. А в пять часов одна за другой на Горбушку начали прибывать машины с товаром: утренний завоз начался. И мы с напарником закрутились юлой, забегали от машины к машине как заводные. И длилось такое наше мытарство до восьми утра ровно, когда другая бригада пришла, дневная, и нас на воротах сменила. Мы с Валеркой переоделись в подсобке и смертельно усталые пошли по домам. Он – на Новозаводскую улицу. Я – на Большую Филёвскую… На пересечении улицы Барклая с Большой Филёвской мы попрощались и расстались быстро, без сожаления и сантиментов; чтобы через пару деньков опять на воротах встретиться…
9
В следующую нашу с ним смену мы были с Валеркой уже не разлей вода; если и не друзьями крепкими, то приятелями. Прошлая по душам беседа и его исповедь пьяная даром для нас не прошли – здорово меня с ним сблизили-соединили, окончательно и бесповоротно разрушив меж нами тот незримый психологический барьер, что неизменно и неизбежно возникает между людьми в первые дни знакомства. Валерка, и это было заметно и невооружённым глазом, проникся ко мне уважением, а я к нему. Мы оба расслабились в компании друг с другом, приняли нормальное естественное положение в общении и разговорах, что было обоим на пользу только, в радость и удовольствие…
Поэтому-то всю смену мы отработали на одном дыхании, ни разу один на другого косо не посмотрев, не прикрикнув и не заругавшись, тем более, даже и не повысив голоса. Всё у нас катилось само собой – на автопилоте будто бы. Пока я, допустим, поднимал шлагбаум и сличал документы водительские, сопроводительные справки и накладные, он уже по кузову очередной машины ловко так шарил-шнырял, проверял там товар наличный. А если он подходил к шлагбауму – то я, не задумываясь, в кузов лез по собственной воле, сам там всё осматривал и ворошил, как по инструкции полагается. В общем, работать нам было с ним уже не в тягость, а в радость, служебные обязанности выполнять. Так только в крепких любящих семьях обычно бывает, когда супруги понимают друг друга без слов, по одним только первым порывам и жестам.
А в два часа ночи у нас с ним опять был трёхчасовой перерыв, во время которого он сам ко мне подошёл, закурил сигарету, задумался; после чего сказал следующее:
– Я тебе в прошлый-то раз про свой институт довольно подробно рассказывал, помнится, про диковинные порядки в нём. Ну, как прибывавшую на наше предприятие молодёжь по разным злачным образованиям с первых недель и месяцев растаскивали лихие люди, по “мафиям” так называемым, от работы этим молодых парней и девчат отбивая, от космоса. Который им всем довольно быстро становился не интересен, не люб, не важен даже… Так оно всё и было на деле, поверь, Витёк, точно так. Не думай, что с моей стороны это были пьяные выдумки-бредни. Молодёжь действительно отбивали-отваживали от работы всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Клянусь! У нас это становилось законом, по сути, системой… И это было ужасно, как ты понимаешь, – ведь институт оставался без будущего, без надёжной смены, которую руководители наши состарившиеся сами же развращали и гробили на корню подобными псевдо-либеральными порядками и вольницей… И такое происходило повсюду в нашей стране в 80-е годы, в любом КБ и НИИ подобный бардак и разложение в научной и инженерной среде процветали! Многие сотни тысяч юных парней и девчат, молодых специалистов так называемых, выпускников техникумов и вузов, болтались годами без дела, без будущего – и за это получали зарплату и премии регулярные, огромные суммы денег получали на руки за здорово живёшь, которые они не зарабатывали и не заслуживали, которых не достойны были. Совсем-совсем… Невозможно теперь сосчитать даже и приблизительно, какие деньжищи немереные выбрасывались на ветер в Советском Союзе в последние его годы, делом, отдачей не подкреплённые; как уже одним только этим мы разоряли и убивали сами себя, пускали по миру…

